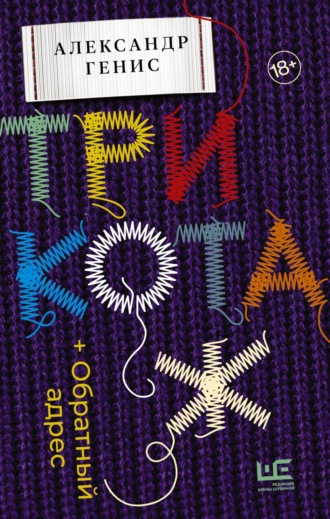
Александр Генис
Трикотаж. Обратный адрес
Вести с Марса
Отец мой всегда стремился к свободе, но часто путал ее с вольностью, причем нравов. Он легко нравился женщинам, потому что был летчиком, вернее, ходил в том же мундире. Не рвавшись к небу, он рассказывал о нем курсантам, ценившим отца за либерализм и бороду.
Все, что относилось к оппозиции, связывалось воедино в его длинной голове, из-за которой отец казался выше всех родственников, что, впрочем, бы- ло несложно. В его жилах смешалась кровь бедных портных Гуроков и богатых купцов Генисов, которых на Подоле знали с плохой стороны. Они слыли хулиганами. Мой прадед за завтраком выколол вилкой жене глаз. Ссора забылась, а традиция нет. Однажды, еще в Рязани, отец заснул за рулем, произошла авария, и мама потеряла глаз.
От Генисов нам не осталось ничего, кроме странной фамилии. Ее первую букву остряки всегда переправляли на “П”. Так я заинтересовался латынью и пошел ее изучать на русское – за неимением классического – отделение филологического факультета Латвийского государственного университета имени Петра Стучки. Сейчас, говорят, из всего названия уцелело меньше половины. Даже здание раскололось, как дом Эшеров: трещина прошла от крыши до столовой. Но латынь, в отличие от Стучки, на прежнем месте. В мое время она начиналась уже в уборной. Войдя туда впервые, я прочел на стене: Fortuna non penis. Посчитав знакомое слово добрым предзнаменованием, я вышел из сортира с поднятой головой.
Поскольку латынь я открыл вместе с половой зрелостью, то Цицерон мне, как Онегину, нравился меньше Апулея, тем более Петрония. Вылавливая у классиков пикантности, я купил большой латинский словарь, потому что в малом не нашлось перевода слову mentula, которое значит то же самое, что и моя фамилия, когда ее пишут образованные хулиганы.
Античную похабщину отличало от обыкновенной безразличие к греху. Это совсем не то же, что чреватая раскаянием бесшабашность грешника.
Обычно дар безгрешности проявляется в тюрьме и окопах. Похоже, только там можно научиться встречать день так, как это делал Швейк в полицейском участке: “А здесь недурно, – сказал он, потягиваясь, – нары из струганного дерева”.
Признавая право пороков на существование, античные авторы исходили из того, что пороки есть, и с этим ничего не сделаешь. Неизбежный, как дождь, грех не рассчитывал на искупление, ибо даже боги не могли изменить прошлого, а будущего у древних не было. Вернее, было, но они старались о нем не думать, потому что твердо – в отличие от нас, агностиков, – знали, чем все кончается. Их будущее уже состоялось. Оно ждало их, подобно узору, выписанному вечными звездами в черном небе.
Понимая, что нельзя исправить свершившееся, они искали к нему удобную дорогу, видя предзнаменование во всем, что встречалось по пути. Не следовать ему означало мешать будущему. Поскольку это никому не под силу, оно все равно свершится, но уже самым неудобным образом.
Суеверия – простая вежливость по отношению к судьбе. Я, конечно, не верю в приметы, но и мне не остается ничего другого, как следовать им, потому что наши боги не говорят по-русски, хотя и понимают.
В Берлине я подружился с одним историком. Как всех немцев, его звали Шиллер. Автор мириада книг, он знал о России несравненно больше моего, и поразить его мне удалось лишь напоследок, когда мы уже выходили с чемоданами из украшенного иконами дома. Прежде, чем переступить порог, я машинально сказал:
– Присядем!
– Вам нехорошо? – с тревогой спросил Шиллер.
– Нет, с чего вы взяли?
– А зачем же мы садились?
– На дорогу.
– Чтобы – что? Зачем садиться, если надо ехать?
– Но так принято.
– Я понимаю, что принято, – закричал хозяин, – я немец, а не идиот, я не понимаю – почему?
– Я не знаю! Деды сидели, прадеды – вплоть до Рюрика, – наврал я для убедительности.
Услышав знакомое, Шиллер затих, но до вокзала шевелил губами.
Я верю в приметы не больше, чем в алфавит. Но и не меньше. Все авторы в душе каббалисты, тасующие знаки в надежде набрести на скрытую истину.
Как анекдоты, приметы созданы человеком, но неизвестно – каким, и неясно – почему. Анонимность сближает их с религией, таинственность – с поэзией, практичность – с жизнью. Понуждая нас к нелепым поступкам, суеверие, как любовь, рождает собственную логику, притворяющуюся оборонной.
Однако приметы не спасают от будущего, а лишь указывают пути к нему. Укрыться от будущего можно только в настоящем. Для этого надо по секундам отшелушить от текущего малейшую примесь грядущего. Упраздняя время, человек становится неуязвим и называется буддой, но они встречаются редко. Я знаю только одного, из Нью-Джерси.
По латыни “жить мгновением” называется carpe diem. Я выучил это из Горация специально для несговорчивых однокурсниц. Увы, даже им этот язык казался мертвым. От их равнодушия я лечился по Лукрецию: “доверяя любовные раны доступной Венере”. Ими у нас считали фабричных девиц. Коренастые и упорные, они всегда мерзли, потому что одевались согласно намерениям, не зависевшим от сезона. Их мечтой был брак с сержантом. Как белобилетчик, я не представлял интереса, и нам с трудом удавалось скрыть обоюдную ненависть, которая ничуть не мешала искренности моих порывов. Я не видел в этом противоречия, считая, что девицы владели тем, что, как воздух, принадлежало им лишь отчасти. Бесплатный и невидимый, Эрос помещался не внутри, не снаружи, а между нами – словно надутый шар, твердевший по мере сближения.
Безличность этой, как, впрочем, и любой другой физики, казалась оскорбительной, но не настолько, чтобы ею пренебрегать. Каждый, кто углубляется в предмет своей страсти, теряет представление о времени. Попав в клещи, время маятником марширует на месте, вырабатывая запас настоящего – изрядный, но недостаточный. Наполеон будто бы обещал империю тому, кто сумеет утроить этот самый запас. Но наверняка я не знаю, потому что слышал об этом от Шульмана.
Шульман никогда не врал, но был доверчив. Как должное он принимал даже верблюда, получившего звание Героя Советского Союза за переноску грузов во фронтовой полосе. Шульман верил всему, что слышал, или, тем более, читал. Не доверял он только своим глазам. Сырая реальность увиденного казалась ему недоступной, как звездное небо. В ней не было сюжета, а нерассказанного для Шульмана не существовало, и путешествовал он, зажмурившись, как выяснилось на Гавайских островах, где я видел извержение вулкана. Не полагаясь на политику, он каждый день увеличивал территорию США на 3 квадратные мили.

Дома, делясь впечатлениями, я огорчил Шульмана.
– Да, – сказал он горько, – это ж надо – такое увидеть.
– Ты ж рядом стоял!
– Ну?! – изумился Шульман – и тут же обо всем забыл.
Зато ничего не забыл Пахомов. С тех пор он обзывал меня туристом. Сам он знал все, но любил немногое. В кино ему нравились мясистые ляжки, в ресторане – тоже, но куриные, хотя критики и называли Пахомова людоедом. Выходя из дома лишь по нужде, он презирал передвижения тела и странствовал умозрительно – чтобы питать сварливую душу. Греков Пахомов уважал за то, что они открыли гомосексуализм. Римлян терпел из-за Бродского. Китайцев боялся, японцев игнорировал. Стоит ли говорить, что пахомовский сын женился на японке, и скоро у них пошли белокурые и узкоглазые дети. Пахомов безропотно гулял с внуками, научившись прятать в коляске пиво.
В отличие от Пахомова мне нравилось все, начиная с государства Урарту, которым открывался наш школьный учебник с фантастическим названием “История СССР с древнейших времен”. Экзотика грела надеждой диалога. Мне было все равно, с кем говорить, я жаждал чуда и ждал его отовсюду – от букваря до географии, которую мне уже в 1-м классе открыли марки. У нас их собирали все, кроме меня. Экономя, отец уговорил меня отдаться коллекционированию спичечных этикеток. Они продавались сотнями, но раздражали линючими красками и небогатым содержанием.
Филателистский рынок жался к темным подворотням и проходным дворам. В нем все отдавало беззаконием – сомнительность товара, недобросовестность продавцов, а главное – тариф обмена, приравнивавший три Польши к одному Камеруну. Колонии, понятно, ценились больше, хотя их марки часто изображали каторжный инвентарь. Уганда, помнится, выбрала тачку.
В этих вольных краях мои жалкие этикетки не возбуждали страсти, и меняться ими было решительно не с кем. Попав впросак, я вышел из положения, обратившись к знаниям, которые сделали меня консультантом марочных баронов. Над моей кроватью висела политическая карта, и, засыпая, я зубрил мелкие государства Океании. Зато рыночные законы я открыл сам. Успех коллекционеров определялся богатством и уравновешивался силой: лучшие марки доставались предприимчивым и отбирались второгодниками. Я был нужен и тем и другим, ибо знал все страны мира. Без исключения. Я до сих пор помню, каким был главный город Французской Гвианы, но теперь меня уже некому проверить.
Достигнув вершины, я не ценил счастья и плакал от невозможности увидеть мадагаскарскую столицу Тананариве, хотя брат Гарик назло мне вычитал в энциклопедии, что она в 12 раз меньше Рязани. Я никогда ему не верил и обставлял дальние края согласно собственным соображениям.
Завоевав твердое положение в темных коридорах власти, я злоупотреблял им, создавая собственную шкалу ценностей. Она опиралась на сугубо непроверенные слухи об экзотичности той или иной местности. Превосходя меня невежеством, клиенты не смели жаловаться, тем более что сам я марок не собирал и врал бескорыстно.
Как это часто бывает, все погубила свобода. Вдруг рухнули цепи колониализма, и карта мира стала меняться быстрее, чем выходят газеты. Не поспевая за переменами, я сдался, хотя меня и отговаривал Гриша Махлис. Он любил мои домыслы и, пробегая сто-метровку за 12 секунд, наживался на них безнаказанно.
Отец Махлиса был высотником. Где он работал, я не знаю, потому что единственный в Риге небоскреб принялись строить до меня, а закончили после, но до того, как было принято решение его взорвать, чтобы украсить город к юбилею. Так или иначе, старший Махлис был передовиком, а младший – двоечником. Но вскоре судьба перевернула доску, и отца посадили, а сын стал учиться на “хорошо” и “отлично”. Грише помогли те же качества, что погубили его папу, – быстрота и находчивость. Разбогатев на марках, Махлис собрал в нашем классе интеллектуальный кулак, выполнявший за него домашние задания.
Меня Гриша заманил стержнем от шариковой ручки, которым я написал за него сочинение “Делать жизнь с кого”. Гриша хотел – про отца, но тот еще сидел, и я предложил профессора Доуэля. Чтобы не спорить, сошлись на Матросове.
Гриша тоже любил риск. В 10-м классе он отправился в Сибирь с вагоном подпольных маек. На груди у них было написано Harvard, на спине – Fuck you с ошибками. В Сибири особо не присматривались, и Гриша вернулся с такой прибылью, что на выпускную фотографию снялся в черных очках.
Окончив школу, приобретя диплом и подкупив ОВИР, Махлис уехал в Америку, где так свирепо разбогател, что потерял нужду в работе. Оставшись без дела, Гриша вновь взялся за марки, из-за чего вся его бурная жизнь попала в скобки, содержимое которых можно выкинуть из предложения без особого вреда для его смысла. Экзотика, впрочем, на Грише отыг- ралась: он женился на китаянке и научился есть палочками фаршированную рыбу.
Китайцы мне нравились. Они казались марсианами, что и не удивительно. Пахомов считал марсианами евреев, Шульман – негров, отец – коммунистов. Каждый населял землю пришельцами, называя своими лишь тех, кого знал, понимал и ненавидел. Остальные были другими – непредсказуемыми.
Любуясь спящим Геродотом, я часто думаю, что настоящего кота от плюшевого отличает лишь способность к произволу. Мы любим его за свободу воли, включая и злую. Гарантированная добродетель безжизненна. Впрочем, вряд ли бы мы стали держать Геродота, если бы он принялся рассуждать. Людей и без того много. Лишь соблюдая в инакости меру (рассыпая крупу, но не играя в карты), кот отрабатывает свое место у камина.
Китайцы блюли иную меру и были другими радикально. Часто наведываясь к фанзе, я никогда не заставал хозяина дома. Постепенно я привык считать ее своей. Мне так хотелось быть китайцем: не пить молока, не есть горячего и всегда отличать восток от запада.
Если бы я был китайцем, я бы спал в горах, писал стихи на скалах, смотрел, как растут сосны. Не страшась перемен, я бы следил, как вещи жмутся к своему корню. Зная концы и начала, я бы любовался превращениями. Собирая листву, я бы учился мнимости ее беспорядка. Говоря с друзьями, сидел бы поодаль. Я бы жил в окружении богов, которые верят в меня больше, чем я в них. Я бы думал редко и не делал ничего такого, чего делать не стоило. И того, что стоило, не делал бы тоже.
Беда в том, что я не знаю, как живут китайцы, хо- тя догадываюсь, зачем. Единственными китайцами в моей жизни были японцы, но я им об этом не рассказывал. Меня и так прозвали в Токио “любопытным варваром” за то, что я не боялся ездить в метро.
Ближе всех в Японии я сошелся с переводчиком Сагияки-сан, который просил называть его Семой. Широко понимая славистику, он говорил на всех языках – польском, армянском, английском. С японским было сложнее. Это выяснилось, когда он пригласил меня в свой любимый ресторан “Волга”, где мы ножом и вилкой ели борщ и искали общий язык.
– Вы не знаете, – льстиво завязывал я беседу, – как пройти на Фудзияму?
– Понятия не имею.
– А сумо? Вы любите сумо, как я?
– Ненавижу.
– Может быть, театр? Что вам дороже – но или кабуки?
– Ансамбль Моисеева.
– Тогда – природа: сакура, бонзай, икебана?
Сагияки-сан выпил саке, закусил гречкой и ласково спросил:
– Часто водите хоровод? Давно перечитывали “Задонщину”? Играете в городки? Сын ваш – Еруслан? Жена – Прасковья? Сами вы – пскопской?
– Рязанский, – сказал я, приосанясь, но добавить к этому было нечего, и мы перешли на водку.
Домой мы вернулись друзьями. Распевая “Но я Сибири не страшуся”, Сагияки-сан с трудом вписывался в изгибы дорожки, огибавшей университетский пруд причудливых очертаний.
– Раньше здесь была усадьба самурая, – объяснил вожатый, – жестокий самодур велел придать водоему очертания иероглифа “кокоро”, что означает “сердце”.
Я вернулся к пруду на рассвете. Из зеленой воды выглядывали лобастые золотые рыбки. Возле лотосов плавали презервативы. Мне всегда казалось, что экзотика может что-то прибавить, но тут скорее следовало кое-что убрать. И это наводило на мысли.
Полнота мира избыточна. Она заведомо больше того, что мы способны понять. Я бы даже сказал, что по-настоящему мы можем познакомиться лишь со съедобной частью мира. И это значит, что нам не дано вступить в плотский контакт с большей частью Вселенной. Однако чем один предел лучше другого? Разве тайны ночью темнее, чем днем? Скорее – наоборот. Во сне мы путешествуем дальше, молчание вмещает больше слов, и нам часто нравится жить на ощупь. Я не завидую слепоглухорожденным, но догадываюсь, что их мир экзотичнее Голливуда. Пахомов, отказывавший себе во всем, кроме пива, утверж- дал, что только ограничения создают человека.
Тем более – женщину. Излишества их анатомии меня будоражили куда меньше того, чего им не хватало. Тайна зияния смущала, как ноль: он был всегда, но не все об этом знали. К нему вели все пути, и все с него начинались. При этом сам он не представлял собой ровно ничего, заслуживающего внимания. За- то пышно, как сорняки, цвело то, что его окружало. Искусная эскалация сулила небывалое, но вела никуда, ибо конечная цель была, в сущности, началом – именно потому там ничего и не было. Твердо зная, чего лишены, и не твердо – чем обладают, женщины служат рамой пустоте. Приняв облик, мало отличающийся от нашего, они не доступны разуму. Мы наслаждаемся, отдавая. Про них не известно ничего, кроме того, что они другие.
Беседуя с женщинами, я не верил ни одному слову, зная, что затаившаяся в них природа говорит молча и не о том. Прислушавшись, я полюбил женщин целиком, не переставая надеяться, что они с Марса.
Рассчитывая в этом убедиться, я женился.
Маугли
Над Гудзоном умело парила чайка. Она не уступала напору и не поддавалась ему, а использовала сопротивляющуюся струю, как поэт – язык, чтобы перемещаться в нужном направлении. Дело, конечно, не обходилось без компромиссов, и чайка передвигалась галсами. Идя к цели боком, она все-таки приблизилась к ней, сохранив при этом достаточно сил, чтобы убить угря. Взлететь с ним она не могла, бросить не хотела. Крича от обиды, чайка уселась на труп, не давая ему уйти под воду. Почти тут же к обеду присоседилась соперница. Устав выяснять отношения, чайки ненадолго задумались и открыли коммунизм: они схватили угря за разные концы и дружно поплыли с ним к берегу. Вытащив рыбу, птицы с подозрением посмотрели на меня: лишний рот им был ни к чему, и я ушел, чтобы не мешать пиру.
– Анархия, – сказал я им на прощание, – мать порядка.
Дома я эту мысль выразил следующим образом:
– Ы, потом, ы-ы – и бам!
– Филолог! – сказала жена, но все поняла, ибо, защищаясь от окружающего, мы научились обходиться своим языком, как пара состарившихся на чужбине Маугли.
По утрам мы ведем чистые беседы. Обычно я сперва спорю, а потом соглашаюсь, не давая ей открыть рта. Но мы привыкли, потому что познакомились на первом курсе. Сперва я принял ее за доярку. На ней были практичные резиновые сапоги. Училась она лучше всех. Ей было все равно – латынь, латышский, хоть “Диалектический материализм”, который мне никак не давался. Неосторожно подкованный Шульманом, я начинал Гегелем, а кончал двойкой.
Теперь-то я понимаю правоту моих учителей. Мне ленинские слова казались сутрой, им – мантрой. Я хотел толковать, они – цитировать. Ревность к чужой мудрости толкала меня ее дополнить, но так можно научиться только тому, что знаешь.
Ее это, однако, не огорчало, потому что она не принимала всерьез науки, считая их равно бессмысленными и одинаково полезными. Веря, что любое знание прорезает извилины, она не отличала астрономию от астрологии и историю от “Истории КПСС”. Я же подозревал истину во всех предметах, но особенно в “Устном народном творчестве”. Во-первых, мне нравилось армянское радио. Во-вторых, нам предстояла фольклорная практика, которую я предвкушал с томлением.
Вышло так, что на курсе я был единственным мужчиной, хотя это и сильно сказано. Другим был Шульман, но Шульман в счет не шел – он слишком рано вырос. Октябренком Шульман играл в баскетбол. В пионерском лагере отрастил бороду. Он еще не успел стать комсомольцем, как ему уступали место в трамвае. Однако к 8-му классу он перестал расти и впал в детство.
В университете выяснилось, что Шульман разу- чился плавать и принялся сочинять стихи, которые красили только девочек. Особенно одну. Ее даже звали, как пишущую машинку: Эрика. К тому же на практику Шульмана не пустили родители, так что со всеми девочками мне пришлось остаться наедине. Добром, надеялся я, такое кончиться не могло.
Отведенную на постой школу мы поделили надвое. Мне достался спортивный зал. В одном его углу стояло пианино, в другом – скелет.
Сперва мне понравилось, но ночью стало страшно. В темноте чудилось, что сосед пробирается к инструменту. Чтобы помешать этому маршу, я улегся посредине, но стоило мне закрыть глаза, как скелет ворочал черепом. Фольклор добрался до меня раньше, чем я до него.
В темные силы верить легче, чем в светлые – они подчиняются логике. Нечисть ведет себя, как может, Бог, как хочет, а человек, как получится. Ясно, что за первой уследить проще, чем за Вторым.
Божий промысел нетрудно перепутать с произволом случая, но домовому всегда чего-нибудь надо. Разбив окно, украв ключи или захлопнув двери, он подталкивает тебя к шагу, полезному для обоих. Собственно, нечисть потому и зовут мелкой, что она выбирает из двух зол меньшее. Как пес кошку, она чует беду и пытается надоумить тех, с кем живет под одной крышей. Занимая промежуточное положение между людьми и животными, она обидчива, как мы, и отходчива, как они. В нее не обязательно верить, главное – не упорствовать в заблуждениях.
Воспитанный в бодром духе советского позитивизма, я отрицал существование всего невидимого, кроме лучей гиперболоида инженера Гарина. Что не мешало мне обзавестись магическими ритуалами, помогавшими дотянуть до утра. Ребенком я обходил трещины в асфальте, в молодости принимал аспирин от похмелья, постарев, стал соблюдать дни удаления от скверны.
Сейчас, привыкнув к нечисти, я доверяю ей больше, чем себе, не говоря уже о знакомых. Но тогда, в пустынном зале чужой школы посторонний скелет пугал до дрожи в костях. Спасти меня могла только живая душа, готовая разбавить нашу инфернальную компанию. И она появилась. Товарки провожали ее, как Маргариту к Фаусту, но все кончилось хорошо.
С рассветом из забранного сеткой окна открылась Латгалия. Эта покатая страна пользовалась своим языком, который только казался понятным. Так говорил во сне мой спортивный брат – громко, убеж- денно, бессвязно. Встав с кушетки, он, как Вий, протягивал руку к моему дивану и требовал, чего ему не хватало, а у меня не было. Наяву Гарик всем был доволен, мне же, честно говоря, не нравились обе стороны реальности. Латгалия была ее третьей ипостасью. Поля тут казались живыми, небо – съедобным, а я – таким счастливым, что местные принимали меня за цыгана и прятали велосипеды.
Приезжих здесь не любили. Поделенные между соседями латгальцы были лояльны к любой власти, которая не мешала им доить коров, но как раз с этим было непросто, и хуторяне встречали нас, как тучу в сенокос.
Вспомнив Гоголя, мы начали собирать фольклор с пасечника. Поставив перед каждым корытце такого душистого меда, что его надо было, как одеколон, закусывать хлебом, он послушно объяснил обстановку:
– Видали маслозавод? До войны мой был. Уже сколько лет, как от обузы избавили, а я все не нарадуюсь.
Узнав, что от него ждут другой истории, хозяин с облегчением спихнул нас жене. Петь она согласилась только на огороде, где ее скрывал от позора крыжовник. Начав с Эдиты Пьехи, она быстро заскользила в прошлое. Мы не успели и заметить, как оказались в XVIII веке:
– Живет на острове Венера, – плаксиво выводила старуха, – приходит к ней охотник-гад.
Устав от салонной поэзии, она перешла на загадки:
– “Сунул – встал, вынул – свял”. Что такое?
Мы молчали, не зная, как это называется в деревне.
– Сапог, – объяснила довольная старушка, дождавшись, пока все покраснеют.
– Ну а это что: разинул мохнатку – засунул голыш?
Догадавшись, что фольклор тоже говорит о любви обиняками, мне удалось найти правильный ответ:
– Варежка.
Разочарованная бабка перешла к былинам, но я уже не слушал. Обуревавшая меня тайна оказалась загадкой, причем немудреной.
В юности похоть занимает все несвободное время, не говоря уже о свободном. Но тогда-то ее и принято презирать. Любовь и желание параллельны уму и красоте: одним гордятся, другое требует оправдания, как все, что достается даром. С годами ситуация непоправимо выравнивается. Становясь постепенно людьми, мы теряем все живое вместе с волосами.
Оглядываясь, я вижу только цепь ошибок, но поскольку не перестаю ошибаться, встать взрослым мне удастся только завтра. Будущее, обгоняя меня на день, стоит одной ногой в могиле, и тайна рождения мне уже не кажется неразрешимой.
В Ригу мы вернулись практически женатыми. Точнее – теоретически, потому что в городе нам деваться было некуда. Мы пробовали все – от родства душ до планетария, но дело шло к зиме, и ничего не помогало.
Тогда-то я и решился на взлом. В жертву была выбрана закрытая из-за безбожия лютеранская церковь на набережной. Как вся рижская архитектура, в профиль кирха выглядела готической. Фасад, однако, был более современным: старый портал закрывала сварная дверь. Скудным украшением ей служила надпись, для долговечности выполненная масляной краской. В тексте, естественно, упоминалась моя фамилия, но в отличие от университетского сортира, здесь ее перевели на русский.

Соблазн, сделавший возможным все предприятие, заключался в том, что вход запирал огромный болт с проржавевшей для надежности гайкой. Старомодная конструкция давала шанс обойти препоны и сломить сопротивление судьбы.
Дождавшись безлунной ночи, я назначил свидание у реки. Вместо цветов у меня был с собой разводной ключ, свеча и напильник. Вооруженный, как граф Монте-Кристо, я принялся за свой подкоп к счастью. Дверь не поддавалась ни силе, ни по-хорошему. Уступила она лишь упорству. Наконец, ободрав в кровь пальцы, я вынул штырь из петли, и мы вошли в черную яму проема.
Свет свечи не добирался до далеких сводов, но его хватило на то, чтобы разбудить голубя, слетевшего к нам, как с иконы. Их, впрочем, здесь не держали – церковь была протестантской и аскетический интерьер составляло ведро со знакомой краской и доски от ремонта.
На следующий день разбуженные происшедшим власти затеяли перестройку церкви в студенческий театр. Он открылся инсценировкой мистической повести “Чайка по имени Джонатан”. Ее играл, конечно, Шульман. Чтобы войти в роль, он перестал писать стихи, боясь повредить крыло.
Несмотря на Шульмана, церковный опыт не прошел даром: он наградил меня душевным трепетом. Принято считать, что мужчинам нужна женщина, потому что они боятся спать одни. Но я боялся спать вдвоем. Мне все казалось, что стоит отвернуться, как ее закрытые глаза откроются – как у панночки, и тогда пощады не жди.
В Риге, правда, все обошлось, но в Бруклине, начав новую жизнь с телевизора, я выяснил из полночного триллера, что делают женщины, когда мужчины спят – пьют их кровь.
В ту ночь я на всякий случай не сомкнул глаз. Клыков в темноте видно не было, но мне чудилось, что она облизывалась.
Мы научились доверять друг другу много лет спустя – от безвыходности, которую Пахомов называет любовью.
– Любишь только то, что не выбираешь, скажем – жизнь, – пояснил он и запел своим знаменитым баритоном: – Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
– Что – “взаимно”? – заинтересовался Шульман, услышавший эту песню впервые.
– Это значит, – сказал я, – что жизнь любит тебя, как ты ее.
– А если я ее не люблю?
– Нравится, не нравится – спи, моя красавица, – захохотал Пахомов, цитируя кладбищенский анекдот.
К некрофилии его склонила логика. Пока человек был жив, Пахомову он не нравился, ну а на “нет” и суда нет. Что, впрочем, не мешало Пахомову писать ядовитые некрологи на знаменитых покойников, вроде Лермонтова, у которого он нашел себе эпитафию:
И я людьми недолго правил,
Греху недолго их учил,
Все благородное бесславил
И все прекрасное хулил.
Хотя Пахомов заставил меня вытвердить наизусть свою последнюю волю, он не переставал спрашивать, есть ли у меня саркома.
– Нет, – отвечал я виновато.
– Night is young, – бодрился Пахомов и читал “Скупого рыцаря”:
Цвел юноша вечор, а нынче умер,
И вот его четыре старика
Несут на сгорбленных плечах в могилу.
Юнцом для Пахомова был все еще я, но другим в это уже не очень верилось.
Проверяя себя, я вспоминаю каждый прожитый час. В нем нет ничего такого, чего бы не было во мне сегодня. Жизнь, зато, безнадежно стареет. Мы идем вперед, но Земля, как говорил Пахомов, – шар, и он уходит из-под ног. Мы идем вверх, а жизнь – вбок, и чем больше зазор, тем чище и светлее становится душа, приближаясь к свежести скелета, пугавшего меня в Латгалии. Тогда я еще не знал, что мы носим его с собой и показываем всем, когда скалим зубы.
Юмор – это и есть memento mori. Он ставит точку там, где царило многоточие. Поскольку женщины живее мужчин, они обходятся без юмора и не понимают шуток. Я убедился в этом, рассказывая жене, как встретил с Пелевиным конец света.
Он начался с того, что мы договорились созвониться в полдень. Ровно в двенадцать я набрал номер, но вместо гудка услышал бой часов и дыхание: наши звонки встретились в эфире.
– Знаете, Пелевин, – обрадовал я его, – по расчетам богословов в этот год, день и час должен наступить конец света.
На другом конце установилась тяжелая тишина.
– Что это вы молчите? Проверяете?
– Угу, – ответил Пелевин, и мы отправились покупать алюминиевый перстень с надписью “Ом мани падме хум”.
Той же ночью Пелевин мне приснился в колпаке звездочета.
– Скажите что-нибудь умное, – попросил я его.
– Полугармония.
– Ага, – радостно затараторил я. – Гармония – учение об аккордах. Исключая друг друга, звуки превращаются в тишину, как становятся белым слившиеся цвета радуги. Значит, настоящая гармония – это тишина и молчание. Но полутишины быть не может. Выходит, полугармония – фикция.
– Ага, – сказал Пелевин, благожелательно щелкнув меня по лбу.
– Здорово! – сказала жена.
– Что – здорово? Как я рассуждаю?
– Нет, что Пелевин дал тебе по лбу. Чтоб не рассуждал.
– Но я не могу не рассуждать.
– А если про себя?
– Я же писатель.
– А-а, – вздохнула она, – тогда – плохо дело.
Дело и правда было плохо. Мы вступили в серый период жизни, и я, пытаясь узнать, что нас ждет, все чаще приходил к пруду, где живут два карпа. Один – белый, другой – алый, прямо – жар-рыба. Привыкнув к людям, они не испугались даже Пахомова, подплыв к нему за крошками. Но Пахомов не любит рыбу, он предпочитает мясо, особенно – паштет “Девушка с персиками”.
Что касается меня, то на карпов я смотрю прагматически. Мне мерещится в них наше недалекое будущее: меня оно накажет безмолвием, ее наградит свободой.







