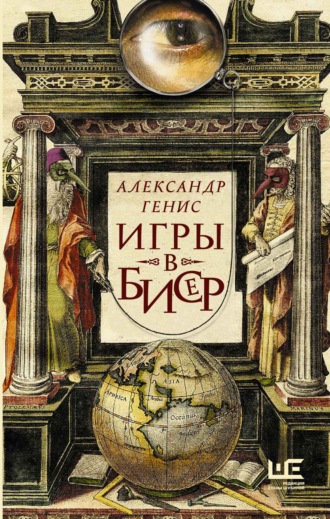
Александр Генис
Игры в бисер
Нет свидетеля честнее этой книжной полки. Потертость корешков – верный знак не только любви, но и постоянства. Мимолетное чувство не оставляет грязных следов на переплете. Только когда книгу читают не годами, а с детства, она приобретает благородную обветшалость, “печальное очарование вещей”, как говорят японцы.
Терпеливо дожидаясь свидания, домашняя книга не торопит его. Не стыдит, как непрочитанная классика, не давит, как она же, не принуждает к связи, словно книги друзей, да и не настаивает на вечной любви или хотя бы временной верности. Она ждет своего часа. Обычно, как сейчас, беспросветного.
Напрасно посторонний искал бы логику на такой полке – в этом магическом углу она не работает. Всю разношерстную компанию объединяет лишь общая функция: это мои лечебные книги. Как валидол от сердца, касторка от запора, сода от изжоги, лекарственные страницы помогают немудреным способом и наверняка. Поэтому я знаю их наизусть и перечитываю, используя как оберег от горя.
Когда сосет под ложечкой и боишься открыть газету, когда сводки с фронта заменяют метеорологические, когда мы крестим компьютер, прежде чем его включить, когда понимаешь, что “до войны” значит совсем не то же самое, что с год назад, когда жить становится тошно, страшно и не хочется, мы нуждаемся не в бесплодном утешении, а в передышке от страха. На этот случай литература, не обязательно высокая и для разных разная, создала защитный механизм временной амнезии.
Эскапизм позволяет вырваться в непараллельную реальность и отсидеться, как я в заветном углу. Среди его насельников – засаленный “Швейк”, “Пиквик”, старая фантастика в два ряда и, конечно, несколько растрепанных томов Гоголя. Помимо очевидного, есть тут идиосинкратическое: рассказы Чапека, исландские саги, даже “Романтизм в Германии” Берковского. И каждый из этих томов обладает уникальными, а значит, незаменимыми терапевтическими свойствами.
5. Уют
Расщепив такую книгу, мы в каждой найдем квант уюта. Как всякое укорененное в нас переживание, вроде похоти, жажды и голода, уют нельзя не заметить, но трудно описать. Разве что по-голландски: gezellig.
– Это слово нельзя перевести, – сказал мне товарищ из Амстердама, – его надо выучить таким, какое есть. Представь себе все, что любишь, вычти величественное, прибавь снег за окном, горящий камин, спящую кошку, умножь на два или на пять, а можно и на сто, но ты уже и так понял.
Чтобы впасть в такое состояние, мне не нужны внешние условия. Gezellig я испытывал в плащ- палатке, на топчане в депо пожарной охраны, в суде (не спрашивайте) и в общежитии, где стояло четыре кровати и не было ничего голландского. В каждом случае хватало триггера в виде правильной, а значит, зачитанной до неузнаваемости книги.
Совсем не обязательно она должна носить утопический характер. Скажем, военную эпопею, описывающую Мировую войну, никак не назовешь уютной. Но только потому, что “Швейка” нельзя сводить к содержанию. Всего важнее реакции бравого солдата. Выпавшие на его долю испытания преображаются в стоическом, как у Марка Аврелия, и гомерическом, как у Гашека, виде – и сумасшедший дом, и маршевая рота, и больница, и тюремная камера, которую Швейк находит терпимой, потому что в ней “нары из струганого дерева”.
“Стерпится – слюбится”, – говорит Швейк окружающим, и мы, умные и важные, завидуем простаку, умеющему окутывать ужас ватой уюта.
В 1968 году, когда советские войска душили Пражскую весну, Швейк, по словам чешских диссидентов, учил их не бегать с метлой за танками. Что еще больше раздражало оккупантов, зло огрызавшихся на утрированную лояльность и притворную придурковатость завоеванного населения.
Мне же “дезертирская проза” (Бахтин) “Швейка” всегда служила убежищем от пафоса. И в этом она сходилась с соседним и тоже толстым томом – “Посмертные записки Пиквикского клуба”.
6. Пародия
Дети не всегда понимают язык сатиры и принимают всерьез то, что автор считает заслуживающим насмешки. Малолетний герой Леонида Добычина, упиваясь “Мертвыми душами”, восторгается Маниловым с Чичиковым, считает их лучшими друзьями и мечтает найти и себе такую же верную пару.
Примерно так я читаю Диккенса. Я знаю, что он смеялся над своими героями, я вижу, что они глупы, лживы, тщеславны и бесполезны. Но я в это не верю, как, собственно, и сам Диккенс. Нарисовав карикатуры на соотечественников, он, как это бывает с гениями, перестарался. Раздув присущие островитянам недостатки, он заодно преувеличил их достоинства. И вот уже нам кажется, что дубоватое простодушие и подслеповатая доверчивость Пиквика – твердое основание, на котором может в любую бурю устоять “старая добрая Англия”. Именно в таком преображенном – шаржированном – виде ее, как британский детектив и футбол, сдают напрокат иноземцам вроде меня, который в ней души не чает.
Пародия способна обращаться в идиллию, если ее сдобрить прошедшим временем и толикой читательской бестолковости. Скажем, Гофман издевался над бескрылым филистерским бытом, которому я настолько завидую, что собираю открытки Карла Шпиц- вега и люблю стиль бидермайер.
Даже у беспощадной сатиры Щедрина можно найти идиллическую подкладку. Она обнаружилась, когда уставшая от мучительных опытов благоустройства власть наконец издала всех устраивающий закон: “Всякий да печет по праздникам пироги, не возбраняя себе таковое печение и в будни”. В результате пейзаж Глупова стал умилительным, будто срисованный с палехской шкатулки: “Утро было ясное, свежее, чуть-чуть морозное. <…> крыши домов и улицы были подернуты легким слоем инея; везде топились печи, и из окон каждого дома виднелось веселое пламя”.
Ну и конечно, разговор об идиллии не может обойтись без лучшей из них. Я не знаю книги счастливее и печальней “Старосветских помещиков”. Жизнь их так богата, что без всяких усилий, как самородящий источник изобилия, переполняет страницы повести и хозяйские кладовые. “Но сколько ни обкрадывали приказчик и войт, как ни ужасно жрали все в дворе, начиная от ключницы до свиней, <…> благословенная земля производила всего в таком множестве, <…> что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве”.
Идиллия тем хороша и тем ужасна, что всадники Апокалипсиса не знают к ней дороги. Лишенная глада, мора и войны, идиллическая жизнь оставляет нас наедине с самым беспощадным врагом – временем. И уже от этого противника никакие ужасы не могут нас заслонить.
Гоголь, впрочем, так сладко описывал безмятежное, органическое, растительное бытие старосветских помещиков, что мне никогда не надоедает читать про этот уютный Эдем, даже зная, чем все кончится.
Фетиш
Книги и вещи
1. Фронт
– Что вы сейчас читаете? – спрашивают у меня все кому не лень. И я понимаю, что это вопрос с подковыркой. Он подразумевает, что, несмотря на обстоятельства, я по-прежнему читаю книги. А значит, отворачиваюсь от крово-точащей (буквально) реальности. И как бы близко книга ни подходила к происходящему, автор – если не вымыслом, то умыслом – защищает от настоящего, что и делает меня не беженцем, а беглецом.
Но именно это и оправдывает книгу: она предоставляет временное убежище – как храм, церковь или заповедник, где охотятся только браконьеры.
Французский славист Жорж Нива рассказывал мне, что во время войны в Алжире он не мог читать книги – приходилось слишком часто отрываться от сюжета. Зато в окопах хорошо учить языки. Сам Нива занимался грузинским и очень жалел, когда в госпитале, где он лежал с тяжелым ранением, у него украли учебник. Лотман говорил примерно то же самое, но на фронте он зубрил французский.
Сам я ни в какой армии не был, потому что в семнадцать лет удачно заболел менингитом и с тех пор не годен для службы в любой стране мира. Но, как каждый шпак, я люблю рубашки с погончиками и батальную прозу. Из последней я вычитал главным образом сведения об абсурдности войны. Об этом написали все лучшие: от Толстого до Хемингуэя, который сделал героем своего военного романа дезертира – вслед за Горацием:
Ты помнишь час ужасный битвы,
Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно брося щит,
Творя обеты и молитвы?
Как я боялся! как бежал!
Литературе кошмар войны открывается не в массированных атаках ужасов, а в штучных подробностях. У Ремарка в самом знаменитом из антивоенных романов “На западном фронте без перемен” появляется бабочка, сидящая на черепе. И это не символ скоро-течности с самурайского шлема, а рядовая деталь батального пейзажа.
Но сегодня нас успешнее пугает кино, как это случилось с картиной “Спасение рядового Райана” в первые двадцать пять минут, не отягченные политикой. Снимая фильм в жанре бескомпромиссного натурализма, Спилберг спасает не столько рядового Райана, сколько реальность крови и смерти, погребенную под электронными играми нашего времени.
На поле боя тут нет места любви и жертве, правде и состраданию, рыцарскому героизму и стратегической игре, то есть всему, что оправдывает войну в глазах историка, поэта и художника. Истерически страшным войну делают не оторванные ноги и выдранные кишки, а дикая случайность сражения, где царит бессмысленная, бесчувственная, безнравственная теория вероятности. В нечеловеческой лотерее не остается времени для прошлого и будущего, есть только настоящее, и его немного.
Понятно, что такая война никому не нравилась, – кроме Эрнста Юнгера. Лучший немецкий воин Первой мировой, он написал бестселлер и пацифистов, и милитаристов – “В стальных грозах”. Из этого бесконечно жестокого сочинения я узнал, что с трудом поправляясь в госпитале после четырнадцатого тяжелого ранения, Юнгер жалел только о том, что, прорываясь из окружения, потерял любимую книгу, с которой не расставался на фронте. И это была не “Илиада”, как у Александра Македонского, и не Библия, как у многих других, а “Жизнь и мнения Тристрама Шенди”, ироничный и дурашливый эпос Лоренса Стерна, где биография главного героя добирается до пяти лет лишь к концу толстого тома.
Я часто думаю об этом примере, пытаясь в мрачные дни понять, какие книги могут нас защитить, отвлечь, исправить. С последним хуже всего – мы часто любим одни и те же книги, что и лютые мерзавцы: Гитлер обожал греков, Сталин читал Гёте. Да и мои книги попадают в руки тех, которым я не подам руки.
Книга нейтральна к морали, даже если она за нее сражается. Книга беспомощна, ибо не в ее силах защититься от палаческой интерпретации. Книга бесполезна, потому что она никого еще не остановила. А когда нам (или Бродскому) кажется иначе, это значит лишь то, что нас сбивает с толку предубеждение профессионалов – если не писателей, то точно читателей.
Все мы, во всяком случае все, кого я встречал, выросли в непоколебимой уверенности в том, что книга служит оберегом. Само ее присутствие – даже не в голове, а в доме – обеспечивает духовный рост и улучшает национальную карму. Книжная полка – своего рода алтарь, где живут тихие фамильные лары, на которых нельзя рассчитывать в крутую беду, но можно положиться в серые будни, из которых и состоит жизнь.
Мне она казалась невозможной без книг, пока не выяснилось, что они стали бестелесными, оставив после себя бумажные трупы, истлевающие в моей семитысячной библиотеке.
2. Буратино
– Возьмите за четыре сольдо мою новую азбуку.
– С картинками?
– С ч-ч-ч-чудными картинками и большими буквами.
– Давай, пожалуй, – сказал мальчик, взял азбуку и нехотя отсчитал четыре сольдо.
Буратино подбежал к полной улыбающейся тете и пропищал:
– Дайте мне в первом ряду билет на единственное представление кукольного театра”.
В “Золотом ключике” мы находим один из первых отчетов о победе видеократии над логоцентризмом. Буратино знал, что делал. Он перескочил из докультурного прошлого (полена) в постгутенберговское будущее, в котором мы живем. Но антагонизм гла́за и сло́ва не наше изобретение. Греки богов видели, евреи Бога слышали. Борхес объяснял это различие читательским восприятием. В классической литературе важно содержание, в священной – всё: “Святой Дух снизошел до литературы и написал книгу, в которой нет ничего случайного”.
Такая книга несравненно важнее того, что в ней написано. На ней можно клясться и присягать, по ней можно молиться и гадать, она может служить амулетом, наследством, капиталом и, конечно, произведением искусств. Каждый раз, когда книга оказывается шире своего содержания, ей придают сакральные черты. Особенно тогда, когда ее сжигают или за нее сажают. Преследование добавляет книге прибавочную стоимость, вырастающую за счет риска, как в случае с “Архипелагом ГУЛАГ”, за который сидел в Мордовии мой босс и товарищ.
Такая книга превращалась в метонимию высшей правды и в доказательство ее существования. Для неверующих любая книга – вещь, но для фанатиков она, как мощи святых, свидетельствует о вечной жизни, где царит разум и цветет красота. Я знаю об этом, потому что сам был в этой секте, и на память о культе сохранил книги трех поколений.
3. Реликвия
Для рукописной Библии требовалось стадо в пятьсот голов. На разворот с картинками уходил теленок. Шкуры неделями вымачивали в бочке с известью, потом растягивали на деревянной раме, драили пемзой, вычищали скребками из костей ската. И с каждой операцией пергамент становился все дороже. Опытный переписчик мог закончить страницу в день. Гениальному, такому, как рекордсмен Ренессанса Антонио, удавалось переписать за год 600-страничную “Историю Флоренции” дважды.
Поэтому в Средние века книги были движимым имуществом. Они считались дорогим украшением, облагораживающим хозяина и его жилье. И хранили книгу не так, как мы, – стоймя, на полке среди других подобных, а так, как теперь в музеях: раскрытой, на специальной подставке, в красном углу – на зависть гостям. Богатую библиотеку князя составляли сто, двести, от силы триста томов, и каждый имел свое лицо, а не только душу. Содержание так вливалось в форму, что возникал нерушимый синтез.
Перелистать такие книги теперь доверяют куратору в белых перчатках, орудующему костяной палочкой. В нью-йоркском музее Клойстерс он переворачивает страницы по одной в день. Однажды мы пришли сюда с поэтом Львом Лосевым, чтобы рассмотреть готический Часослов.
– Вот как, – сказал он не без зависти, – надо уважать слова.
– Но ведь эти обращены к Богу, – заметил я.
– Как и у всех настоящих поэтов, – закрыл тему Лосев.
Я не нашел, что возразить. Как у всех советских читателей, у меня сохранилось трепетное отношение к книгам. Его создавали интеллектуальный голод, государственная цензура и архаическая вера. На своего владельца книги отбрасывали горний свет. Для нас она была материальным залогом всего трансцендентного. Я не хочу сказать, что мы их не читали, но точно, что не все. Наши книги делали нас лучше и своим присутствием. Самим существованием они демонстрировали непреложный факт наличия иной, высокой и таинственной реальности. Зная о ней, мы легче переносили “свинцовые мерзости” власти.
В рамках этой метафизической системы действовала столь же сюрреальная экономика.
– Почему, – спросил навещавший СССР Гарсия Маркес, – мои книги у вас нельзя купить?
– Потому, – ответили ему, – что в стране не хватает бумаги.
– У вас нет бумаги, – удивился писатель, – чтобы печатать деньги?
Он был прав: книги и были нашими деньгами, единственной реальной, конвертируемой валютой, которую можно было обменять на не совсем земные ценности.
Сейчас я уже не могу отчетливо вспомнить, что именно мы надеялись вычитать в вожделенных книгах, но точно знаю, что они дарили надежду на пропуск в лучший мир. Страх остаться без него возвращал книгу к ее истоку и к ручному труду. Я знаю и люблю даму, которая двести раз перепечатала “Собачье сердце”, совершив подвиг, достойный бенедиктинца из скриптория.
4. Библиотека
Чтобы перебраться в Америку, нужно было заплатить родине отступные. За то, чтобы избавиться от опасного и, прямо скажем, нелюбимого гражданства, приходилось отдать по 500 рублей на нос. Чтобы рассчитаться с СССР, мы продали всё: протертый двумя поколениями ковер, телевизор, который в те времена включался на “Саге о Форсайтах” и выключался после нее, магнитофон вместе с крамольными записями Высоцкого, Окуджавы и сестер Берри, даже кактус до потолка, который мы несли в комиссионку, закутав в уже ненужное пальто.
Но главным товаром была библиотека. Мы разделили ее на две части. В первую вошел неприкосновенный запас, книги, без которых жизнь на чужбине не представлялась возможной: трехтомник Белинского, девять томов Герцена, четыре – Писарева, пугачевские указы, полный Фонвизин. Я до сих делю с ними дом – с благоговением и удивлением.
Вторая часть библиотеки была обречена на продажу и включала любимое: Джек Лондон, Майн Рид, О. Генри и еще сотни книг, на которых мы все выросли, а теперь, как старую собаку, со слезами отдавали в хорошие руки. Покупатель, молодой офицер, нашелся сразу. Ошеломленный выбором, он, не торгуясь и не задавая вопросов, заплатил невообразимую сумму, которую я до тех пор не держал в руках: 1000 рублей.
– Теперь, – сказал он, – жизнь удалась: куда бы ни услали, я не пропаду.
Прошло почти полвека, и офицеры – другие, но этого я часто вспоминаю, чтобы понять, кем мы были и почему.
5. Фетиш
Развод содержания с формой начался пять веков назад – с открытия книгопечатания. Вместо одной страницы в день типография выпускала триста, что тоже было непросто.
Возможно, я был последним, кто этим занимался. Когда сгорела нью-йоркская газета “Новое русское слово”, где мне довелось работать метранпажем, нам пришлось ее выпускать в допотопной эмигрантской печатне “Луна”. Там я вручную собирал заголовки – по буквам, как Гутенберг. Это была кропотливая и нудная работа, зато в наборной кассе встречались диковинные шрифты, в том числе харбинская кириллица, стилизованная под китайские иероглифы.
Рукописные книги еще долго конкурировали с печатными, ибо вторые радикально отличались от первых и не казались настоящими. Лоренцо Великолепный, меценат и эстет, велел переписывать привезенные из Венеции печатные книги, чтобы они не оскверняли его флорентийскую библиотеку.
Собственно, тогда и появился столь актуальный для наших дней вопрос о природе книги: она вещь или мысль? тело или дух? материя или идея?
Ответ дает прогресс. С тех пор, как многотомные библиотеки переехали в наши мобильные телефоны, легко предсказать, что мы – последнее поколение, которое не в силах расстаться с книгами. Им сегодня нужна другая роль.
Технология чтения меняется так стремительно, что ему уже нужно другое название. Аудиокниги стали отдельным искусством, требующим сложных навыков и от чтеца, и от слушателя, и от автора. Рассказанная книга отличается от написанной: она пятится назад к Гомеру.
Но и электронная книга только притворяется честной копией бумажной. Оставшись без переплета, она легко разнимается, разветвляется, иллюстрируется и обрастает комментариями, что благодаря Интернету делает ее безразмерной и непохожей на оригинал.
Ну и, конечно, толстые книги, этот хлеб читательского рациона, перестали быть книгами вообще, найдя себя – хоть и с переменным успехом – в сериалах.
Все это упраздняет библиотеку как склад потенциального чтения, но оставляет лазейку для книги как таковой. Ее последний шанс – вернуться к своему корню и опять стать вещью: нарядным объектом для любования, для художественной медитации, для утонченного наслаждения книжным искусством. Таких книг не бывает много, ибо они слишком дороги для массового тиража. Зато ими можно вновь украшать дом и жизнь, увидев в книге то, чем она всегда стремилась стать: фетишем культуры.
6. 451°f
Самый щедрый к книгам роман написал, конечно, Брэдбери. В советское время его шедевр считали гимном самиздату, теперь – реквиемом по бумажным изданиям, которые еще умели гореть, а не жить на экране в бестелесном эфире. Но по-настоящему фантастическое там – не знакомый нам тоталитарный режим, запретивший книги, а заменившие их люди.
Компания бродяг, скитающихся по глухим обочинам общества, – ходячая библиотека. В каждого из них влита та или иная книга, что превратило людей в переплеты для классики: “Все мы – обрывки и кусочки истории, литературы, международного права. Байрон, Том Пэйн, Макиавелли, Христос – все здесь, в наших головах”.
Читая про это студентом, я представлял знакомую картину: кучку наших интеллигентов, слившихся с прочитанными ими книгами. Независимо от Брэдбери такие людо-книги нашли себе место в ГУЛАГе, где начитанные зэки спасались от остальных тем, что “тискали ро́маны”, развлекая блатных эклектическими приключениями. Из них, например, получился пухлый роман Роберта Штильмарка “Наследник из Калькутты”.
В лагере я не был, только – в пионерском, но и этого мне хватило, чтобы оценить возможности, престиж и прибыль вочеловеченных книг. После отбоя они защищали меня от спортсменов и безжалостных. Бессовестно воруя и тасуя все, что я вычитал у Буссенара и Стругацких, я брал реванш за унижения на футбольном поле и самодельном ринге.
Став моей инкарнацией, книга распухала и зрела, выдавливая окружающее за человеческие пределы в завидный мир, где я бы хотел поселиться, когда бы не семья и школа.
Подозреваю, что о том же мечтали все, во всяком случае – авторы, завидующие своим героям, как я булгаковскому Мастеру. В конце романа он наконец нашел не просто покой, но и писательскую утопию. Уступив герою место, Булгаков поселил Мастера на полке с любимыми (между Гёте и Гофманом) книгами. Обратившись в одну из них, он обрел гарантированную вечность, ибо, что бы ни говорил Брэдбери, “рукописи не горят”. Э-книги, как теперь всем известно, тем более.






