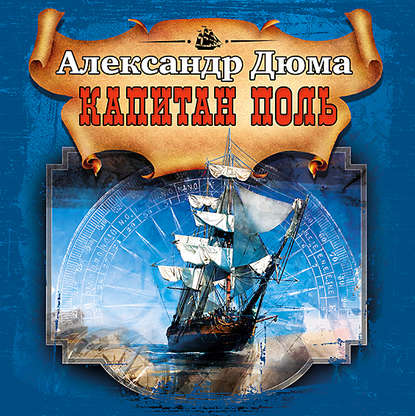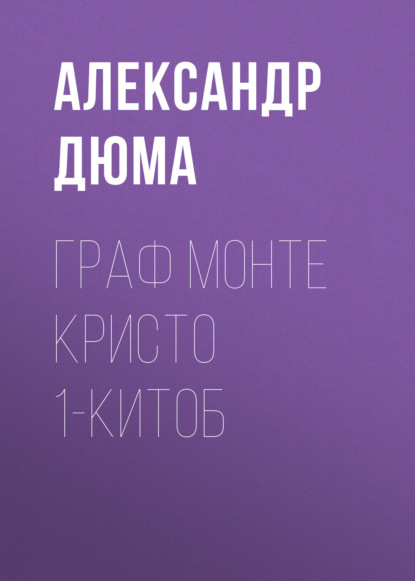Полная версия:
Александр Дюма Три мушкетера
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Александр Дюма
Три мушкетёра
Часть первая
I. Три подарка д’Артаньяна-отца
В первый понедельник апреля месяца 1625 года местечко Мёнг было в таком смятении как Рошель во время осады его гугенотами. Многие граждане, при виде женщин, бегущих к Большой улице, и ребят, кричащих у порогов дверей, спешили надеть латы и, вооружась ружьями и бердышами, направлялись к гостинице Франк-Мёнье, перед которой теснилась шумная и любопытная толпа, возраставшая ежеминутно.
В те времена подобные панические испуги были часты, и редкий день проходил без того, чтобы тот или другой город не внес в свой архив какого-нибудь происшествия в этом роде: вельможи воевали между собой, король вел войну с кардиналом, Испанцы вели войну с королем. Кроме этих войн, производимых тайно или открыто, воры, нищие, гугеноты, волки и лакеи вели войну со всеми. Граждане вооружались всегда против воров, волков, лакеев, часто против вельмож и гугенотов, иногда против короля, но никогда против Испанцев.
При таком положении дел естественно, что в упомянутый понедельник апреля месяца 1625 года граждане, услышав шум и не видя ни красного ни желтого знамени, ни ливреи герцога Ришельё, бросились в ту сторону, где находилась гостиница Франк-Мёнье.
Прибыв туда, каждый мог узнать причину этого волнения.
За четверть часа перед тем, через заставу Божанси, въехал в Мёнг молодой человек на буланой лошадке. Опишем наружность его лошадки. Представьте себе дон-Кихота, 18-ти лет от роду, не вооруженного, без кольчуги и без лат, в шерстяном камзоле, которого синий цвет принял неопределенный оттенок зеленоватого с голубым. Лицо длинное и смуглое, с выдавшимися скулами, – признак коварства; челюстные мускулы, чрезвычайно развитые, – несомненная примета Гасконца даже без берета, а на нашем молодом человеке был берет, украшенный пером; глаза большие и умные; нос кривой, но тонкий и красивый; рост слишком большой для юноши и слишком малый для взрослого человека; непривычный глаз принял бы его за путешествующего сына Фермера, если бы не длинная шпага, привешенная на кожаной перевязи, ударявшая своего владетеля по икрам, когда он шел пешком, и по щетинистой шерсти его лошади, когда он ехал.
Лошадь этого молодого человека была так замечательна, что обратила на себя общее внимание: это была беарнская лошадка, 12 или 14 лет от роду, желтой шерсти, без хвоста и с подсединами на ногах; на ходу она опускала голову ниже колен, отчего употребление подбрюшного ремня оказывалось бесполезным; но она все-таки делала по восьми миль в день.
К несчастию странный цвет шерсти ее и не красивая походка до того скрывали хорошие ее качества, что в те времена, когда все были знатоками в лошадях, появление ее в Мёнге произвело неприятное впечатление, отразившееся и на всаднике.
Это впечатление было тем тягостнее для д’Артаньяна (так звали нового дон-Кихота), что он и сам понимал это, хотя и был хорошим ездоком; но подобная лошадь делала его смешным, о чем он глубоко вздохнул, принимая этот подарок от отца. Он знал, что подобное животное стоило не менее 20 ливров; при том слова, сопровождавшие подарок, были неоценимы: «Сын мой», сказал гасконский дворянин тем чистым простонародным беарнским наречием, от которого никогда не мог отвыкнуть Генрих IV, – «сын мой, эта лошадь родилась в доме отца твоего, тринадцать лет тому назад, и находилась в нем в продолжение всего этого времени, – это одно должно заставить тебя полюбить её. Не продавай её никогда, дай ей умереть спокойно в старости; и если ты будешь с нею в походе, то береги её как старого слугу. При дворе, продолжал д’Артаньян-отец, – если ты когда-нибудь удостоишься быть там, – честь, на которую, впрочем, дает тебе право твое древнее дворянство, – поддерживай с достоинством свое дворянское имя, так как оно поддерживалось предками нашими в продолжение более пяти сот лет. Не переноси ничего ни от кого кроме кардинала и короля. Помни, что в настоящее время дворянин прокладывает себе дорогу только храбростью. Трусливый часто сам от себя теряет случай, который представляет ему счастье. Ты молод и должен быть храбр по двум причинам: во-первых, потому что ты Гасконец, во-вторых, потому что ты мой сын. Не бойся опасностей и ищи приключений. Я научил тебя владеть шпагой; нога твоя крепка как железо, рука как сталь, дерись при каждом случае; дерись тем больше, потому что дуэли запрещены, из чего следует, что нужна двойная храбрость для драки. Я могу дать тебе, сын мой, только 15 экю, лошадь мою и советы, которые ты выслушал. Мать прибавит к этому рецепт полученного ею от одной цыганки бальзама, заключающего в себе чудное свойство исцелять всякую рану кроме сердечных. Извлекай пользу изо всего и живи счастливо и долго. Мне остается прибавить еще одно: представить тебе в пример не меня, – потому что я никогда не был при Дворе и участвовал только в войне за религию волонтером, – но де-Тревиля, бывшего некогда моим соседом: он, будучи еще ребенком, имел честь играть с королем Людовиком XIII, да хранит его Бог! Иногда их игры принимали вид сражений, и в этих сражениях король не всегда брал верх. Поражения, которые он претерпевал, пробудили в нем уважение и дружбу к де-Тревилю. В последствии де-Тревиль сражался с другими во время первого своего путешествия в Париж пять раз, со смерти покойного короля до совершеннолетия молодого, не считая войн и осад, семь раз, и со времени этого совершеннолетия доныне, может быть, сто раз, несмотря на указы, предписания и аресты, он, капитан мушкетеров, то есть начальник легиона цезарей, которым очень дорожит король и которого страшится кардинал, а как известно не много таких вещей, которых он боится. Кроме того, де-Тревиль получает десять тысяч экю в год; следовательно, живет как вельможа. Он начал так же, как и ты; явись к нему с этим письмом и подражай ему во всем, чтобы достигнуть того чего он достиг».
После чего д’Артаньян-отец надел на сына собственную шпагу, нежно поцеловал его в обе щеки и дал ему свое благословение.
Выйдя из отцовской комнаты, молодой человек пошел к матери, ожидавшей его с знаменитым рецептом, которому, судя по полученным от отца советам, предстояло довольно частое употребление. Здесь прощанья были продолжительнее и нежнее нежели с отцом, не потому чтобы д’Артаньян не любил сына, единственного потомка своего, но д’Артаньян был мужчина и считал недостойным мужчины предаваться движению сердца, между тем как г-жа д’Артаньян была женщина и притом мать.
Она плакала обильными слезами, и скажем в похвалу д’Артаньяна сына, что при всех его усилиях оставаться твердым, как следовало бы будущему мушкетеру, натура одержала верх, – он не мог удержаться от слез.
В тот же самый день молодой человек пустился в путь, снабженный тремя отцовскими подарками, которые состояли, как мы сказали уже, из пятнадцати экю, лошади и письма к де-Тревилю; разумеется, советы были даны не в счет.
С таким напутствием д’Артаньян стал морально и физически верным снимком с героя Сервантеса, с которым мы так удачно его сравнили, когда по обязанности историка должны были начертить его портрет. Дон-Кихот принимал ветряные мельницы за великанов, и баранов за войска; д’Артаньян принимал каждую улыбку за оскорбление и каждый взгляд за вызов. От этого произошло, что кулаки его были постоянно сжаты от Тарб до Мёнга, и что в том и другом местечке он по десяти раз в день клал руку на эфес шпаги; впрочем ни кулак, ни шпага ни разу не были употреблены в дело. Не потому чтобы вид несчастной желтой лошадки не возбуждал улыбок на лицах проходящих; но как над лошадкой бренчала длинная шпага, а над этою шпагой сверкала пара свирепых глаз, то проходящие сдерживали свою веселость, или, если веселость брала верх над благоразумием, то старались смеяться, по крайней мере, только одною стороной лица как античные маски. Итак, д’Артаньян оставался величественным, и раздражительность его не была задета до несчастного города Мёнга.
Но там, когда он слезал с лошади у ворот Франк-Мёнье и никто не вышел принять от него лошадь, д’Артаньян заметил у полуоткрытого окна нижнего этажа дворянина, большого роста и надменного вида, хотя с лицом слегка нахмуренным, разговаривающего с двумя особами, которые, казалось, слушали его с уважением. Д’Артаньян, по привычке, полагал, что предметом разговора был он и начал прислушиваться. На этот раз он ошибся только вполовину: речь шла не о нем, а о его лошади. Казалось, что дворянин вычислял своим слушателям все ее качества и, как рассказчик, внушал слушателям уважение; они смеялись ежеминутно. Но достаточно было полуулыбки, что бы пробудить раздражительность молодого человека; понятно, какое впечатление произвела на него эта шумная веселость.
Д’Артаньян гордым взглядом начал рассматривать наружность дерзкого насмешника. Это был человек лет 40 или 45, с черными, проницательными глазами, бледный, с резко обрисованным носом и красиво подстриженными черными усами; на нем был камзол и панталоны фиолетового цвета, которые хотя были новы, но казались измятыми, как будто находились долгое время в чемодане.
Д’Артаньян сделал все эти замечания с быстротою самого сметливого наблюдателя, и, вероятно, с инстинктивным предчувствием, что этот незнакомец будет иметь большое влияние на его будущность.
Но как в то самое время, когда д’Артаньян рассматривал дворянина в фиолетовом камзоле, этот последний сделал одно из самых ученых и глубокомысленных замечаний о достоинстве его беарнской лошади, то оба слушателя его разразились смехом, и даже он сам, против обыкновения, слегка улыбнулся. При этом д’Артаньян не сомневался уже, что он был оскорблен. Убежденный в обиде, он надвинул берет на глаза и, подражая придворным манерам, которые он подметил в Гасконии у путешествующих вельмож, подошел, положив одну руку на эфес шпаги, другую на бедро. К несчастию, по мере того как он приближался, гнев все больше и больше ослеплял его, и вместо полной достоинства и надменной речи, приготовленной им для вызова, он сказал только грубую личность, сопровождая её бешеным движением.
– Эй, что вы прячетесь за ставнем, воскликнул он. – Скажите-ка мне, чему вы смеетесь, и будем смеяться вместе.
Дворянин медленно перевел глаза с лошади на всадника, как будто сразу не понял, что эти странные упреки относились к нему; когда же не оставалось в том никакого сомнения, то брови его слегка нахмурились, и, после довольно долгого молчания, он с неописанною иронией и наглостью отвечал д’Артаньяну.
– Я не с вами говорю, милостивый государь.
– Но я говорю с вами, воскликнул молодой человек, раздраженный до крайности этою смесью наглости и хорошего тона, приличия и презрения.
Незнакомец еще раз взглянул на него с легкою улыбкой, отошел от окна, медленно вышел из гостиницы и встал в двух шагах от д’Артаньяна, против его лошади.
Его спокойная осанка и насмешливый вид удвоили веселость оставшихся у окна его собеседников. Д’Артаньян, увидев его подле себя, вынул свою шпагу на один фут из ножен.
– Эта лошадь буланая, или, лучше сказать, она была такою в молодости, продолжал незнакомец, обращаясь к слушателям своим, бывшим у окна, и не замечая, по-видимому, раздражения д’Артаньяна, – этот цвет известен в ботанике, но до сих пор редко встречается между лошадьми.
– Кто не смеет смеяться над всадником, тот смеется над лошадью, сказал неистово подражатель де-Тревиля.
– Я смеюсь не часто, возразил незнакомец, – вы можете судить о том по выражению моего лица; но я желаю удержать за собою право смеяться когда мне угодно.
– А я, сказал д’Артаньян, – не хочу, чтобы смеялись, когда мне это не нравится.
– В самом деле? продолжал незнакомец очень спокойно. – Это совершенно справедливо. И повернувшись на пятках, он намеревался возвратиться в гостиницу, через большие ворота, у которых д’Артаньян видел оседланную лошадь.
Но характер д’Артаньяна быль не таков, чтоб он мог отпустить человека, дерзко осмеявшего его. Он совсем вынул шпагу из ножен и пустился вслед за ним с криком:
– Воротитесь, воротись же господин насмешник, а то я убью вас сзади.
– Меня убить! сказал незнакомец, поворачиваясь на пятках и смотря на молодого человека с удивлением и презрением. – Что с вами, любезный, вы с ума сошли!
Потом вполголоса, как будто говоря с самим собой, он прибавил: – это жаль! какая находка для его величества, который везде ждет храбрых для своего мушкетерского полка.
Едва успел он договорить, как д’Артаньян направил в него такой удар острием шпаги, что вероятно его шутка была бы последнею, если б он не успел быстро отскочить назад. Незнакомец, видя тогда, что дело идет не на шутку, вынул шпагу, поклонился своему противнику и важно встал в оборонительное положение. Но в то же время двое его служителей, в сопровождении хозяина гостиницы, напали на д’Артаньяна с палками, лопатами и щипцами. Это произвело быстрый и совершенный переворот в борьбе.
Между тем как д’Артаньян обернулся назад, чтоб отразить град ударов, противник его спокойно вложил свою шпагу и с обыкновенным своим бесстрастием из действующего лица стал зрителем, ворча однако ж про себя.
– Черт возьми Гасконцев! Посадите его на его оранжевую лошадь, и пусть убирается!
– Но прежде убью тебя, трус! кричал д’Артаньян, отражая, сколько мог, сыпавшиеся на него удары, и не отступая ни на шаг от трех своих неприятелей.
– Еще хвастается! бормотал дворянин. – Эти Гасконцы неисправимы. Продолжайте же, если он того непременно хочет. Когда устанет, скажет – довольно.
Но незнакомец не знал, с какого рода упрямцем имел дело: д’Артаньян был не такой человек, чтобы стал просить пощады. Бой продолжался еще несколько секунд; наконец д’Артаньян, изнуренный, выпустил из руки шпагу, переломленную на двое ударом палки. В то же время другим ударом в лоб сбило его с ног окровавленного и почти без чувств.
В эту самую минуту со всех сторон сбежались на место зрелища. Хозяин, опасаясь неприятностей, унес раненого, с помощью своих служителей, в кухню, где ему подана была помощь.
Что же касается до дворянина, то он возвратился на свое прежнее место у окна и смотрел с нетерпением на толпу, присутствие которой, казалось, было ему неприятно.
– Ну, каково здоровье этого бешеного? сказал он, оборачиваясь при шуме отворившейся двери, и обращаясь к хозяину, который пришел осведомиться о его здоровье.
– Ваше превосходительство не ранены? спросил хозяин.
– Нет, совершенно невредим, любезный хозяин. Я вас спрашиваю, в каком состоянии молодой человек?
– Ему лучше, отвечал хозяин, – он в обмороке.
– В самом деле? сказал дворянин.
– Но до обморока, он, собрав последние силы, звал вас и вызывал на бой.
– Этот забавник должен быть сам черт, сказал незнакомец.
– О нет, ваше превосходительство, он не похож на черта, сказал хозяин с презрительною гримасой: – во время обморока мы обыскали его; у него в свертке только одна рубашка, а в кошелке только 12 экю, и, несмотря на то, лишаясь чувств, он сказал, что если б это случилось в Париже, то вам пришлось бы раскаяться сейчас же, между тем как здесь раскаетесь, но только позже.
– В таком случае, это должно быть какой-нибудь переодетый принц крови, хладнокровно сказал незнакомец.
– Я вам говорю это, сударь, для того чтобы вы были осторожны, сказал хозяин.
– Он не назвал никого по имени в гневе своем?
– О да, он ударял по карману и говорил: увидим, что скажет об этом оскорбленный покровитель мой де-Тревиль.
– Де-Тревиль? сказал незнакомец, делаясь внимательнее. – Он ударял по карману, говоря о де-Тревиле? Послушайте, хозяин, пока этот молодой человек был в обмороке, вы наверно осмотрели и карман его. Что в нем было?
– Письмо, адресованное на имя де-Тревиля, капитана мушкетеров.
– В самом деле?
– Точно так, ваше превосходительство.
Хозяин, не одаренный большою прозорливостью, не заметил какое выражение слова его придали лицу незнакомца, который отошел от окна и нахмурил брови с беспокойством.
– Черт возьми, бормотал он сквозь зубы, – неужели де-Тревиль прислал мне этого Гасконца. Он очень молод. Но удар шпаги, от кого бы он ни был, все-таки удар, а ребенка меньше опасаются нежели кого-нибудь другого; иногда достаточно самого слабого препятствия чтобы помешать важному предприятию.
И незнакомец углубился на несколько минут в размышления.
– Послушайте, хозяин, избавьте меня от этого сумасшедшего: по совести, я не могу убить его, а между тем, прибавил он с выражением холодной угрозы, – он мне мешает. Где он?
В комнате жены моей, в первом этаже, его перевязывают.
– Одежда его и мешок при нем? Он не снимал камзола?
– Напротив, все эти вещи в кухне. Но так как этот сумасшедший вас беспокоит…
– Без сомнения. Он делает в вашей гостинице скандал, а это не может нравиться порядочным людям. Ступайте наверх, сведите счет мой и предупредите моего человека.
– Как! господин уже уезжает?
– Разумеется, когда я уже приказал оседлать мою лошадь. Разве мое приказание не исполнено?
– О да, ваше превосходительство, может быть вы видели, лошадь ваша у больших ворот приготовлена к отъезду.
– Хорошо, так сделайте то, что я вам сказал.
– «Гм… подумал хозяин, неужели он боится этого мальчика».
Но повелительный взгляд незнакомца остановил его. Он низко поклонился и вышел.
– Не надо чтобы этот забавник увидел миледи, продолжал незнакомец: – она скоро должна приехать, и то она уже опоздала. Лучше поехать ей на встречу. Если б я мог узнать содержание этого письма к де-Тревилю!
И незнакомец, бормоча про себя, отправился на кухню. Между тем хозяин, не сомневаясь, что присутствие молодого человека мешало незнакомцу оставаться в гостинице, возвратился в комнату жены и нашел д’Артаньяна уже пришедшим в чувство.
Стараясь внушить ему, что может наделать ему неприятностей за ссору с вельможей, – по мнению хозяина, незнакомец был непременно вельможа, – он уговорил его, несмотря на слабость, встать и продолжать путь. Д’Артаньян, едва пришедший в чувство, без камзола, с перевязанною головой, встал и, понуждаемый хозяином, начал спускаться вниз. Но, придя в кухню, он прежде всего увидел своего противника, спокойно разговаривавшего у подножки тяжелой кареты, запряженной двумя большими нормандскими лошадьми.
Его собеседница, голова которой видна была через рамку дверец кареты, была женщина лет двадцати или двадцати двух.
Мы уже говорили о способности д’Артаньяна быстро схватывать наружность: он с первого взгляда заметил, что женщина была молода и красива. Красота ее поразила его тем более, что это была красота такого рода, который неизвестен в южных странах, где до тех пор жил д’Артаньян. Женщина эта была бледная блондинка, с длинными вьющимися волосами, падавшими на плечи, с большими голубыми, томными глазами, розовыми губами и белыми, как мрамор, руками. Она вела с незнакомцем очень оживленный разговор.
– Следовательно, кардинал приказывает мне… говорила дама.
– Возвратиться немедленно в Англию и предупредить его, если бы герцог выехал из Лондона.
– А какие же еще другие поручения? спросила прекрасная путешественница.
– Они заключаются в этой коробке, которую вы откроете не прежде как на другом берегу Ла-Манша.
– Очень хорошо. А вы что будете делать?
– Я возвращаюсь в Париж.
– И оставите без наказания этого наглого мальчика? спросила дама.
Незнакомец хотел отвечать, но в ту минуту, когда он открыл рот, д’Артаньян, слышавший их разговор, появился в дверях.
– Этот наглый мальчик наказывает других, вскричал он, – и в этот раз надеюсь, что тот, которого ему следует наказать, не ускользнет от него.
– Не ускользнет? возразил незнакомец, нахмурив брови.
– Нет, я полагаю, что вы не осмелитесь бежать в присутствии женщины.
– Подумайте, сказала миледи, видя что дворянин заносил руку на шпагу, – подумайте, что малейшее промедление может все испортить.
– Вы правы, сказал дворянин: – поезжайте же и я еду.
И, поклонившись даме, он вскочил на лошадь; между тем как кучер кареты изо всей силы хлестал лошадей. Оба собеседника поехали в галоп, в противоположные стороны.
– А деньги? кричал хозяин, которого уважение к путешественнику превратилось в глубокое презрение, когда он увидел, что тот уезжает, не расплатившись.
– Заплати, закричал путешественник на скаку своему лакею, который, бросив к ногам хозяина две или три серебряные монеты, поехал вслед за господином.
– Трус! негодяй! ложный дворянин! кричал д’Артаньян, бросаясь за лакеем.
Но раненый был еще слишком слаб, чтобы вынести подобное потрясение. Едва он сделал десять шагов, как почувствовал звон в ушах; в глазах его потемнело, и он упал среди улицы, все еще крича:
– Трус! трус! трус!
– Он в самом деле трус, бормотал хозяин, подойдя к д’Артаньяну и пробуя этою лестью помириться с бедным мальчиком.
– Да, большой трус, сказал д’Артаньян. – Но она, как она прекрасна!
– Кто она? спросил хозяин.
– Миледи, шептал д’Артаньян, и вторично лишился чувств.
– Все равно, сказал хозяин: – я теряю двух, но мне остается этот, которого наверно удастся задержать, по крайней мере, на несколько дней. Все-таки я выиграю одиннадцать экю.
Нам известно уже, что сумма, бывшая в кошельке д’Артаньяна, состояла ровно из одиннадцати экю.
Хозяин рассчитывал на одиннадцать дней болезни, по одному экю в день; но он рассчитывал, не зная своего путешественника. На другой день д’Артаньян встал в пять часов утра, сам спустился в кухню, спросил, кроме некоторых других снадобий, список которых до нас не дошел; вина, масла, розмарину, и по рецепту матери составил бальзам, намазал им многочисленные раны свои, сам возобновлял перевязи и не хотел никакого доктора.
Благодаря, без сомнения, силе цыганского бальзама и, может быть, недопущению доктора, д’Артаньян был к вечеру на ногах и на другой день почти здоров.
Но когда он хотел расплатиться за розмарин, масло и вино, – единственный расход его, потому что он соблюдал самую строгую диету, – и за корм своей желтой лошадки, которая, напротив, по словам содержателя гостиницы, съела втрое больше нежели можно было предполагать по росту ее, д’Артаньян нашел в кармане только измятый бархатный кошелек и в нем 11 экю, письмо же к де-Тревилю исчезло.
Молодой человек очень терпеливо начал искать письма, выворачивая по двадцати раз карманы, роясь в своем мешке и в кошельке; когда же убедился, что письма не было, то он в третий раз впал в припадок бешенства, который едва не заставил его снова прибегнуть к употреблению ароматического масла и вина, потому что когда он начал горячиться и угрожал переломать все в заведении, если не найдут его письма, то хозяин вооружился охотничьим ножом, жена его метлой, а служители теми же самыми палками, которые служили накануне.
– Мое рекомендательное письмо, кричал д’Артаньян, – мое рекомендательное письмо, или я вас всех воткну на вертел как овсянок!
К несчастию, одно обстоятельство помешало приведению в исполнение угроз молодого человека, именно то что шпага его была переломлена надвое, во время первой борьбы, о чем он совершенно забыл. Поэтому, когда д’Артаньян хотел обнажить шпагу, то оказалось, что он был вооружен одним обломком ее, в восемь или десять дюймов длиною, который был заботливо вложен в ножны хозяином гостиницы. Остальную же часть клинка он искусно свернул, чтобы сделать из нее шпиговальную иглу.
Это, вероятно, не остановило бы запальчивого молодого человека, если бы хозяин не рассудил, что требование путешественника было совершенно справедливо.
– В самом деле, сказал он, опуская нож, – где же это письмо?
– Да, где письмо? Кричал д’Артаньян. – Я вас предупреждаю, что это письмо к де-Тревилю, оно должно быть найдено; если же оно не найдется, он заставит найти его.
Эта угроза окончательно испугала хозяина. После короля и кардинала имя де-Тревиля было чаще всех повторяемо военными и даже гражданами. Правда, был еще друг кардинала, отец Иосиф, но ужас, внушаемый седым монахом, как называли его, был так велик, что о нем никогда не говорили вслух. Поэтому, бросив нож, хозяин велел положить оружие жене и с испугом и начал отыскивать потерянное письмо.
– Разве в этом письме было что-нибудь драгоценное? спросил хозяин после бесполезных поисков.
– Разумеется, сказал Гасконец, рассчитывавший этим письмом проложить себе дорогу ко двору: – в нем заключалось мое счастье.
– Испанские фонды? спросил тревожно хозяин.
– Фонды собственного казначейства его величества, отвечал д’Артаньян.
Предполагая посредством этого рекомендательного письма поступить на службу к королю, он считал справедливым свой, несколько отважный, ответ.
– Черт возьми! сказал хозяин в отчаянии.
– Но все равно, продолжал д’Артаньян с национальною самоуверенностью: – деньги ничего не значат, это письмо составляло для меня все. Я охотнее согласился бы потерять тысячу пистолей чем это письмо.