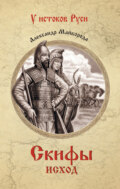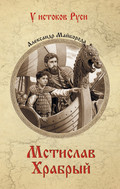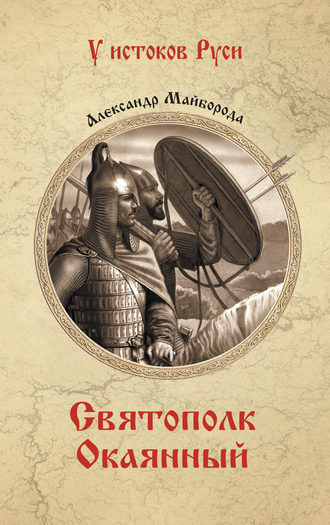
Александр Майборода
Святополк Окаянный
– За жадность будет вам горе!
Векша, который уже пришел в себя, опять злобно сплюнул. Проклятый грек, надо же, перепугал до полусмерти! Но ничего, схожу, Перуну принесу дары, глядишь все и обойдется.
Микула, знавший греческий язык и потому понимавший, что говорил монах, неосторожно сердито заметил:
– Надо было палкой поколотить монаха, больше было бы пользы.
Векша вонзил в него разъяренный взгляд и пообещал:
– Будешь болтать, так тебе достанется палок.
Микула хотел что-то возразить, но Векша, для того чтобы ему можно было безнаказанно перечить, был слишком рассержен, и потому юноша благоразумно метнулся за телегу и ухватился за вилы.
Ярина, старшая дочка Векши, заметив, что произошло, прыснула в уголок платка. Ей четырнадцать годков. Она пошла не в отца и не в мать: высока, стройна, как молодая березка. Несмотря на малый возраст, груди за пазухой округлились, как большие спелые яблоки. Лицо приятное, овальное. Темные тонкие брови – вразлет. Розовые губы пухлые и сочные. На спине, из-под туго обмотанной белой косынки, пробивается как ручей молочно-белая коса в руку толщиной. У отца и матери глаза круглые, карие, собачьи, у Ярины – синие, как чистое небо. Отличалась она и от других детей Векши, низких и коренастых, как перезрелые грибы сморчки, только с собачьими глазами, – все как один в отца.
Смотря на столь необыкновенную дочь, Векша, подозревая, что она от проезжего доброго молодца, не раз допытывался у жены, кто же истинный отец этой девки. Марфа клялась, что у всех ее детей один отец.
Однако женские клятвы не стоят произнесенных слов…
Микула показал Ярине кулак и пригрозил:
– Ярка, не смейся, тумаков от меня получишь.
Ярина опять прыснула, прижав к губам молочную косу и лукаво стреляя синими озерами-глазами. Она Микулу не боится, знает, что он ее любит, а потому не только сам пальцем не тронет, но и другим не позволит. Еще пару дней назад он крепко отколотил соседского мальчишку за то, что тот из озорства дернул ее за косу. Они с Микулой как брат и сестра, только настоящие, родные. И она чувствует себя рядом с ним, как за прочной стеной.
Глава 10
Поругиваясь, Векша принялся за работу, но скоро опять остановился, – на дороге за редкими деревьями появился конь. Холодное осеннее солнце, пасшее в зените холодного сапфирового неба редких ослепительно белых овец-облаков, сияло нестерпимо ярко. Страшась холодного сияния могущественного небесного короля, пушистые облачка стремительно убегали куда-то вдаль, где таилась ночная темнота, как будто в этой тьме было их спасение. Но там их поджидало огромное чудовище, которое глотало слабых белых овец. Пожирая очередное нежно-белое облачко, оно с каждой минутой темнело, наливаясь отечно-фиолетовой злобой и грозя обрушить ее всей мощью на землю, покрывающуюся осенним пестрым ковром.
Скоро, скоро придет время, и это темное чудовище – посланец зимы, – проглотит само солнце и овладеет всем небом, и обрушит на землю холодные моросящие дожди, а когда все затаится в страхе, покроет землю: и леса, и поля, и редкие дома, белым саваном; а реки, весело струившиеся в зеленых берегах, скует толстой ледяной броней. И так пройдет много времени. Но придет время, и небесные воины прорубят окна в черной силе, а затем и испарят ее, и снова будет тепло светить солнце. И исчезнет белый саван, и начнется на земле возрождение. И так на земле заведено испокон веку – жизнь и смерть идут рядом, и жизнь побеждает. Но будет ли так всегда? Это человек не может знать, ибо истину знает только Бог.
Векша расправился во весь рост на телеге – под солнцем казалось, он даже поднялся над землей, как былинный Святогор, – и, опираясь одной рукой на вилы, воткнутые в снопы, сложенные на телеге, попытался рассмотреть всадника прищуренными глазами из-под согнутой козырьком черной ладони.
Он хорошо видел лошадь. Но всадник на коне был почти незаметен, так как был очень мал. И оба они, всадник и конь, были серыми от пыли, как будто их специально валяли по проезжей дороге, и оттого их было трудно рассмотреть.
Векша ощерил из бороденки желтые клыки:
– Собака, что ли, сидит на коне?
Микула, застывший рядом с Векшей, помог, разглядев молодыми глазами:
– Чай, мальчонка на коне сидит.
Векша обеспокоенно хлопнул по бедрам:
– Да неужто лошадь понесла? Чьи же это?
Заминка в работе мужчин привлекла внимание бабьего пола, и одна из многочисленных младших дочек Векши, без спроса – ей надоело потеть на поле, – метнулась, как ежик-колобок, к всаднику и вскоре вернулась назад.
– Там мальчонка совсем малой. Чужой, – задыхаясь от бега, выпалила она то, что увидела.
Векша осуждающе пошевелил жидкой бороденкой:
– Чужой, говоришь? Однако же далече его занесло. Как бы коня невзначай не запалил…
Девчонка, отдышавшись, вытерла грязным подолом сопли и добавила:
– У него на палке красная тряпка!
Векша сразу посерел, как потертое полотно. Он уронил из рук вилы, которыми только что навалил на телегу пару снопов сразу, и, заикаясь и обливаясь потом, заругался:
– Ох баба-дура, с этого и надо было начинать.
Девчонка часто замигала карими бисеринами-глазами. На грязные щеки брызнули, как летний неожиданный ливень, капли, смыли пыль, под которой обнаружилась розовая, как у спелого налитого яблока, нежная кожица. Одной рукой девчонка начала тереть глаза, другой потянулась за подолом. Но прежде она надрывно всхлипнула.
– Ох горе с этими девками! – тяжело вздохнул Векша и спрыгнул с телеги на землю. На земле он спотыкнулся, но мазнув пыль рукой, удержался на ногах. Выровнявшись, он прижал к себе дочку и невесело пробормотал:
– Красная тряпка нехороший знак, значит, идут печенеги…
Дочка, которой было меньше лет, чем прошло с последнего набега печенегов, не понимая ужаса случившегося, но чувствуя врожденной бабьей интуицией, что в словах отца скрыта какая-то невероятная угроза, сначала шумно засопела, а затем тихо завыла.
Сделав этот вывод, Векша зло, от всей души, выругался. Все-таки сглазила проклятая черная крыса!
На всякий случай он тут же перекрестился. Ему пришла в голову мысль, что, наверно, и в самом деле нельзя ругать божьих людей, как бы они ни были нехороши на первый взгляд. Плоть грешна, свят дух. Может, и в самом деле этот жадный и нахальный монах был пророком.
Впрочем, нашествие печенегов дело для этих мест неудивительное. Почти не бывает года, чтобы они не ходили на города русские. И обычно Векша со своей семьей – женой и десятью детьми, – уходил в Белгород. И жил там, пока печенеги не уходили в свои степи. Приятного в этом деле было мало – во время осады обычно голодно, – но зимой и дома не трескались от жира.
Но в этот раз печенеги выбрали для набега совсем неудачное время: старые запасы подошли к концу, а новое жито, пока его не обмолотили и оно находится в снопах, не спрячешь и в запас с собой не унесешь. Поэтому придется снопы оставлять в деревне в овине. А это плохо. Печенеги имеют обыкновение баловаться огнем, – так что то, что не потравят конями и скотом, сгорит. А зимой в лесу без запаса верная смерть.
Векша опять тяжело вздохнул и, вороша темные волосики на голове дочки, нежные, как весенняя трава, проговорил:
– Не плачь Нютка, авось все и обойдется.
Микула понял его печаль – еще бы пару дней, и зерно было бы обмолочено и спрятано в лесные схроны. И тогда можно было бы от печенегов спрятаться в лесных дебрях. Но уходить в лес без запаса – это верная гибель.
Векша в раздумье опустил голову и бормотал, как пьяный:
– Придется уходить в Белгород. В Белгороде будет голодно… Ой как голодно…
Векша вспомнил, какие страдания ему пришлось пережить в прошлый набег печенегов. Тогда от голода умерла половина его детей. Векше стало жалко прижавшуюся к нему дочку, и у него у самого на глазах проступили крупные, как утренняя роса, слезинки.
Ах, если бы эти слезы, как в сказках говорят, и в самом деле превращались в драгоценные камни. И не было бы дороже тех бриллиантов…
От нахлынувшей к сердцу тоски Векше захотелось взвыть, подобно голодному волку морозной зимней ночью, когда нет уж сил терпеть холод и голод, но вся зима еще впереди, и нет никакого просвета. И только холодная луна, заслонившая полнеба над заснеженным лесом, среди искрящихся звезд, манит призрачным светом в мрачное царство богини Морены. И чудится тихий плач провожающих в последний путь умершие души богинь Карны и Жели, с обещанием счастья в той, в будущей, жизни. Но лгут они, не даст уродливая костлявая Морена, богиня зимы и смерти, никакого счастья…
От тяжелых мыслей Векша очнулся, почувствовав, как его кто-то тронул за плечо. Подняв голову, он увидел замерших вокруг детей. Увидев, что отец бросил работу и рядом с ним рыдает маленькая Нютка, остальные также оставили работу и поспешили к нему. Но пока Векша застыл, погруженный в видения пережитых и предстоящих страданий, они боялись его тронуть.
На это осмелился лишь Микула, единственный среди них мужчина. Он слез с телеги и осторожно спросил Векшу:
– Так что будем делать?
Векша сразу не ответил. Глядя куда-то сквозь Микулу, он еще некоторое время размышлял, шевеля губами.
Затем обвел жену и детей тоскливым взглядом смертника перед виселицей.
Микула мысли на его лице читал, как будто они были написаны аршинными буквами. А мысли его были понятны, – печенеги до наступления зимы уйдут, – кочевникам не с руки бродить по большому снегу. Но останутся ли живы те, кто сейчас с надеждой смотрит на него? В Белгороде без своих запасов будет голодно.
Наконец, Векша в очередной раз тяжело вздохнул и решительно, – сейчас не было времени рассуждать, так как печенеги могли нагрянуть в любой момент, – изрек:
– Пойдем в Белгород.
Микула, у которого сохранились после прошлого набега печенегов не очень приятные воспоминания о сидении в Белгороде, обеспокоенно спросил:
– А жито?
– Придется оставить, – неохотно вымолвил Векша.
Услышав это, бабы тихо взвыли.
– Без жита зиму не переживем, – хмуро напомнил очевидное Микула, рассматривая лапоть на ноге, – лапоть размочалился в носке. Микула подумал, что, когда кончится работа в поле, надо будет взять из запасов другие лапти, он еще зимой сделал себе хороший запас лаптей. Мысль была странная, из прежней жизни, когда были планы на сытную жизнь, но вороньей стаей пришли новые времена, в которых слово «завтра» лучше и не упоминать, так как этого завтра скорее всего не будет.
– Даже если и выживем в Белгороде, то без жита мы передохнем еще до начала зимы, – хрипло сказал Микула.
– Голодно будет, – нехотя подтвердил Векша, дрожащими корявыми пальцами гладивший голову примолкшей Нютки. – Возьмем в долг у боярина Блуда, – высказал он последнюю надежду.
– Боярин за долг в рабство возьмет, – сказал Микула, – продаст грекам.
– А что делать? – пожал плечами Векша. – Хоть живы останемся. А если останемся здесь, то печенеги точно убьют.
– Я в Белгород точно не пойду, – категорически возразил Микула. – Останусь около деревни в лесу, буду жито сторожить. Может, и сам выживу и что-либо спасу. Да и в Белгороде едоком будет меньше.
– Ладно, – равнодушно согласился Векша, которому уже было почти все равно, что случится дальше с ним и его детьми. Он отдался течению судьбы, – как Бог сложит, так пусть и будет. Умрут они, значит, так предопределено свыше.
Векша отстранил от себя голову Нютки.
– Марфа, займись детьми.
Марфа схватила ребенка на руки, и во главе бледной кучкой, как одинокая перепелка с выводком, побрела в сторону деревни, часто озираясь на несжатую полосу золотой ржи. В глубине ее души билось инстинктивное желание доделать работу. Эта работа прочила ее детям благополучное выживание. Но рассудочная мысль говорила ей, что все, что она желает доделать, и даже то, что она сделала, больше не имеет никакого значения перед той опасностью, которая пока невидима и неслышима, но вестником которой послужил проехавший мимо измученный мальчишка с лоскутом кроваво-красной ткани в тонкой руке. Родители этого нечаянного вестника беды и все те, кого он знал, скорее всего уже умерли под кривыми мечами пришельцев. И его сестер давно распинают прямо в придорожной пыли потные, пахнущие конским потом и навозом, чужие мужчины, которые ликующе смотрят на корчащихся под ними девочек, которые могли когда-либо в будущем родить тех, кто придет в стойбища кочевников и отберет их стада и уничтожит их семя. В этом мире имел право на жизнь только самый сильный, коварный и безжалостный. И потому воины чужого племени, нежно любящие своих дочерей, радовались страданиям чужих.
Векша не желал, чтобы Микула оставался в лесу пережидать нашествие чужаков. В той, прежней, жизни, которая окончилась совсем недавно, у него были большие замыслы в отношении этого паренька. И они определялись тем несчастьем, что у Векши было восемь девок. А по старинной традиции жена уходит к мужу. И с кем останется Векша в старости, когда отдаст всех дочерей замуж? Кому передаст поле? Кто будет кормить его, когда иссякнут силы? К тому же часть поля, которое он засевает, принадлежало родителям Микулы. А потому, когда Микула уйдет на самостоятельные хлеба, то ему надо будет отдать родовое поле. Это нехорошо для большой семьи Векши.
Но Векша знает, что Микула крепко сдружился с Яриной, и он надеялся, что когда они подрастут, то женятся, и тогда в большой семье Векши все будет хорошо.
Если же Микула сгинет в лесу, то все планы Векши рухнут. Но и запретить парню остаться в лесу он не мог, – в Белгороде будет голодно. Неопытный юноша, ослабевший от голода, должен будет встать на защиту города наравне со взрослыми мужчинами. И в этой драке, где никто никого не будет жалеть и никто не будет делать скидок на возраст, шансы уцелеть юноше ничтожны. Поэтому, может, будет даже лучше, если Микула пересидит нашествие в лесу. По крайней мере с голоду он не умрет, Микула уже не раз уходил в лес на охоту на несколько дней. Правда, это было летом, когда в лесу и ягод, и дичи много, а лесные хищники сыты и не так свирепы.
Векша подумал, что надо чем-то помочь Микуле. Проводив Марфу и ее детей долгим взглядом, Векша проговорил:
– Делай, как знаешь. Возьми мой лук и меч. Мне в Белгороде все равно дадут оружие.
После этого они сели в телегу и поехали в сторону деревни. Около деревни они нагнали Марфу с детьми, которая гортанно прикрикивала на них, как заботливая гусыня.
Векша обогнал Марфину стайку, а Микула спрыгнул с телеги на ходу, он увидел, что сзади, в нескольких десятках шагов, одинокой березкой брела Ярина.
Микула подождал ее. Подойдя к нему, Ярина остановилась.
– Что делать будем? – тревожно проговорила она, развязывая тугой платок.
– Я останусь здесь, – сказал Микула и положил руку на ее плечо. Плечо было теплое, хрупкое и тонкое. Микула почувствовал под своей рукой, что она едва заметно дрожит. Микула привлек ее к себе, и Ярина прижалась к нему горячим телом. Около его лица оказались светлые волосы девушки, они пахли медом и хмелем. Ярина была так беззащитна, что Микуле хотелось держать ее в своих объятиях и никогда не отпускать, даже если их объятия продолжатся вечность.
Ярина подняла голову и взглянула синими озерами-глазами в его глаза. В уголочке синих озер блестели крошечные бриллиантики слезинок.
– И как же ты будешь здесь один? – прошептала она.
У Микулы пока не было четкого представления, что он будет делать, когда останется один, и это его пугало. Но боясь, что Ярина заметит его испуг, Микула начал рассказывать подчеркнуто бодро, что нет в этом ничего страшного и что он множество раз ночевал в лесу и ни разу ничего с ним не случалось. Рассказывая, он увлекся и начал фантазировать. Его увлекательный рассказ неизбежно закончился тем, что Ярина начала уговаривать его, чтобы он взял ее с собой.
Тут Микула пришел в себя. Одно дело самому бродить по лесу и прятаться в кустах, и совсем другое дело взять на себя ответственность за жизнь человека, которого ты любишь. Он тут же начал отговаривать ее, нелогично говоря совсем противоположное тому, что говорил секунду назад. Теперь он говорил, что в лесу будет холодно и голодно и что ему придется прятаться от печенегов, у которых к тому же имеются страшные собаки, которые если находят чужих людей, то разрывают их на части.
Но Ярина уже не слушала его и упорно настаивала на своем:
– В Белгороде будет не лучше. Там будет холодно и голодно. В прошлый раз там умерли все мои братья и сестры. Как я осталась в живых, – сама не знаю. Лучше я умру рядом с любимым.
Ярина была права, в Белгороде беженцам придется несладко, жители не будут делиться с ними своими запасами, да и в свои избы не пустят. Однако для девушки все же там было больше шансов выжить.
В конце концов Микула привел главный довод:
– Ярочка, тебя отец не оставит со мной.
И на этот довод у Ярины был ответ:
– А мы ему не скажем! Мы, когда он будет уезжать, просто спрячемся!
– Так нельзя! – воспротивился Микула.
После этих слов Ярина неожиданно холодно отстранилась от Микулы. Лицо ее было мокрое от потоков слез.
Увидев это, Микула почувствовал в своем сердце необыкновенную жалость к ней. Он прижал ее голову к своему лицу, и, найдя своими губами ее губы, начал их горячо целовать. Вскоре он ощутил, что губы Ярины были как каменные, твердые и ледяные.
Он снова взглянул в ее лицо. Ее глаза были пустые и бесцветные. Слезы на восковом лице исчезли. Микула понял, что, отказывая Ярине взять ее с собой, он теряет ее. Он попытался ей объяснить разумность своего отказа.
– Ярочка, милая, я люблю тебя, а потому и не беру тебя с собой на верную гибель. Я хочу, чтобы ты выжила.
Ярина без всяких эмоций, как бы размышляя сама с собой, тихо проговорила:
– Когда любишь и смерть не страшна, главное, чтобы милый был рядом.
– Но это неразумно, – обращался к ее логике Микула.
– В любви нет разума, – возражала Ярина.
– Но мы же встретимся с тобой после того, как князь прогонит печенегов, – пытался подсластить горькое расставание Микула.
– Нет, мы уже не встретимся, – обреченно сказала Ярина и, повернувшись, пошла к деревне.
– Но почему? – крикнул вслед ей Микула. – Откуда ты это знаешь?
– Так мне сердце говорит, – промолвила Ярина, не оборачиваясь.
– Сердце лжет, – распалившись, выкрикнул Микула.
– Но это мое сердце – другого у меня нет… – проговорила девушка.
Застыв, Микула долго смотрел вслед Ярине, как будто пытаясь вырубить в своей памяти ее облик. Лишь только вблизи было слышно, как он повторял: – Но я же прав… Я же прав… Я поступаю так, потому что ее люблю…
Глава 11
Когда вечерняя тень наползла на деревню, в ней уже никого не было.
Векша с семьей и соседи, утопая босыми ногами в теплой пыли, торопились за телегой к Белгороду, чтобы успеть до захода солнца войти в город. С наступлением темноты городские ворота будут закрыты.
Телега была доверху нагружена ненужной, но милой сердцу рухлядью.
Лошадь, чуя за спиной неподъемную тяжесть, не понимала, почему в то время, когда она должна отдыхать в стойле и жевать припасенное хозяином сено или овес, если он расщедрится, она бредет по дороге, неизвестно куда и неизвестно когда будет ей отдых, и тянула повозку неохотно. Векше и его семейству приходилось, облепив повозку, как тараканы, толкать ее вперед. Спереди и сзади повозки Векши толкали свои повозки их соседи.
А Микула помог Векше дотолкать повозку до дороги и, когда телега встала на запыленную колею, незаметно отстал. Он не захотел прощаний, а Векша был занят своей повозкой. Однако Микула надеялся, что Ярина, увидев, что он остается, тоже отстанет, хотя бы для того, чтобы проститься. А там будет видно… В душе Микула уже был готов оставить ее с собой.
Он увидел, что Ярина заметила, что он перестал толкать телегу и остановился, намереваясь отстать. Он даже встретился с ее глазами. И ее глаза его ужаснули, они равнодушно смотрели сквозь него, как будто он был каким-то призраком, миражом, занесенным из далеких жарких пустынь.
Наконец, телеги беженцев скрылись за поворотом, и Микула медленно побрел в сторону деревни. Через несколько десятков шагов он забыл о девушке, и его мысли заняли другие заботы. До этого времени Микула помогал Векше собираться бежать в Белгород, и у него не было времени заняться своими делами. Но теперь, когда многочисленное семейство исчезло за поворотом, а заодно и из его жизни, ему пора было побеспокоиться и о себе. С минуты на минуту на дороге должны были появиться печенежские разведчики, и они, когда ночь смотрит в глаза, не упустят возможности остановиться в устроенном жилье. Поэтому Микула должен был поторопиться забрать из избы необходимое ему для жизни в лесу и уйти подальше. Без этих вещей в лесу ему будет верная гибель.
Думая об этом, Микула прибавил шаг и вскоре был около деревенских ворот. Кто-то из отъезжающих заботливо прикрыл их, чтобы в деревню не попали лесные звери. Для человека ворота не велика преграда.
Микула приоткрыл щель в воротах, и, не закрывая их за собой, поспешил на Векшин двор. Во дворе ничего не говорило о том, что его хозяева бежали, – на колышках забора даже коричневыми воронами виднелись забытые в спешке горшки, которые Марфа вывесила утром, чтобы солнце их прожарило.
Микула прошел в избу. Поперек избы, осклабившись белой щепой, валялась искалеченная лавка, – во время сборов лавка попалась под ноги Векши и тот в злобе сломал ее. В переднем углу, где раньше висел крест и небольшая, не больше ладони ребенка, икона, виднелось пыльное пятно.
Но Микуле некогда было рассматривать покинутое жилье. Он взял из угла Векшин лук, хороший лук, правда, для Микулы пока чрезмерно тугой, однако, если постараться, то из такого лука можно подстрелить даже могучего горбатого лося ростом выше человека. Рядом с луком стоял колчан из легкой бересты со стрелами, Микула сам делал эти стрелы и оперял их жесткими глухариными пегими перьями, потому эти стрелы были приметны на особицу, – ни у кого в деревне не было таких стрел.
Лук и колчан Микула повесил через плечо. В том же углу лежал и Векшин меч. Меч так себе – дрянь, тяжелый и из плохого мягкого железа. Но при необходимости им можно было отмахаться. Поэтому меч Микула прикрепил к поясу. После этого Микула почувствовал, как его походка отяжелела, как будто ему на плечи взвалил мешок с зерном.
Нагруженный оружием, Микула прошелся по избе и покидал в холщовую котомку все, что ему попадалось под руку и что показалось ему полезным.
От этого занятия его оторвал сорочий треск на улице. Услышав тревожный птичий крик, Микула замер в страхе, – сорока в лесу для охотника сущее бедствие, – но сейчас Микула был скорее дичью. Он ухватил узлом-удавкой котомку и выбежал из избы.
Здесь он обнаружил, что занятый сборами, он и не заметил, как во дворе начало темнеть, и ему давно пора было уйти в лес.
Опасаясь подходить к воротам, там могли оказаться печенеги, Микула по лестнице забрался на ограду и огляделся, – на поле было чисто, около ворот также никого не было.
Микула прислушался. Сорока трещала где-то далеко за деревенской оградой, в стороне дороги. В той стороне ничего также не было видно. И Микула, пока дорога в лес была свободна, перевалился через забор, как куль, и побежал через поле в сторону темнеющего черной полосой леса. Меч и котомка мешали бежать, и Микула с трепетом ожидал каждую минуту, что на поле появятся всадники.
Пока бежал по твердой земле, молился захлебывающим шепотом. Господи, не дай Бог! Господи, не дай Бог!
Добежав до первых деревьев, стоявших сизой стеной, Микула нырнул под юбку огромной ели, и упал на землю, укрытую ковром прошлогодней рыжей хвои. В темноте было душно, как в печи, и остро пахло смолой. Оказавшись в безопасности, Микула долго хрипел, как запаленная лошадь, пытаясь отдышаться. Наконец, дыхание успокоилось, но Микула еще долго лежал, прижавшись щекой к колючей земле. Он видел, что здесь, в месте, которое казалось ему пустынным и безжизненным, со всей силой кипела жизнь.
Жизнь другая, необычная. Вот по цепочке муравьев, протянувшейся красной нитью, скользит зеленая гусеница. Вот среди ветвей серебрится почти незаметная глазу сеть, а сам ее хозяин, величиной не больше ржаного зернышка, как удильщик, ломкими длинными щупальцами натянул струну. Вот на стволе неведомо откуда из ветвей скакнула маленькая серенькая птичка с белой грудью. Она удивленно смотрит черной бусинкой-глазом на странное существо, притаившееся в темноте елового шатра.
Микула шевельнулся, и крохотный комочек перьев, испуганно свистнув, юркнул в щель между пушистыми ветвями.
Небо, просвечивающееся в щели, серело и набухало дождевой водой. Микула поднялся на колени и высунул голову между колких пахучих ветвей. Осмотревшись, он подобрал лук, который вывалился из его рук, когда он нырял под ель, и пошел в глубину леса.
Он знал, куда идти, – здесь, в паре сотен шагов от опушки, у него давно была вырыта землянка. Вначале он рыл ее играючи, а затем подумал, что она сможет пригодиться во время налета печенегов или княжеской дружины. Поэтому Микула давно натаскал вовнутрь сена, а вход в землянку прикрыл плетеным щитом, который сверху завалил слоем земли и листьев. И теперь даже человек мог пройти над землянкой и не заметить ее.
Пока было светло, Микула внимательно осмотрел землянку, потыкал в углы с сеном палкой, – он боялся змей, которые осенью забивались на зимовку в такие теплые и укромные места. Змея дрянное и подлое существо – жалит незаметно, и нет спасения от ее яда. Печенеги ядом степных гадов часто мазали наконечники своих стрел. Если такая стрела оцарапает кожу человека, то существует одно спасение – вырезать из оцарапанного места большой кусок мяса. Но и это не всегда спасает, и тогда человек умирает в мучительных страданиях.
Убедившись, что змей в землянке нет, Микула запалил фитиль в плошке с бараньим жиром, поставил ее на приступок в стене и закрыл щитом вход.
Теперь, когда его невозможно было увидеть со стороны, он занялся своим обустройством, вывернул котомку и начал раскладывать по землянке вещи.
Впрочем, их было немного, и, закончив обустройство, Микула потушил светильник и лег в сено. Было очень темно, и только снаружи доносился шум деревьев, скрипы и едва слышный размеренный стук. Микула некоторое время гадал, что за странные звуки доносятся снаружи, потом, когда его почти сморило сном, догадался, что в лесу начался дождь…
В снах юноши мелькали разноцветные картины мирной жизни, он видел людей, которых знал и которых не знал, – их лица бесконечной длинной вереницей молчаливо проплывали мимо него. И все его сны оканчивались одинаково, – он видел Ярину и пытался с ней заговорить, ее губы шевелились, но что она хотела сказать, Микула, как ни старался, не слышал. Он говорил, что правильно сделал, не разрешив Ярине остаться, что в лесу она не выживет.
И тогда лицо Ярины страдальчески искажалось, и оно таяло. И на его месте появлялся черный ворон с длинным окровавленным клювом, и казалось, что он злорадно улыбается, и Микула понимал, что это не ворон, а монах, напророчивший беду людям, которые отдали ему последний кусок хлеба.
Микула в страхе открывал глаза и видел могильную темноту. Пугаясь темноты, он снова закрывал глаза и снова падал в сонное забытье.
Неизвестно, сколько времени Микула спал, – но однажды он почувствовал внутри себя голодную резь, как будто в живот заползла студеная, тяжелая, как камень, змея, и жалит его, и сосет из него жизненные соки. В голове Микулы появилась осознание, что если он сейчас же не выйдет из землянки и не увидит солнце, которое растопит ледяного гада внутри него, то он умрет. Погаснет, как восковая свеча, фитиль которой догорел, но на тонкой ниточке которого держалась ее жизнь.
Стряхивая с плеч смертную тяжкую усталость, Микула поднялся и на ощупь нашел выход. С трудом отодвинув в сторону щит, он зажмурился от ударившего ему в глаза яркого света. Несколько минут он стоял, закрыв глаза ладонями, и глядя в щель между пальцами, пока его глаза не привыкли к дневному свету.
Был полдень. Среди верхушек деревьев, пропадающих в сером небе, сквозь мглу, как огненный меч, пробивался тонкий лучик света, падавший прямо на полянку в большом лесу, где находилась землянка Микулы.
«Это перст богов, – думал Микула, – указывающий ему жизненный путь. Этим перстом боги говорили, что он еще молод и что он должен пройти предназначенный ему путь и в полной мере перенести страдания и радости, расставленные на этой дороге».
Солнечный луч сделал свое дело – лед внутри Микулы растаял, и в его душе стало необыкновенно легко, в теле появилась сила и энергия, а в сердце неуемная жажда деятельности.
Чтобы выжить в лесной землянке, в первую очередь требовалось сделать запас продуктов. Поэтому Микула, принялся таскать с поля брошенные снопы. Этому ничто не мешало. В поле и на дороге не появлялось ни единой души, и казалось, что весь мир умер и нет никакого нашествия и на всем свете остался только один Микула. Но разумом он понимал, что на самом деле эта пустота на дороге единственно связана с тем, что основные отряды завоевателей уже прошли в глубь земли Русской. Каждый из кочевников стремился первым подойти к богатым городам, чтобы, ограбив их, получить самую большую добычу. И поэтому на дороге могли появиться только одинокие отряды трусливых грабителей, единственно отваживавшихся нападать на одинокие беззащитные деревушки.
Микула таскал снопы с превеликой оглядкой, и до конца дня перенес все оставшиеся снопы. Снопы заняли почти всю землянку, и под землей, вместо прежней затхлой сырости, вдруг повеяло слабым запахом испеченного хлеба.
Микула был доволен. Из колосьев можно было получать зерно, из зерна несложно – муку. А с соломой в землянке не так сыро и холодно.
После того как он снес снопы в свое убежище, у него появилось много времени, и он потратил его на то, чтобы поставить в лесу ловушки.
На следующий день Микула обнаружил в ловушках пару серовато-сизых со струйчатым рисунком на спине глухарей. Микула давно не ел мяса, и все эти дни питался остатками заплесневелого хлеба и тертым зерном. Поэтому, взяв в свои руки добычу, он почувствовав неимоверный голод, от которого его руки и все тело забило крупной нервной дрожью. Дрожащими руками он торопливо свернул птицам головы. Но тут он задумался.
Микула остерегался разводить огонь в землянке. В лесу запах горелого чувствуется далеко, и чужие люди по запаху легко могут найти его. Однако человек не может жить без огня, – огонь нужен не только для тепла, но и для приготовления пищи.
Немного подумав, Микула надумал решить проблему просто, – он приготовит пищу с запасом на костре в овраге, что пролегал рядом и где Микула брал из ручья, протекающего в зарослях кустарника, воду.