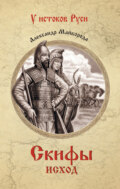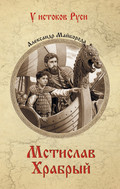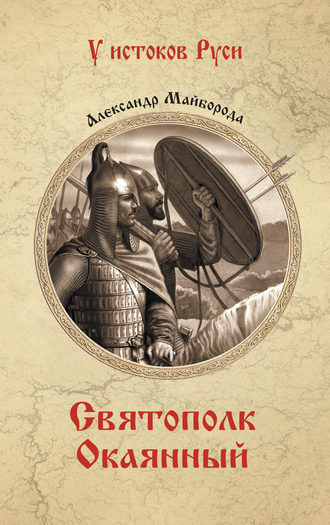
Александр Майборода
Святополк Окаянный
Глава 8
Темная пасть с огромными волчьими клыками проглатывала утомленное багровое солнце, последние лучи которого озаряли застывшие в воздухе загадочные волшебные замки. Баюны говорят, что в этих замках живут маленькие невесомые феи, которые в летнее полнолуние, когда цветет всемогущий цветок папоротник, опускаются на землю и на лесных полянах, скрытых от чужих глаз, при призрачном свете луны, водят светящиеся хороводы. Они говорят, счастлив будет тот, кто найдет волшебный цветок папоротник, – цветок откроет все земные клады. Но еще счастливее будет тот, кто сумеет поймать маленькую фею, – за свою свободу она выполнит любое желание.
Но все это ложь!
Несчастен будет тот, кто воспользуется кладами, открытыми цветком папоротника. И вдвойне несчастен будет тот, кто, изловив фею, отпустит ее, взамен потребовав свершения своих желаний. Ибо желания человека ничтожны, какие бы они ни были: и власть, и несметные богатства.
Только одно желание может принести счастье человеку – любовь женщины.
Но нельзя добиться любви от женщины силой. А фея – женщина, хотя бы и волшебная…
Поэтому лучше не искать цветка папоротника и не ловить фею, чтобы добиться от нее любви.
Мягко растворяются в синеве волшебные дворцы, и загорается первая звезда, как далекий пожар.
Больше всего в жизни Микула обожает спать на сеновале. Любит после долгого жаркого дня упасть в копну мягкого душистого сена. Здесь пахнет земляникой, душицей, мятой и еще каким-то медово-сладким запахом. А вверху, сквозь прорехи в соломенной крыше, в глубоком темно-синем, почти черном, небе загадочно подмигивают далекие огоньки. Они так далеки, что, рассматривая их, невольно проваливаешься в бездонную глубину ночного неба. И все забываешь, и только легкое сладко-мучительное томление в усталом теле напоминает, что ты еще жив и находишься в этом грешном мире.
Говорят, что звезды – это отражение душ людей. Одни горят поярче, другие едва заметные, так живут и люди – одни ярко, другие едва заметно. Но, пока светит звезда, и жив человек. Упадет звезда, и умрет человек. У каждого своя звезда. Где-то и его, и он хотел бы знать, большая она или маленькая, и крепко ли она держится на небе. Но боги мудры, и никто не знает, где и какая его звезда. Потому что страшно смотреть в небо и каждое мгновение бояться, что твоя звезда, держащаяся в небе на крохотных серебряных гвоздиках, вдруг упадет. Лучше ничего не знать. И когда с неба срывается и падает, оставляя за собой тонкий огненный след, звезда, думать, что это сгорает душа человека, неизвестного тебе, а потому относиться к догорающей душе равнодушно, как к желтому листу, плывущему в осеннем холодном хрустальном воздухе. Лист немного полетает, поддерживаемый потоками воздуха, но в конце концов упадет на землю, где уже лежит множество листьев. И они будут наслаиваться слой за слоем. И видны будут только багровеющие в предсмертной красоте верхние листья, и если разворошить толстый слой упавших листьев, то можно увидеть, что нижние уже сгнили, и их с трудом можно отличить от земли. Потому что земля – это и есть тела людей, живших на ней.
Так было всегда… Так будет и дальше… И пусть будет так, как есть.
Над лесом прошелестел слабый ветерок, и сразу что-то оживленно зашептали деревья.
Осень скоро, и деревья шелестят не так, как весной или летом. Летом они лепечут мягко и ласково, как подрастающий ребенок. Осенью их шелест похож на предсмертный хрип. Потому что осень. И скоро зима, и все уснет… и всем пора спать… Завтра Векша поднимет чуть свет, – жито созрело, надо поскорее его сжать… Вяло текут мысли в голове глубоко провалившегося в мягкое сено парнишки.
Его веки наливаются тяжелым свинцом и невольно опускаются, и он готов уже уснуть, как вдруг чувствует тихий, странный шорох снизу.
Сон моментально исчезает. Он переворачивается на бок и вглядывается в сторону, откуда доносится настороживший его шелест. Внизу темно, но все равно видно, как на сеновал, крадучись, поднимается белый силуэт. Это похоже на женскую фигуру. Но странно это, в избе должны все спать. Собака необычно молчит.
Сердце подростка обеспокоенно стукнуло. В лесу, где он живет, водится много странных существ.
Хвала богам, думает он, упыри в нашем лесу не замечались. Но старики рассказывали, что лесные русалки иногда похищают молодых парней. А мог это быть и домовой Дедко. Дедко хозяин в доме, и он не любит людей, которые нарушают старинные обычаи и непочтительны. В отместку за это он имеет привычку пугать и душить их во сне.
Микула вроде ничего не нарушал и всегда был почтителен к духам, однако… Не так давно киевский князь приказал всем жителям стать христианами, и все послушно крестились. И это могло не понравиться старому доможилу Дедко.
Рука парнишки помимо воли легла на лежащую рядом палку. В борьбе с нечистью палка вряд ли поможет, но смелости придает.
Тут же послышался тихий смех и девичий шепот:
– Микула, да ты никак испугался?
Микула облегченно выдохнул, теперь он догадался, что это была Одарка, дочь соседа.
В его голове еще были свежи воспоминания от летнего праздника Купалы. Парни и девки водили хороводы, возносили хвалу богине плодородия Макоши, прыгали через костры. А потом все разбрелись по роще. Что происходило потом, в памяти Микулы осталось как чудный сон, – призрачные белые тени среди деревьев. Странное, доводящее до безумия чувство. Погоня за белыми тенями.
В темноте трудно было разобраться, что это… Кто это… Но все-таки ту, что он поймал тогда… или она поймала его… он почти узнал – она была похожа на Одарку.
Одарка красивая. У нее длинные густые черные волосы, брови стрелами и горячие карие глаза.
Но была ли это она или кто другой, Микула так и не был уверен ни тогда, ни сейчас. Он много раз потом, встречаясь с девушкой, порывался расспросить ее о том, что происходило тогда, в ту волшебную ночь. Но каждый раз, глядя в ее непонимающее лицо, в ее смеющиеся глаза, он так и не решался задать беспокоивший его вопрос.
Да и, в сущности, ничего спрашивать не надо было, потому что все, что происходит в ночь Купалы, происходит не с людьми, а с их душами. А раз так, то нечего их тревожить попусту.
И вот Одарка опять зачем-то здесь.
– Ничего я не испугался! – хмуро проговорил вполголоса Микула. Он опасался разбудить спящих в избе. Пытаясь скрыть недавний испуг, Микула тут же поторопился задать вопрос, ответ на который, впрочем, и так ясен.
Отношения между мужчинами и женщинами не были тайной для деревенского паренька. В избе, где живет большая семья, трудно что-либо скрыть, и он не раз слышал по ночам сладострастные вздохи и видел двигающиеся тени. Но одно дело догадываться о чем-то, и совсем другое дело самому испытать.
Любой парень легко догадается, зачем девушка приходит в полночь на сеновал, где он спит. Но Микула был еще слишком молод, и женщины казались ему странными и непонятными существами, при взгляде на которых отчего-то волнуется кровь. Он был еще очень молод, а потому растерялся и глупо спросил:
– Одарка, зачем ты пришла?
Одарка, с серебряным смехом, коварным зверьком лаской скользнула к нему ближе.
– Тихо, глупенький, нас могут услышать, – жарко шепчет она ему на ухо.
Она обняла Микулу. И Микулу точно обожгло, – у девушки очень горячее тело, как будто прикасаешься к огню. Всем своим телом Микула чувствовал, что на ней только тонкая рубашка… И упругое горячее тело…
Микула никогда раньше такого не испытывал, и от этого огненного ощущения к его голове прилила кровь, и гулко забеспокоилось сердце. Мелко задрожало тело, как будто на землю внезапно опустился мороз. Он не знал, что делать. А в его душе поднимается чувство непонятного страха и восторга. Он хочет обнять это горячее гибкое тело, и в то же время он не в силах пошевелиться, – ему ее присутствие приятно, так приятно и сладостно, что даже если бы в это время пришел конец света, он его все равно не заметил бы.
Микула крепко закрыл глаза и отдался течению событий. В любви разум лишний, тело само знает, что делать…
Пахнет травой и мятой… И еще чем-то странным, непонятным, но волнующим кровь до безумия… Как тогда… Текли обрывистые, как сгнившая веревка, мысли. Не успевают они начаться, как тут же рвутся. Такой веревкой не стоит крепить ценный груз, лучше ее сразу выкинуть.
Руки Микулы притянули горячее тело к себе, и он почувствовал, что его душа улетела куда-то ввысь, где находится рай, где находится вечное блаженство, где нет ни времени, ни пространства, ни холода, ни тепла, ни счастья, ни несчастья. И он забыл обо всем на свете.
Когда он пришел в себя, Одарки рядом уже не было. И был ли это сон, или было это на самом деле, он не знает…
Потом Микула лежал с открытыми глазами, смотрел на звезды в черном небе и думал, что он теперь знает, почему люди боятся ночи, ночью души покидают тела и отправляются туда, где осуществляются их мечты. Все люди рождаются и живут для того, чтобы идти к своей мечте. Но боги спрятали мечты людей слишком далеко. Душе несложно заблудиться. И потому человек боится, что однажды его душа не вернется в его тело… Но страхи ночи исчезают перед волнующими мгновениями любви. Человека радует наступление ночи, потому что вместе с ней приходит любовь. Любовь и смерть – подруги и по жизни идут рядом.
А еще Микула думал тяжело, по-мужицки, что Одарка девушка крепкая и работящая, она будет хорошей хозяйкой, когда выйдет замуж и нарожает крепких мальчиков. Но он для нее слишком неподходящий муж: молод да и своего хозяйства нет.
Микула не родной сын Векши. Родители Микулы жили в соседях, и часть поля, которое сейчас засевает Векша, принадлежала им. Но несколько лет назад, во время поездки в Белгород на ярмарку, они исчезли без следа. Может, их загрыз лесной зверь, а может, злой печенег захватил в рабство, а может, их украло какое-либо лесное чудище, охотящееся за человеческими душами.
Микула спасся потому, что на время поездки родители оставили его на попечение жены Векши. Теперь он жил в семье Векши как родственник… Но Векша не обижал его.
Хрипло и устало, как будто всю ночь пропировал в шальной компании, откашлялся петух. По его сигналу шумно засопела проснувшаяся корова. Захрустела овсом и зачмокала мясистыми губами лошадь. Что-то проблеяли овцы и козы, переговариваясь на своем странном языке. И во дворе послышался сонный голос Векши. Он чем-то стукнул по дереву, закряхтел, послышались трубные звуки и тонкое журчание воды.
Пора вставать, подумал Микула и открыл глаза, и через прореху в крыше увидел, что солнце уже показало багрово-красный край над зубчатой стеной леса. Над лесом висел огромный длинный и черный змей, глядя на который невольно екает сердце. Думалось, то Змей-Горыныч летит разорять Русские земли. Но это заблудившаяся в ночном небе тучка тает под горячими струями солнца.
Микула махнул рукавом рубахи по лицу и скатился вниз по скользкой от утренней росы лестнице. Внизу едва не сунулся носом в стену и огляделся. Во дворе было еще темно и холодно, по утрам холодный туманный воздух опускался на землю. От сырости все вокруг, как испариной на вспотевшем теле, покрылось мелкими росяными каплями, которые в утреннем сумраке темным бисером червоточили дерево и веяли морозным холодом.
Поежившись – полотняная рубаха не спасала от холода, – и дернув плечами в крупной дрожи, так что нудно заломило мышцы, Микула огляделся.
Под навесом тускло и тепло горела лучина. В ее свете Векша в лохматой овчине мехом вовнутрь, наброшенной поверх белой просторной рубахи, в полотняных портках и босой, подсыпал овса в ясли для лошади. Босые ноги от холода покраснели, и Векша, чуя, что пальцы отмерзают, мелко приплясывал, поругиваясь на себя. Поленился, старый черт, ноги в старые лапти воткнуть.
Лошадь, оголодавшая за ночь, нетерпеливо бодала его руку головой. С лошадью Векша разговаривал ласково, кормилица:
– Ну, ну, хорошая, не торопись. Накормлю я тебя, Ласточка. Дай мне подсыпать овса.
Векша коренастый мужик, но росту невысокого. Его лицо заросло тощей бородой какого-то пегого цвета. Когда борода вырастала слишком длинной, он обмахивал ее большими острыми овечьими ножницами, оттого она и торчала клочками.
Заметив Микулу, он недовольно пробурчал:
– А ты чего вскочил? Рано еще… Марфа еще не доила корову.
Векша тронул ладонью, к которой пристало несколько золотистых семечек овса, и его маленькие глазки ехидно прищурились:
– Али ночью русалки спать не давали? – задел он.
Микула почувствовал, как его лицо залилось жарким огнем, и забормотал негодующим голосом:
– Какие русалки? Спал я. Петух закричал, я и проснулся.
Глаза Векши совсем превратились в щелки, сквозь которые блестели едва заметные зрачки, и впалые щеки затряслись в беззвучном смехе. Он добродушно проговорил:
– Ну и крепок же ты дрыхнуть. А я бы русалку мимо не упустил, особенно если она сама влезла ко мне на сеновал.
Микула догадался, что Векша как-то узнал о ночной гостье, и ругнулся про себя:
– Во, глазастый черт! Все замечает. Теперь от его зубоскальства не спасешься».
Тут же он сообразил, что Векша все же не знает, кто приходил к Микуле, но если Одарка проболтается о своей ночной вылазке, то будет обоим плохо. Одарке – даже хуже, девке не положено шляться по ночам по сеновалам, где парни спят. Но ведь известно, что женщины болтают не от ума, и рот им не зашьешь. Хозяйки они… И не только языка.
Да и Векше о том, что он видел, не следовало бы болтать при людях.
За разговором Микула и не заметил, как его перестала бить крупная дрожь, – вроде даже потеплело, показалось ему, – и опасаясь, что Векша в своих рассуждениях доболтается до истины, Микула попытался увести разговор от опасной темы.
Он придал лицу озабоченное выражение и проговорил:
– Сегодня будет сухо. Надо бы на поле поторопиться. Там еще много убирать.
Векша перестал щуриться. Ночь прошла, а с ней и сладкие сны. Теперь пора браться за дело. Год оказался удачным: дожди выпали, когда нужно, а в нужный момент наступило тепло. Теперь надо поторопиться сжать поле, чтобы жито не осыпалось под осенними дождями.
– Микула, пока я запрягаю лошадь, сложи в телегу серпы, вилы и все, что еще нужно, – хозяйственно распорядился Векша и мотнул головой в сторону избы. – Марфа уже встала. Сейчас подоит корову и поедем на поле.
Распорядившись, Векша поскакал в избу, как молоденький козел, высоко поднимая замерзшие ноги.
Микула быстро покидал в телегу нужные орудия. Их искать не надо было, – все висело рядом на стене на толстых деревянных гвоздях, вбитых в бревна, либо было заткнуто под соломенную стреху.
Когда он закончил работу, небо на восходе зарозовело. Послышалось шипение черной птичьей стаи, с утренним дозором облетавших лес, поле и дорогу. Это были вороны, сбившиеся в одну стаю.
Микула неожиданно громко тюкнул на ворон и поспешил в избяное тепло, пахнущее полынной горечью и тяжелым людским духом.
Глава 9
За славным городом Киевом кончался бескрайний лес, покрывающий темно-зеленым одеялом огромную Русскую землю, на которой жили разные люди, называвшие себя по-разному: древляне, туровцы, кривичи, радимичи, вятичи, ятвяги и другие. Но пока никто на этой земле еще не называет себя русским.
Русская земля окружена многими опасностями. С востока ее терзают варвары-кочевники, с запада другие варвары: поляки, тевтоны, чехи. С юга – цивилизованные греки. Но варвары ли они, «цивилизованные» ли, но все они желают разорения Русской земли. Лишь с севера нет опасности, там льды и ночь.
Сказители-кощунники бают, что после того как сыновья бога неба Урана разделили его царство, по жребию местность у океана, где находилась самая высокая гора, получил Атлант. В те времена там было тепло, и растения и животные плодились в изобилии. Тогда были счастливые времена, и люди не ведали ни бед, ни холода, ни голода. И Атлант учил людей различным наукам, земледелию, врачеванию и астрономии. И были у них искусства.
Но для чего земным существам наука о далеких звездах? Они не знали, так как смотрели в землю. Но пришло время, и вечное зло напало на Атлантиду. Была большая битва, где боги метали друг в друга звездами, и поглотил бесконечный Океан счастливую землю. И не осталось от нее и следа, а те, кто остались живы, ушли в другие места. И остались от них потомки, рассеявшиеся по Русской земле. И зло правит на земле.
Но радуют сказители-волхвы, – счастливая земля цела, и вход находится рядом с нами, но только путь в нее закрыт колдовскими заклятиями. И живут там только умершие души, подобные туману. Живому нет туда пути. Но настанет время, и придет богатырь, который разрушит черные чары. И зло падет. И заклятия спадут и откроется путь в потерянную землю. И тогда умершие вернут себе земной облик, и воссоединятся родители и дети, и любящие друг друга. И настанет блаженное время, как прежде. И это блаженство будет продолжаться вечно…
С юга, где в степи по берегам Днепра бродят отряды диких кочевников, Киев оградился Белгородским городком.
Через Белгород тянется широкий шлях. Земля на дороге колесами повозок разбита в пыль. Пыль теплая и мягкая, как лебединый пух. С обеих сторон дорогу ограждает стена дремучего леса.
Проезжие и прохожие опасливо посматривают на лес. Хотя лес и кажется пустынным, но из его черноты чувствуются внимательные взгляды невидимых глаз.
В лесу живет множество опасных существ: и зверей, и разной лесной нечисти – леших, кикимор и прочих. Звери нападают на отставших людей и убивают их. Лесная нечисть околдовывает и сосет кровь и мозг или забирает в вечное рабство. Это уж как кому нравится.
Но в лесу опаснее всех человек. Звери и нечисть убивают, когда голодны. Человек же убивает из развлечения.
Поэтому, перед тем как войти в лес, путники вешают на сучья старого ветвистого дуба, раскинувшегося там, где кончается поле и начинается лес, разноцветные тряпочки в дар лесным духам, чтобы те, в случае чего, оборонили от беды.
Но лес не такой уж и дикий, как кажется со стороны, – чуть в стороне от шляха, на огромной поляне за деревьями виднеется золотистое поле спелой ржи. На поле виднеются запыленные пятна людей, режущих серпами рожь и связывающих пучки в снопы.
О том, кто построил первую хижину в этом диком месте, сельчане говорили смутно. По их словам, давным-давно здесь проходил сын Ноя Мунт, которому досталась северная сторона. Устав от жары и жажды, Мунт последовал за оленем в поисках воды и прохлады. Под старой плакучей ивой он обнаружил источник невероятно сладкой воды. Отдохнув, он назвал это место «Головка» и заложил здесь селение. Ныне живущие здесь селяне считают это место святым, и среди них бродит тайный слух, что где-то в этих местах и спрятан вход в блаженную землю Атлантиду.
Векша стоит среди высокого, ощетинившегося до колен золотыми иглами жнивья и обеспокоенно окидывает взглядом поле. Снулое, как старый медный таз, осеннее солнце припекает из последних сил по-летнему. Разжарившийся Векша распахнул дырявый посеревший от времени зипун и подставляет тощую бороденку тянущему со стороны далеких мазурских болот прохладному сквозняку. Бороденка шевелится степным седым ковылем. Поостеречься надо бы Векше, осенний мазурский сквозняк гнилой, несет с собой лихоманку. Тощее лицо Векши озабочено, некогда ему.
Микула догадывается, что он прикидывает, что даже после того, как он отдаст положенную часть урожая князю, у него останется достаточно, чтобы пережить зиму, и даже сделать хороший запас на следующий год. Надо только его припрятать как следует от алчных княжеских глаз, – в лесу хватает места для схронов, – и тогда голод, который долгое время нависал над Векшиной семьей, забудется, во дворе станет весело, и не будут умирать малые дети – будущее семьи.
От мыслей о предстоящем запасе на душе Векши становится радостно, и в его куцей бороденке блуждает невольная красногубая улыбка. Но, боясь спугнуть удачу, он, поглаживая бороду, поспешно стирает заскорузлой ладонью улыбку и строго кричит на горбатящихся женщин, склонившихся над рваной полосой несжатой коричневой ржи:
– Ну-ка, бабы, пошевеливайтесь, день уж клонится к закату, а у нас еще и половина поля не сжата! Торопитесь, бабы, – задорно кричит Векша, – торопитесь, уберем урожай и будут вам в лютый холод, когда даже нос страшно высунуть за дверь, толстые лепешки с медом. Будете в сытости льняное полотно ткать, шерстяную пряжу сучить и славить богиню плодородия Макошь.
Сгорбленные женщины, предчувствуя зимние утехи, радостно смеются и еще торопливее машут серпами, грозя отрезать себе пальцы, они срезают сухие стебли, вяжут стебли в пучки и бросают их за спину. Бросают не глядя, куда они падают. Там малые дети при деле, – тут же подхватывают снопы и оттаскивают на телегу. Все при своем деле. Все, как в муравейнике.
Микула, как взрослый муж, помогает Векше складывать снопы в воз. Но он еще не так силен, чтобы бросать на верх воза охапки снопов. Векша, скинув серую свитку на колесо и обнажив тощее, жилистое, как у старой лошади, тело, с неожиданной силой швыряет снопы наверх сам. Микула на возу, утонув по пояс в соломе, только ловко ловит снопы и укладывает ровным порядком вокруг себя.
Они торопятся, чтобы поспеть за женщинами. И как только воз заполняется огромным горбом, Векша перетягивает груз пеньковой веревкой и гонит в деревню, – несколько изб, огороженных частоколом поверх земляного вала. Здесь он сваливает снопы в своем дворе на ровную, закаленную горячим солнцем, до каменной твердости, площадку. На этой площадке сжатое жито досохнет.
Конечно, лучше было бы оставить рожь в снопах на поле, здесь и ветерок обдует, и солнце пожарче. Но оставлять на поле сжатый урожай неразумно, в лесу слишком много жаждущих чужого добра. Но больше всего – от завидущих боярских глаз следует держаться подальше.
К вечеру почти все поле сжато, и у Векши радостно дрожит сердце. Удалось убрать все, теперь остается только подсушить, обмолотить и спрятать зерно в тайники. Но все это можно будет сделать позже.
И уже Векша укладывает на телегу верхние снопы, как замечает бредущего по дороге мимо поля человека в черной одежде.
По дороге ходят разные люди. Но добрые люди в черной одежде не ходят. Поэтому Векша делает вид, что не замечает путника.
Зато черный путник заметил работающих на поле людей, сошел с дороги и направился к ним. Приблизившись, он, видя, что на него не обращают внимания, некоторое время стоял в стороне и смотрел на работающих людей, затем размашисто перекрестился и громко проговорил:
– Бог в помощь вам, люди!
Векша отметил, что на местном наречии черный человек говорил не очень уверенно, и сделал вывод, что это грек и христианский монах. После того как Владимир объявил всех христианами, их стало много ходить по земле Русской.
Векша недовольно покосился на грека и поморщился. Думает зло. Эти бездельники шатаются по земле и требуют себе все, что им ни попадется на глаза, толку от них никакого. А у местных людей свои боги: Род, прародитель богов, творец мира; Белобог, бог добра, плодородия; Велес – бог скота, мудрости, соперник Перуна; Ярило – бог весны, пробуждающейся природы, любви; Сварог – бог неба, солнца и огня; Даждьбог – бог плодородия и солнечного света, живительной силы; Лада – богиня любви и брака. Главный над ними Перун – бог грозы. Понятные боги и близкие. Векша недавно молился им, и он знает в дремучем лесу тайное место, где стоят кумиры. Еще недавно и князь Владимир молился старым богам. Но поругался он с княгиней, больше смахивающей по облику на греческую монахиню, и, чтобы помириться с ней, откинул чудной номер: напившись до одури, с помощью дружинников-христиан загнал в холодные воды Днепра жителей Киева и объявил всех жителей христианами.
Зло глядя на монаха исподлобья, Векша тоже старательно обмахнул себя крестообразным широким движением. Он старался, потому что хорошо помнил, что Владимир велел всех, кто не крестится по-христиански, топить в реках, а если реки близко нет, то рубить головы. Если не перекреститься, монах обязательно доложит князю, поэтому лучше не полениться и помахать рукой. Хуже от этого не будет.
Монах смахивал на высохшую жердь и был почти на голову выше Векши. Черная одежда висела на нем, как на колу. На его голову накинут колпак, из-под которого, как лисий нос, торчит хищный горбатый нос. Борода на его подбородке кучерявится проволочно-черным каракулем, как у бабы на неприличном месте.
В одной руке он держит покрытый трещинами и грязью посох из вишневой ветки. За его спиной на тонких тесемках горбом торчит тощий полотняный мешок.
Заметив старание оборванного и покрытого грязью дикаря, монах скинул капюшон и открыл лысую, как бесплодный солонец, голову.
Закинув нос вверх, так что стал похож на ворона, готовящегося клюнуть мертвеца в глаза, монах презрительно кивнул головой.
– Спаси тебя Бог! – пропел гнусаво и ткнул в нос аборигену руку для поцелуя.
– И тебя спаси, – ответил Векша, сделавший вид, что не понял движения монаха, – руку целуют только князю, – и сердито отвернулся в сторону баб и детей, которые продолжали работать, не догадываясь перекреститься.
Монах отвел руку и обдал спину Векши презрительным холодом.
Заметив это, Микула, закопанный по пояс в снопах, также поторопился обмахнуться крестом. Он видел, что монах непомерно горделив и заносчив и непременно желчь свою изольет на голову хозяина, чем обозлит его. А в ожесточении Векша не сдержан на руку и может запросто перепоясать кнутом.
Женщины, наконец, тоже заметили монаха, бросили работу и теперь стояли, широко открыв рты.
«Хлестнуть бы их кнутом по гладким задам, чтобы не бездельничали…» – мелькнула в голове Векши разумная мысль.
Монах же перекрестил поле и всех находящихся на нем. Те замельтешили крестами. После этого монах, довольный произведенным эффектом, присел на колесо телеги.
Женщины, придерживая подолы, сбежались к телеге и кучкой, как перепуганные куропатки, стали ждать, что скажет монах.
Монах намекнул ладанным голоском:
– Жарко. Водички бы…
Жена Векши Марфа, широкая в плечах и высокая, с лицом, как круглый, только что испеченный блин, тут же, по-молодому мелькая грузными пятками, угодливо сносилась в шалаш на краю поля, где прятала свои запасы и воду, и притащила монаху сухую тыкву с водой.
Векша недовольно нахмурился. Слишком раболепно мечется Марфа. Но бабам новая вера нравится, и они в ней чрезмерно усердны. И это не нравится мужу, всю жизнь молившемуся своим богам.
Микула не раз замечал, что Векша, когда его никто не слышит из чужих, насмехается – бабы ходят в церковь не столько молиться новому богу, сколько поболтать между собой.
Монах запрокинул голову под тыквой, и на его горле змеей заходил треугольный острый кадык. Он держал тыкву над красными толстыми губами, не прикасаясь к ней. Вода из тыквы выливалась чистой прозрачной струей, клокотала и исчезала в глотке, как в черной пасти ненасытной Харибды.
Вскоре струя прервалась, и последние капли, как горькие сиротские слезы, исчезли внутри монаха.
Монах небрежно уронил тыкву на затвердевшую землю.
– Вода хороша, – признался он, – необыкновенно хороша. Нигде такой не пивал.
Марфа, расплывшись в радостной улыбке, как жидкое тесто по горячей сковороде, зашкворчала, хвастаясь:
– Нигде такой воды нет. Наша вода самая лучшая на свете!
Монах невинное хвастовство женщины пропустил мимо ушей. Вытерев засаленным рукавом замочившийся кучерявый подбородок, с намеком заметил:
– Но водой сыт не будешь…
Через мгновение стараниями простодушной бабы в одной руке монаха находился огромный ломоть хлеба, в другой кувшин с молоком.
Векша, сделав вид, что поправляет снопы, скрылся за возом и незаметно сплюнул – пропал ужин. Марфа сдуру отдала последнее.
Бабы почтительно смотрели, как монах, сидя в тени телеги, пил молоко прямо из кувшина. Солнце клонилось к закату, надо было торопиться доделать работу, от которой зависела будущая жизнь, но никто не смел тревожить монаха. А монаху было все равно, доживут ли эти варвары до следующего лета или умрут. Он думал над тем, что неплохо было бы заложить в этих диких, но красивых местах монастырь.
Впрочем, думал он, народу в этой окраине водится очень мало, и монахам тяжело было бы выжить без подношений со стороны. Поэтому лучше идти дальше, где говорят, лежит страна богатых городов.
Доев хлеб и выпив молоко, монах довольно рыгнул, отставил, не глядя, в сторону пустой кувшин, где его перехватила Марфа. Поднявшись, трижды старательно перекрестился и бросил строгий взгляд на детей Векши.
– А чада-то в молитвах неисправны, – недовольно изрек он, припомнив их медлительность.
Даже сквозь бурый загар на лице Векши стало заметно, что он перепугался и побледнел.
– Ну что ты, что ты! – зачастил он, мелко крестясь трясущимися пальцами. – Исправны, просто еще глупые.
Монах, довольный, что испугал смерда, назидательно проговорил:
– Чад надо воспитывать, сечь розгами. И почаще. – Он поднял палец: – А ты знаешь, какое испытание предстоит тебе скоро?
Векша совсем обмер и присел от страха.
– Какое? Неужели печенеги?
– Глупый смерд! – раздраженно бросил монах. – Знай, скоро наступит конец света. Наступает тысячелетие после рождения Христа. Придет антихрист, мор. С неба будут литься огненные реки, болезни.
Векша побелел от страха, бороденка затряслась осиновым листом. Бабы тихонько испуганно завыли. Марфин блин сжался и потемнел.
Один Микула не испугался. Он знал, что монах заученно повторял слово в слово, что написано в Библии. Все это Микула много раз читал в греческой Библии.
Микула едва заметно улыбнулся и тут же постарался погасить улыбку под широкой ладонью. Нельзя, чтобы его улыбку заметил монах, если конец света еще неизвестно, будет или нет, то порку смешливому отроку он может устроить запросто.
В непокорную голову Микулы пришла греховная мысль. Христиане на словах проповедуют смирение и прощение, однако в жизни, чтобы вбить свое учение, не брезгуют ни палкой, ни розгой, а многих уже утопили в воде.
– Трепещите, варвары! – заорал в заключение монах, тряся вороньим носом. Наконец, убедившись, что перепугал жителей этого дикого места до полусмерти, властно распорядился: – Хозяйка, мне еще далеко идти, дай мне хлеба, мяса и меда.
Марфа с переполоху бездумно, с выкаченными шарами побелевших глаз, метнулась было к шалашу к своим припасам, но тут же опомнилась, вернулась и виновато развела руками:
– Смилуйся, но мы все отдали, что имели. А мед будет позже. Еще не время его собирать, а прошлогодний закончился.
На лице монаха появилось разочарование. От злобы дернулась щека. Монах хотел выругаться, но сдержался, лишь красные толстые губы мелко затряслись, неразборчиво изливая поток непонятных греческих слов. Он встал и, сильно втыкая в землю вишневый посох, как будто желая ее проткнуть насквозь, пошел прочь. Правда, уже отойдя на приличное расстояние, все-таки громко крикнул: