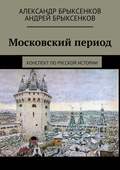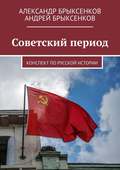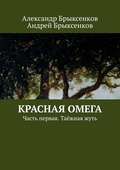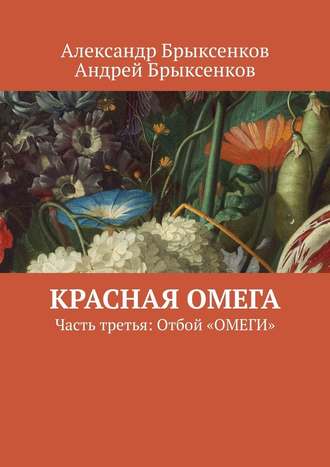
Александр Брыксенков
Красная омега. Часть третья: Отбой «ОМЕГИ»
«БАЛЕТ»
Нет, не случайно «Ворону» укоротили ремонт. Не зря его досрочно выдернули из Николаева. На флоте ставился яркий спектакль, военно-морской балет (как выражаются моряки) под названием: «Поиск и атака подводной лодки, с фейерверком, стрельбой и реальным бомбометанием». И в этом действе «Ворону» предназначалась роль премьера. И не потому, что он был лучшим в дивизии ОВР. Как раз, наоборот: именно к «Ворону» имелось со стороны начальства дивизии больше всего претензий. А потому выбрали «Ворон», что он был пока единственный из сторожевых кораблей, который имел на вооружении мощное противолодочное оружие: две реактивные двенадцатиствольные установки «Смерч», действие которых и планировали показать флотские стратеги дорогому Никите Сергеевичу, которой прибывал с инспекторским визитом на Черноморский флот.
Следует отметить, что действия противолодочного корабля, выполняющего учебно-боевую задачу по обнаружению и уничтожению вражеской подводной лодки зрелищным не назовешь. В предрассветной сумеречности, беспрестанно меняя курс и скорость, мечется средь лохматых волн одинокий сторожевик. Это он ищет подводную лодку. Ищет долго и, в большинстве случаев, безрезультатно. Оно и понятно.
И акустическая аппаратура того времени не была совершенной; и гидрология Черного моря, где холодные плотные слои воды перемешиваются с теплыми водами меньшей плотности, не способствовала прямолинейному прохождению акустического сигнала; да и «вражеская» подлодка решала свою задачу по прорыву противолодочного рубежа, а поэтому активно маневрировала.
Наконец, акустик, вроде бы, определял пеленг на лодку. Охреневший от метаний по мостику командир орал в микрофон: «Боевая тревога!!! Атака подводной лодки!». Сторожевик устремлялся вперед. Над предполагаемым местом нахождения подводной лодки бросалась в море шумовая граната, имитировавшая взрыв глубинной бомбы. И всё!
Но это в жизни. Это морские будни. «Балет» же – совершенно другая картинка!
Ласковым летним утром, по ласковому же теплому морю на малой скорости строем «клин» двигался ордер из трех кораблей. В центре – «Ворон», справа и слева – по малому противолодочному кораблю (МПК), которые, как и «Ворон», имели установки «Смерч». Мористее, на траверзе ордера, в пяти-восьми кабельтовых от него с такой же скоростью, как и ордер, скользила строго параллельным ему курсом кокетливо-белоснежная правительственная яхта «Ангара» с Хрущевым на борту.
«Балет» начался с появлением на горизонте, прямо по курсу ордера, боевого вертолета. Он немного покружился над волнами и сбросил специальную шашку, которая, достигнув поверхности моря, взорвалась и окрасила воды в ярко зеленый цвет. Эти движения означали, что вертолет «обнаружил» подводную лодку противника и обозначил её местонахождение цветовым пятном.
Сразу же за кормой «Ворона» вскипел бурун. Сторожевик резко увеличил скорость и бросился в атаку на вражескую субмарину. Его примеру последовали и оба МПК.
Барсукова снедало любопытство. Для ветеранов «Ворона» ракетная стрельба не была в новинку, а молодой лейтенант еще ни разу не наблюдал этого зрелища. Поэтому он, несмотря на объявленную боевую тревогу, передал свои обязанности старшине машинной команды, а сам, поднявшись из машинного отделения и слегка приоткрыв дверь на верхнюю палубу, стал наблюдать за событиями, которые развивались следующим образом.
За милю до центра зеленого пятна на кораблях завыли, заверещали все шесть установок «Смерч». Через считанные секунды 72 реактивные, глубинные бомбы накрыли большую акваторию. Поскольку для вящего эффекта взрыватели бомб были установлены на небольшое углубление, то перед удивленными взорами Хрущева и его свиты несколько гектаров моря красиво и мощно вспенилось на десятиметровую высоту.
После окончания работы реактивных установок «Ворон» продолжил движение вперед, а МПК разошлись веером. Через некоторое время со всех кораблей начался сброс больших глубинных бомб, а на «Вороне» заработали еще и два бомбомета, которые стали швырять глубинные бомбы направо и налево на 200 метров от бортов корабля. Бедная подлодка!
Завершив бомбометание, командир «Ворона» доложил на «Ангару» об «уничтожении» подводной лодки противника. «Ангара» ответила благодарностью Никиты Сергеевича, затем подняла «ХА» до места, что означало: «Конец учения» и отсемафорила: «Кораблям следовать в базу самостоятельно».
Оба МПК пошлепали в Стрелецкую бухту, а «Ворон» немного подождав, совершил циркуляцию и, не спеша, направился в зону недавнего бомбометания. Там с корабля была спущена шлюпка, гребцы которой, сделав несколько гребков, побросали весла и начали азартно вылавливать оглушенную взрывами рыбу. Вылавливать и швырять её на дно шлюпки.
Вечером, на зависть всей бригаде сторожевых кораблей, камбуз «Ворона» испускал аппетитные ароматы. Каждый вороновец получил на ужин по две больших жареных рыбины. Хороший все-таки и заботливый был командир «Ворона». Тем не менее, очень скоро подведет его старпом, а матросики подгадят, организовав «гороховый бунт». И только личная благодарность Хрущева за хорошее бомбометание спасет его от позорного изгнания с флота.
ДОЛОЙ ЛИНКОРЫ!
После посещения Хрущевым Черноморского флота и ряда военных округов, где ему были показаны в действии новейшие виды ракетного вооружения, сначала в «Красной Звезде», а потом и в других центральных газетах появились статьи крупных военных специалистов. В этих статьях солидно обосновывалась ненужность в ракетно-атомный век такого устаревшего и уязвимого при атомном ударе вооружения, как линкоры и крейсера, самолеты и вертолеты, тяжелая артиллерия и танки. Элитными становились ракетные войска и подводный флот.
И началась в Вооруженных силах преступная, как казалось многим, катавасия. Началось массовое списание и уничтожение боевой техники, а параллельно с уничтожением и списанием материальной части началось резкое сокращение численности личного состава
Газетчики с удовольствием живописали, как списанные танки пашут в колхозах землю, как могучие военные тягачи подвозят к молокозаводам батареи бидонов с молоком. При этом они не озадачивались вопросом, во что должна обойтись колхозу эксплуатация такой махины, как современный танк.
Чистой воды наслаждение испытывали журналисты (почему то им не нравились офицеры), сообщая о том, как табуны капитанов, майоров прилежно осваивают профессии свинарей, дояров, слесарей, сварщиков. По причине своей недалекости не понимали журналисты, что подобными радостными сообщениями они выставляют страну в очень невыгодном свете. В разных там Америках отставные офицеры приглашаются фирмами, компаниями на престижные руководящие должности, а нашим майорам доверяют лишь поросячий навоз убирать.
Понятно, что вместе со всеми Вооруженными силами активно разоружался и Черноморский флот. Лейтенант Барсуков с небольшой

группой матросов направлялся к автобусной остановке, чтобы добраться до Угольной стенки, где стоял подготавливаемый к разделке крейсер «Адмирал Нахимов». Командир БЧ-5 послал их туда с наказом разжиться кой-какими приборами и прокладочно-уплотнительными материалами. Бок о бок с ними, по бурой степи урчали два гусеничных тягача. Они медленно волокли прямо по грунту толстенные орудийные стволы, извлеченные из башен разоружаемой батареи береговой обороны. Стволы, скользя по металлическим включениям, оставшимся в земле со времен войны, издавали резкие, пронзительные визги. Под эти стенания моряки погрузились в полупустой рейсовый автобус и поехали в город.
Крейсер стоял с небольшим креном на правый борт, над которым возвышалась стрела плавучего подъемного крана, с качающейся на тросах носовой орудийной башней, только что оторванной от палубы крейсера.
Взбежав по трапу на борт корабля Барсуков привычно бросил правую руку к фуражке, хотя, как он сразу понял, приветствовать было нечего: флаг корабля был давно и навсегда спущен. Поползав по низам, вороновцы поживились немногим: тут уже до них хорошо поработали механики с ближайших к раскуроченному крейсеру кораблей.
На «Нахимове» Барсуков встретил двух своих однокашников. Они тоже прибыли на крейсер за поживой. Обрадованные встречей, лейтенанты стояли на баке у обреза, дымили сигаретами и жарко обсуждали происходящее на флоте очевидное безобразие. Особенную горечь вызвала у них новость о том, что на Николаевском судостроительном заводе началась резка уже готовых на 70—85% современных боевых кораблей.
Лейтенанты-механики после бурного обмена мнениями, в конце концов, пришли к одному решению: уничтожение кораблей – очередная дурь Хрущева, и этой дури, в силу природного жополизства, не препятствуют высокопоставленные флотские чины.
Наблюдая всесоюзный военный погром, недоумевал не только флот, недоумевала вся армия и не только советская, но и зарубежная. Военные специалисты Запада никак не могли понять, в чем суть развернувшейся в России кампании по уничтожению новейшей военной техники, что стоит за этими совершенно не объяснимыми действиями.
Западные журналисты на каждой пресс-коференции с участием Хрущева, непременно, в разной форме задавали ему один и тот же вопрос: «Чем будет защищаться Россия в случае нападения на неё врагов?». Хрущеву приходилось каждый раз многословно повествовать о ракетно-ядерном щите, прикрывающем СССР.
Поскольку ему никто не верил, так как было хорошо известно, что ракет у русских вояк еще очень мало и они, эти ракеты, далеки от совершенства, то есть никакого советского ракетно-ядерного щита не существует, то вопросы сыпались вновь и вновь.
Как-то на одной из встреч Хрущева с корреспондентами, те умаяли советского лидера и он в запальчивости выдал:
– Нам не нужны ни пушки, ни танки; ни корабли, ни самолеты. У нас есть «Голубая линия»!
По взметнувшимся глазам репортеров Хрущев сразу же осознал, что он ляпнул то, о чем ляпать, особенно после чилийского землетрясения, было категорически нельзя. Но, увы, птичка вылетела!
Теперь западная пресса стала донимать Хрущева и его Министра обороны противным вопросом: «Что есть „Голубая линия“?». В ответ на этот вопрос интервьюируемые что-то лепетали, как-то изворачивались. А, что делать? Не могли же они сказать, что в случае опасности нападения на СССР со стороны какой-либо державы сработает система «Голубая линия», и земля под столицей этого агрессивного государства разверзнется, и столичный город превратится в прах. Погибнет правительство, парламент, генеральный штаб, рухнет финансовая система и тогда этой стране будет уже не до войны.
Но вскоре пресса сняла этот вопрос с повестки дня. Хрущев, обещавший показать всему миру «кузькину мать», выполнил свое обещание. 30 октября 1961 года над Новой Землей на высоте 4000 метров была взорвана крупнейшая в мире ядерная бомба. Её мощность составляла 58 млн. тонн в тротиловом эквиваленте. Это было в два раза меньше проектной мощности, поскольку специалисты поопасались взрывать все 100 млн. тонн: вдруг адская мощь взрыва проломит земную кору или изменит траекторию Земли.
Но и 58 млн. тонн было более, чем достаточно! Результаты взрыва ошеломляли! Сейсмическая волна трижды обежала Землю. На расстоянии 50 километров от эпицентра взрыва расплавилось абсолютно все (танки, пушки, трактора). Двухметровый слой льда попросту испарился; оплавилась гранитная основа острова. Ударной волной в радиусе 100 километров было снесено всё. В поселке, расположенном на рубеже 800 километров вынесло все стекла.
Западная общественность решила, что это и есть материальное проявление таинственного проекта «Голубая линия».
РОСНОЕ УТРО
Утро на Петровском заводе наступало неохотно. На верхних ярусах леса, обласканных утренним солнцем, уже во всю кипела жизнь, а внизу, под елками было и тихо, и росно, и прохладно. Это-та прохлада и прогнала сон от прикорнувшей у костра троицы.
Ополоснувшись водой из пруда и наскоро перекусив остатками вчерашней пищи, все начали готовиться в обратный путь. Танкист стал копаться в двигателе: возникла необходимость обмотать резиной потекший патрубок. А дед и подводник отправились в длинный кирпичный барак, перпендикулярно примыкавший к корпусу главного цеха. Там они вчера обнаружили крупнокалиберный пулемет, который моряк решил увезти с собой в город.
После ухода товарищей танкист не долго колдовал над двигателем. Кусок резины для обмотки патрубка оказался коротким. Нужно было искать другой кусок. Танкист спрыгнул на землю и стал прикидывать, где бы можно раздобыть приличный резиновый лоскут. Прикидывал он не долго. От этого занятия его оторвали сухие звуки выстрелов.
Резко повернувшись в сторону выстрелов, он увидел, как из дверей барака выскочил подводник, а следом за ним выкатились два человека, очень похожих на киношных диверсантов. Они произвели вслед убегавшему несколько выстрелов. Подводник рухнул на землю.
От увиденного танкист ошалело заорал. Заметив его, нападавшие, стреляя на ходу, кинулись к танку. Видать стрелки они были неплохие: пули так и защелкали по броне.
Танкист по военной привычке сноровисто бросился на землю, затем прополз под танк, через открытый нижний люк пролез внутрь машины, скользнул на водительское место и отдал тормоз.
Диверсанты остолбенели, когда на них, отрезая путь к лесу, с грохотом двинулась бронированная махина. Сначала они в растерянности заметались по двору, а затем дружно кинулись к главному цеху, чтобы скрыться в зияющем проеме ворот.
Танкист развернул танк на месте и, разогнавшись, бросил его на кирпичную опору слева от ворот, в зеве которых уже исчезли диверсанты. Раздался треск и грохот. Обветшавшее здание вздрогнуло, накренилось и стало плавно оседать, погребая под собой и печи, и вагранки, и диверсантов. На лобовую броню танка рухнула балка, и посыпались обломки здания.
Освобождаясь от обломков, танкист дал задний ход. Танк послушно выполз из-под груды хлама и остановился в центре двора. Не дожидаясь пока осядет пылевое облако, поднятое рухнувшим зданием, танкист вылез из машины и побежал к распростертому на земле телу своего товарища. Подводник был жив, но без сознания. Правое его плечо было простреляно. Руку заливала кровь, на губах пузырилась розовая пена. Когда танкист приподнял обмякшее тело товарища, он обнаружил вторую рану на его спине. Пуля, очевидно, прошила легкое. Кровь в ране хлюпала и чуть сочилась по спине. Танкист положил подводника на живот, а сам кинулся в барак. Там он сразу же наткнулся на тело старика. Дед Сергей был мертв.
Используя свою рубашку и рубашку, снятую с деда, танкист остановил кровотечение на плече товарища и крепко замотал рану тряпьем. Пулевое отверстие на спине он прикрыл широкими листьями мать-и-мачехи и стянул торс подводника тугой повязкой.
Закончив труд санитара, танкист стал устраивать своих несчастных товарищей на борту «тридцатичетверки». Павла Леонтьевича он опустил в боевое отделение, предварительно освободив пол от кирпичного мусора и устлав железо еловыми ветками. А тело деда Сергея танкист закрепил с помощью электропровода снаружи танка, вдоль левого борта. Константин Викентьевич спешил, Он хотел как можно скорее передать подводника в руки медиков.
Танк нервно лавируя между стволами деревьев, держал курс на восток, в сторону «Дороги жизни», но из-за различных лесных препятствий продвигался вперед очень медленно. Танкист вел машину, а душу его терзали сомнения: как далеко до «Дороги жизни» и найдет ли он её; проходима ли эта дорога для танка, ведь за полвека она наверняка заросла деревьями?
Широкая просека появилась очень скоро. Очевидно, лесники за «Дорогой жизни» ухаживали. Посреди неё, уже заросшей довольно высоким лесом, пролегала чистая от серьезных зарослей трасса, по которой танк мог свободно передвигаться.
Обрадовавшись, танкист увеличил скорость машины, и танк, плавно покачиваясь на оплывших пнях, устремился в сторону железной дороги.
Константин Викентьевич вел танк и мучительно корил себя за то, что он устроил возню с этим плавающим танком. Не задержись они на день, и все были бы живы и здоровы. И еще он недоумевал, откуда взялись в лесу эти два бандита, и с какой стати они открыли стрельбу.
«Ответы на эти вопросы частично даст подводник, если дотянет до врачей и выживет, – решил танкист. – Ну, а полную картину воспроизведут те, кому это положено по долгу службы».
ЗАГОВОР
Не только Барсукова, не только камарцев, но и всех простых людей, граждан бывшего СССР, изнурял вязкий вопрос: «Почему так неожиданно и мгновенно расстались коммунисты с властью, отдав её демократам без какого-либо сопротивления?» На самом же деле никакой неожиданности и мгновенности не существовало. Просто граждане не знали, что распаду социалистической системы предшествовала активная подковерная деятельность, которая началась еще во времена великого Бровеносца.
Когда Александр Иванович, собирая в лесу чернику, беседовал с Барсуковым на эту тему, то он предположил, что распаду комсистемы способствовало циничное предательство партапаратчиков. Надо отдать должное проницательности коммунмашевского пропагандиста. Он очень близко подошел к истине. Но и Барсуков был не промах, подозревая, что без КГБ в этом деле не обошлось.
Заговор твердел. Причем твердел здорово.
Рыхлый прежде конгломерат предельно настороженных, сильно озабоченных критиканов существующей в стране власти, наконец, трансформировался в крепкое сообщество решительных и энергичных единомышленников. Перед ними ясно маячила высокая цель. Они осознавали задачи, которые нужно было решить для достижения этой цели, и им были известны способы преодоления предстоящих сложностей.
Конечно, можно недоуменно разводить руками и удивляться тому, что в исключительно ответственной среде очень сдержанных, осмотрительных, не склонных к откровениям людей, какими были чекисты, составился антиправительственный заговор. И не только составился, но и созрел невероятно быстро.
Но недоумевать и жестикулировать, право, не строит, так как для ускоренного развития мятежного процесса имелся некий мощный фактор, игравший роль катализатора.
Сначала-то это был вовсе и не катализатор, а, так, смутный, неприятный намек, далекое видение вообще-то возможной, но нелепой и неправдоподобной катастрофы. Однако со временем тревожный фантом приобретал все более реальные, осязаемые черты, неуклонно материализуясь в мрачно надвигающийся катаклизм, кошмарной сутью которого являлся крах «могучего и нерушимого» Союза Советских Социалистических Республик.
Вот это-то апокалиптическое видение и всплывало, отчетливей, чем у кого-либо, в сознании кэгэбэшников, вот оно-то и действовало, как катализатор. И не мудрено, что именно офицеры КГБ буквально всей своей кожей ощущали надвигающееся бедствие. Ведь они были наиболее осведомленными гражданами и, в отличии от основной массы советского народа, достоверно знали о бедственном состоянии советской экономики, о трудно преодолимой отсталости промышленности и сельского хозяйства, о слабой дееспособности политической системы.
Признавая широкую осведомленность КГБ о положении в стране, нужно отметить, что и народ был не совсем слеп. Когда с разрешения Хрущева на прилавках магазинов стали во все большем количестве появляться зарубежные товары, то люди сразу же оценили их высокое качество. Импортная одежда, обувь, мебель, бытовая техника, радиоэлектроника были настолько лучше отечественных аналогов, что народ стал буквально охотиться за иностранным ширпотребом. А свою реакцию на низкое качество отечественной продукции оформил в виде анекдота:
– Вопрос: «Что жужжит, не летает и в цель не попадает?»
Ответ: «Советский бесшумный летающий аппарат для точного попадания в цель.».
Перманентно не богатые прилавки продовольственных магазинов уже к 80-ым годам стали пугающе пустыми. Кроме Прибалтики, которую власти всячески умасливали, мясо, мясные консервы, колбасы, копчености, сыры практически исчезли из свободной продажи на всей территории Союза. Их можно было купить лишь в Москве, в Ленинграде и в столицах союзных республик, куда и устремлялись алчущие мясных деликатесов людские массы. Ехали на личном транспорте, на автобусах, выделяемых профсоюзами, на поездах.
В Союзе при наличии какой-либо безысходности народ терпеливо ждал улучшения. Когда же этого не происходило, он выдавал анекдот. Вот и в данном случае получила широкое хождение анекдотическая загадка про длинное, зеленое, пахнущее колбасой.
Людям уже надоело плеваться на экраны телевизоров при виде грузного Генсека, на грудь которого навешивался очередной орден. Правда, плевались не все. Те, кому положено, не плевались, а подсчитывали награды, которыми был удостоен тов. Брежнев. Когда они все посчитали, то сначала удивились, а потом занесли его имя в «Книгу рекордов Гиннеса», потому, что имел Генсек неимоверное количество орденов и медалей, а если конкретно, то 136 полновесных экземпляров. Среди них только орденов Ленина насчитывалось 8 штук.
Народ попривык и уже не закрывал глаза, чтобы не видеть как мучается дорогой Леонид Ильич, вычитывая по бумажке имя отчество своего соратника, которого он публично поздравлял с каким-то юбилеем. Народ, как и в любой безысходности, реагировал на государственный маразм анекдотом:
– Брежнев на заседании Политбюро: «Идея!». К нему бросаются с блокнотами, чтобы записывать. Он удивленно на всех смотрит и продолжает: «Я спрашиваю, иде я нахожусь?».
Советские люди не возмущались, не бастовали, не бунтовали (ну разве что разок в Новочеркасске). Под влиянием сладкозвучной прессы они надеялись и ждали, что неудобства скоро кончатся, что вот-вот наступят золотые дни, когда и джинсов и колбасы будет в достатке. Тем более, что в Программе КПСС (принята на ХХП съезде КПСС в 1961г.) четко утверждалось:
«…В итоге второго десятилетия (1971—1980г.г.) будет создана материально-техническая база коммунизма, обеспечивающая изобилие материальных и культурных благ для всего населения…»
Программа обещала к 1980 году «обеспечить в Советском Союзе самый высокий жизненный уровень, по сравнению с любой капиталистической страной.».
Заканчивалась Программа феерически:
«ПАРТИЯ ТОРЖЕСТВЕННО ПРОВОЗГЛАШАЕТ: НЫНЕШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ БУДЕТ ЖИТЬ ПРИ КОММУНИЗМЕ!»
Отличие заговорщиков от основной массы трудящихся как раз и заключалось в том, что кэгэбэшники четко знали: никаких золотых дней и никакого коммунизма не будет, что СССР неуклонно скатывается в фазу упадка и впереди страну ждет жесткий экономический и политический кризис.
Они знали, что из-за устаревшего станочного парка, из-за архаичных технологий производительность труда в отечественной промышленности в 2,5—3,0 раза ниже, чем на Западе, что наша промышленная продукция не может конкурировать с аналогичной продукцией выпускаемой в развитых капиталистических странах, так как при низком качестве изготовления она имеет повышенную материало и энергоемкость, недостаточную надежность и убогий дизайн.
Они знали, что заготовки зерна и мяса снижаются, что с 60-х годов Россия, прежде традиционно продававшая зерно за границу, стала его закупать, что эти закупки год от года увеличивались и достигли кризисной цифры 45 млн. тонн, что на импорт продовольствия тратится в целом 15 млд. дол. в год (36% от валютных поступлений) Им было известно, что производительность труда в сельском хозяйстве в 5 раз ниже, чем на Западе.
Они знали, что 97% валютных поступлений обеспечивается за счет продажи сырья, в основном нефти и газа, что при падении цен на нефть государству будет не на что покупать зерно и страну ждет тотальный голод.
Конечно, наступление кризиса и немедленная катастрофа не несли печати неизбежности, фатальности. Для выхода из застоя, для недопущения ни хаоса, ни распада нужны были всего лишь решительные изменения во внешней политике, нужна была капитальная модернизация экономики, а прежде всего требовалось усовершенствование политической системы.
Руководство же страны ничего изменять не желало, оно тупо не хотело воспринимать что-либо новое. На верхах не рассматривались не только долгосрочные проекты, но и текущие-то вопросы предпочитали оставлять на потом.
Да и то сказать, ожидать творческой работы от политических бронтозавров, сгрудившихся в Политбюро, было наивно. Прежде всего, из-за дряхлости его членов. К ХХУ1 съезду КПСС (1981 г.) средний возраст членов Политбюро составлял 71,2 года, а такие мамонты как Пельше и Суслов разменяли уже девятый десяток.
Эта старческая компания пожизненных членов не только не желала ничего нового, но и не терпела никого нового, а тем более, молодого, творческого в своей среде. Убывавшие естественным образом соратники замещались такими же замшелыми, но надежными в смысле лояльности по отношению к руководству, ветеранами-аппаратчиками.
Чтобы руководить этим сонмом несменяемых нужно было обладать большой смелостью и даже геройством, чего и имел в избытке семидесятипятилетний
Четырежды Герой Советского Союза,
Трижды Герой Народной Республики Болгария,
Трижды Герой Германской Демократической Республики,
Трижды Герой ЧССР
Герой Монгольской Народной Республики,
Герой Республики Куба
Генеральный секретарь ЦК ЦПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев.
Заговорщики ясно понимали, что без устранения политического абсурда, без смены власти, без изменения экономической политики никакого улучшения жизни в стране не будет. Радикальный способ изменить положение – это провести в жизнь силовой вариант: арестовать или устранить руководство страны, партии и армии, ввести в столицу и крупные города внутренние войска, взять под контроль жизненно важные объекты.
Но от такого способа отказались сразу же. Во-первых, неизбежна кровь, во-вторых, налицо вопиющая нелегитимность. Помимо того, конечный результат имел неопределенный вид, поскольку силовой переворот, может не поддержать прикормленная и политизированная армия.
Да и народ, советский народ сбрасывать с игрового поля было еще преждевременно. Правда, аналитики уверяли, что трудящиеся, в силу своей инертности, защищать власть не будут и на баррикады не пойдут. Инертность же масс проистекала, якобы, из следующего:
– народу во всех жизненных срезах до чертиков надоела парт-государственная рутина и беспросветный продовольственный и промтоварный дефицит,
– в стране еще действует гулаговская прививка страха,
– гражданская позиция людей сильно размыта алкоголем.
В подтверждении последнего утверждения аналитики, кроме всего прочего, приводили следующую таблицу потребления спиртных напитков в СССР, в сопоставимых ценах:
_________________________________
1940 – 1.01 л. год
1950 – 1,5 л. год
1960 – 2, 04 л. год
1970 – 4, 40 л. год
1980 – 7, 80 л. год
И, тем не менее, народ – это сила, и поведение его, несмотря на выкладки аналитиков, предсказать довольно трудно. Поэтому вместо прямого силового хода был принят другой более аккуратный, но и более длительный путь.
Мозговой центр заговорщиков разработал довольно детальный, многоступенчатый план ликвидации партийной монополии на власть, первым и обязательным шагом которого было введение в Политбюро (в результате сложной интриги) человека, разделявшего взгляды и цели заговорщиков.