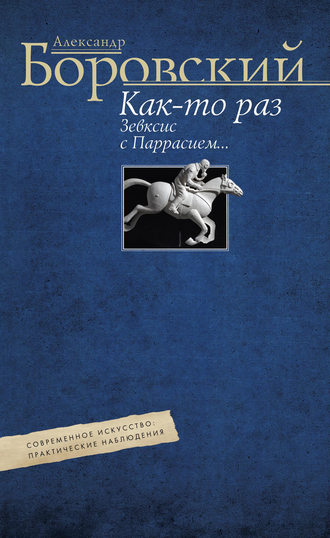
Александр Боровский
Как-то раз Зевксис с Паррасием… Современное искусство: практические наблюдения
«Дезориентация» Косолапова имеет целью на самом деле ориентацию: обострение видения, промытые глаза… Для того же Л. Соков в своих деревянных струганных ассамбляжах воспроизводит классические натюрморты Сезанна. Да как – фрукты на первом плане, прикрепленные на резинке, можно оттянуть, и затем они «вернутся» в композицию. Остроумно? Но не шутки ради это делает Соков: за этим трюком – серьезные размышления о мимесисе, кроме того – мастер-класс по анализу формообразования у Сезанна в категориях весомость, плотность, индивидуальная сезанновская перспектива.
Но, конечно, в традиционном восприятии (в сущности, верном) главные коммуникации соц-арта и поп-арта проходят в плоскости идеографии: американцы научились работать со всем корпусом своих культурно-исторических реликвий, в который они настойчиво включают героев и атрибуты массовой, детской и откровенно коммерческой культуры. Вот и соц-арт подхватил эту идеографическую активность. Естественно, критично: соц-арт безжалостно взял в оборот советские мифои идеологемы: деконструируя их, расщепляя, выворачивая наизнанку. Не было священной коровы, по которой бы не прошлись соц-артисты. Казалось, все было направлено на то, чтобы, прямо по Марксу, расстаться с советской историей смеясь. В том числе и с историей советского искусства. И все же подобные процедуры критическо-идеографического плана представляются мне недостаточными. Затронуты и иные пласты, в том числе лежащие вне «голой» текстуальности.
Иными словами, текстуальное укоренено в том, что Г. Башляр называл «материальной сокровенностью», то есть обусловленностью образа толщей переживаний материального мира. Если не задумываться о генезисе, об этой материальной сокровенности, соц-арт окажется некоей демонстрационной машинкой редуцирования идиологем, абсурдизации лозунгов и мультидесакрализации. Под материальной сокровенностью, очевидно, следует понимать переживания перцептивно-тактильного и опознавательного плана – о них уже говорилось. Но так же – иные пласты «сокровенности». Например, дискурс тоталитарного детства. Соц-артисты были последними художниками «глубокого» советского происхождения: при всем своем концептуальном нигилизме они были всерьез затронуты советским бессознательным.
Соц-арт тематизировал табу в подростковом сознании, табу, в котором намешано было и детски-сексуальное, и государственно-репрессивное, и статусно-возвышенное, сформированное официальным искусством. Собственно, об этом серия В. Комара и А. Меламида «Ностальгический соцреализм».
«Страна Малевича» А. Косолапова апроприирует хит соцреализма – картину А. Герасимова «Сталин и Ворошилов на прогулке»: кремлевская стена, вожди, как былинные русские богатыри. Заря на заднем плане – явно заря новой эры. То есть прогулочный шаг вождя на самом деле покрывает расстояние от седой старины до светлого будущего. Словом, это произведение серьезное. И вот поверх живописного поля узнаваемым мальборовским шрифтом Косолапов пишет: Malevich. Это уморительно смешно даже на текстуальном уровне. Автор мог бы ограничиться репродукцией или даже прорисовкой хрестоматийной картины: абсурдистский юмор считывался бы и так. Считывалась бы и иллюстрация к философски-спекулятивному конструкту Б. Гройса: авангард = тоталитаризм. Он вообще требует большого недоверия к конкретному материалу, мешающему глобальным обобщениям, тем уместнее была бы отчужденность контурного рисунка или схемы. Что же движет Косолаповым, вполне серьезно, истово переписывающим картину – возможно, бойчее, чем сам сталинский академик? Думаю, ему необходим фактор свежести, живости, только-что-сделанности: живопись телесна, она растет и даже выпирает из пространства картины, как опара. Такую не придавишь кирпичиком, тем более маркированным иностранным шрифтом… Тем пуще – именем человека, который жизнь положил на борьбу с этой жизнеподобной живописью… Думаю, Косолапов вообще не нацелен на ответы. И вопросы-то он не задает. Он выстреливает семантическую матрицу, формулу или абсурдистский слоган и вымачивает и выпаривает их в соляных и щелочных растворах самых неожиданных и противоречащих друг другу контекстов. Стёб улетучивается, материальная сокровенность, укорененность в истории, пусть абсурдистской – другой не дано – остается, обеспечивая этой вещи не лозунговую, а длительную судьбу.
Точно так же противостоит одноразовости, апеллируя к материальной сокровенности, и Л. Соков в своей знаменитой «Встрече скульптур». Джакометти всю жизнь сомневался в самой возможности выразить реальное, однако реальность века со всей неоднозначностью отразилась в самом этом сомнении: в текучести его мира, как бы незавершенного формообразованием. Его фигуры неестественно вытянуты в пропорциях, они словно готовы ускользнуть (не потому ли вся эта диспропорциональность, это великолепное небрежение анатомией, чтобы успеть подхватить их на краю, удержать за эти нечеловечески, миражно вытянутые конечности). Идея побега, исчезновения, ускользания преследовала его постоянно. Человек Джакометти – воплощенное экзистенциальное сомнение – встречается с совершенно другим антропологическим типом: абсолютно завершенным, агрессивным в своей материальности, уверенным в необходимости своего присутствия в мире. С Лениным!
Образы Джакометти, при всей их ускользаемости, намертво закрепились в нашем сознании. О скульптурных Ленинах я и не говорю. Так что встретились два реди-мейда: не столько в плане технического воспроизведения, сколько в матричности, отпечатанности в сознании.
Любопытно, что мы говорим о материальной сокровенности со всеми ее коннотациями укорененности (собственно в материале, в рецепции, в состоянии сознания, словом, в том, что суммируется Х.-Г. Гадамером как «прирост бытия») применительно к соц-арту. Явлению, кровно связанному с концептуализмом, то есть по определению умозрительным, текстуальным. Что ж, теоретическое Pro постоянно преодолевается практическим Contra, и наоборот. Подобный мироощущенческий оттенок есть и в работах, лежащих далеко за пределами соц-арта, но к которым мы привычно применяем понятие «сталинский текст нашей культуры». Таковы, например, «Языческие бабы» Н. и В. Черкашиных и особенно инсталляция В. Кошлякова и В. Дубосарского «На руинах тоталитарной империи». Они буквально вопиют об укорененности в материально сокровенном: от перцептивного до бессознательного.
Одномерность присутствует, как правило, в сугубо манифестационных вещах. Так, С. Мироненко в работе «Концептуальное искусство» остроумно манифестирует исчезновение материального плана произведения: знатоки искусства изображены «правильно», даже рама материальна, но собственно произведение, которое рассматривается изображенными зрителями, дано текстуально: словами Conceptual art, написанными на белом грунте. Столь же манифестационна и инсталляция группы «Медгерменевтика» в Музее Людвига в Русском музее: здесь так же осуществляется крайняя редукция материального плана изображения (контурный рисунок – пиктограмма, ахроматизм). Но подвергается сомнению и языковый план – его инструментальность, способность служить понятийному мышлению. Для этого используется старый добрый дадаистский еще метод алогизма. Рисунок кошки, вылезающей из мясорубки, напоминает сюрреалистический слоган – «случайная встреча на столе для вскрытия трупов зонтика и швейной машины».
Современное искусство знает много способов полной дереализации материального плана изображения. Один из них – метод апроприации, полного присваивания «чужого» ради каких-то конкретных умозрительных целей (такова в музее Людвига серия Г. Рихтера «48 портретов». Любит апроприировать «чужое», мистифицируя исходный материал, Д. Дин, а затем и Д. Кунс).
Другой метод демонстрирует Г. Пузенков. Традиционная изобразительность у него дематериализуется по определению: он как бы отменяет ее, репрезентируя уже электронную, компьютерную реальность, данную в мимесисе интерфейса. Удается ли Пузенкову создать некую живописную поэтику на основе этих интерференций с электронным формообразованием? Изображение, взятое в файловые рамки, – самый примитивный, но необходимый план. Далее идет характер живописной реализации этой файловой сетки. Здесь уже присутствует намек на пиксельное разрешение: простые геометризованные рамки и буквенные обозначения как бы подрагивают на электронной волне, внутри цветных заливок наблюдается некое «копошение» оптических составляющих, первоэлементов. Это и есть пиксель, единица визуализации… Пузенков делает работу с визуализированным пикселем фирменным средством индивидуальной поэтики. Подобно тому, как попартисты в свое время делали средством своей поэтики работу с растром. Однако пиксель – знак более сложных процессов. Собственно, Пузенков работает с целым рядом опосредований и миметических процедур. Он создает живопись – аналог дигитального изображения, тело которого состоит из конгломератов пикселей. В свою очередь, это изображение являет собой дигитальную репрезентацию некоего исходного образа – изобразительного или беспредметного (от Моны Лизы до action painting). Этот исходный образ состоит в каких-то собственных отношениях с реальностью. Навигация по мимесису – вот что лежит в основе образности Пузенкова. Без этого неисчерпаемого ресурса пиксельность как таковая выглядела бы как остроумная находка, не более того.
Вообще, атака на материальный и тем более перцептивный план изображения, а также на понятийность художественного мышления осуществляется, разумеется, не ради деконструкции как таковой. Это часть постмодернистской стратегии ироничной ревизии любого состоявшегося, институциированного, отрефлексированного в своих выразительных средствах и материалах направления. Особенно часто этой атаке подвергается авангард с его артикулированным ощущением миссии, не только искусствосозидающей, но и жизнестроительной.
Направления удара могут быть самыми неожиданными. Так, Шерри Левин, апроприируя, то есть присваивая (перерисовывая, переписывая, перефотографируя) произведения К. Малевича, А. Родченко, Л. Лисицкого, подвергает критической процедуре, как ей представляется, «маскулинность» авангарда. Остроумную реплику в этот активизировавшийся в 1980-е гендерный дискурс добавляет А. Хлобыстин (купальный костюм «Маяковский – гендер»). Этот дискурс в русле искусства про искусство, кажется, вообще неисчерпаем – вот уже несколько лет Т. Антошина успешно ведет специальную тему «Музей женщины»…
С. Бугаев (Африка) в работе «Анти-Лисицкий» подвергает остракизму политическую ангажированность советского авангарда: простейшая «смена цвета» в апроприированном классическом плакате Л. Лисицкого эпохи Гражданской войны заставляет задуматься о многом… Ну и, естественно, особенно «подставляет» авангард его посмертно-музейный статус (с неизбежными издержками хрестоматизации и коммерциализации). Особенно активен в неприятии статуса авангарда как священной коровы был поздний соцарт… Но были и другие – Младен Стилинович еще в середине 1980-х создал инсталляцию «Малевич – не пирожное». В «Пагане» Е. Елагиной и И. Макаревича демифологизация авангарда (башня Татлина) в его провиденциально-экстатических амбициях и инсайтах остроумнейшим образом дана методом от противного. То есть нагнетанием мистифицированно сакрального и эзотерического, вплоть до галлюциногенного градуса…
Критическая позиция в русле темы искусство про искусство имеет, естественно, несколько уровней. Крайне редок уровень тотального отрицания или деконструкции, основанный на принципиальной аксиологической релятивности. Отошел в историю и уровень «звериной теченской борьбы» (П. Филонов), хотя, если отбросить самоубийственную, по крайней мере в СССР, политическую составляющую, соревновательность и связанная с ней критичность играли важную роль в эволюции искусствопонимания. В целом самоанализ искусства – процесс, растянутый во времени, носит коррелирующий и компенсаторный характер.
Причем – касается ли критическая процедура целых направлений, или обращена на выразительные средства, или затрагивает проблемы языка. Скажем, атакам на авангард в его историческом бытии сопутствуют оммажные жесты в его сторону: неоновые конструкции-башни Дэна Флавина, инсталляция Л. Ламма «Почести русскому авангарду», «Иконусы» В. Кошлякова. Последние парадоксальным образом синтезируют в качестве некоего национального канона формы иконные горки и супрематические конструкты. Естественная боязнь эталонности, неумолимо накапливающей с годами потенциал репрессивности, здесь снимается самим характером материала – упаковочного картона и пенопласта: бросовым, расходным, самоуничтожающимся. Но оставляющим некий запах живого формообразования – прежде всего запах клея, – отсылающий к великолепной проектной культуре 1920-х. Инсталляции – реконструкции Брацо Дмитриевича из этого же ряда. Дмитриевич в них не только «отдает дань». Да, в красном углу его инсталляций всегда присутствуют icons авангарда, но художник как бы опредмечивает, овнешняет (выражение М. Бахтина) их, организуя новый мир предметных реалий согласно поэтике оригинала. По сути дела, идет одомашнивание, утепление, размузеивание. Есть здесь еще один уровень: полемика с концептуализмом, всегда стремящимся дезактивировать материальный план произведения, его «плоть». На этот вызов Дмитриевич отвечает квазиматериализацией: «умозрительное» побивается наивно-натуральной, живой предметностью.
Вот еще один пример компенсаторного плана. В 1990-е годы Т. Новиков выдвинул разделенную большой группой адептов доктрину нового русского классицизма. В какой-то степени полемически – как реакцию на всевластие постконцептуалистских стратегий в тогдашнем московском contemporary art. Априорно внеположный постмодернистской ментальности культ Прекрасного, Возвышенного, Классичного тем не менее был вполне концептуально отрефлексирован. Прежде всего – по линии High and Low. Его амбивалентность тематизировал сам автор, окружая в своих текстильных коллажах-«гобеленах» фотоимиджи высоких классических образцов рукодельными, доморощенными рамками. Благодаря этому заявленная норма возвышенно-прекрасного снижается, точнее – очеловечивается. Речь здесь идет о трогательном стремлении гуманизировать, одомашнить прекрасное, тактильно оградить его именно как частное. Одновременно здесь важна и риторика Новой Академии – ведется борьба за придание этому одомашненному прекрасному статуса какой-то новой, авторизованной Тимуром Новиковым сакральности и новой музейности. Для понимания поэтики нового классицизма этот разнонаправленный, но единый в своей сущности жест символичен – как одна из последних, наверное, в прошлом веке попыток «своими руками» «спасти Красоту».
Тенденция размузеивания имеет не только симпатично-гурманскую составляющую Дмитриевича.
В. Дубосарский и А. Виноградов в своем проекте «Danger!
Museum» предлагают своего рода контрмузей. Проект сделан для Венеции и, хотя и декларирует самодостаточность, конечно же предполагает музейную среду. Это – музей в музее, но их музей – подрывной, это своего рода троянский конь. В их проекте нет ничего футуристически-модернистского: разрушить музей, и на обломках… Нет и признаков нынешнего левого дискурса – тихой сапой перенацелить институцию, разорвать связи с «мировым капиталом» и вывести ее из культурного истеблишмента и господствующей системы репрезентации, сделав мозговым центром и архивом социального активизма. То, что задумали Дубоссарский и Виноградов, я бы назвал музейным рейдерством. Они хотят с налету захватить традиционную институцию, выставить охрану, создать видимость прежней деятельности, а на самом деле вывести ценности. Это отличный игровой проект, полностью скорректированный с тактикой и настроениями нынешнего дичающего, теряющего былые культурные завоевания капитализма. У Дубосарского и Виноградова были все данные для реализации проекта. Как уже говорилось, благодаря апроприации имперсональной «худфондовской» манеры, заточенной в свое время на некую тотальную всеядность, у них есть некая квазиуниверсальная картина мира. Они способны регулировать оптику согласно ожиданиям аудитории – имитировать постмодернистский пастиш или предельно редуцировать месседж, но вот этой цельности и универсализма картины мира у них не отнять. Поэтому они не боятся упреков в коммерциализации или попсовости: могут работать и для олигархов, и «для бедных». Просто они используют ожидаемость, заставляют конъюнктуру работать на себя, используют ее витальную силу. Энергия спроса – это мало кто мог отрефлексировать в нашем искусстве: не принято, стыдились. На Западе смогли многие – после поп-арта, хотя бы Кунс, Чепмены, на Востоке – современные китайские художники. В Danger: Museum художники оседлали волны двух конъюнктур: высоколобо-интеллигентской и простецкой. Первая волна связана с идеей контроля. О ней существует огромная литература – от Паноптикона Бентама до современных представлений об «обществе контроля». Авторы, вставив в живопись глазки видеонаблюдения, дали повод бесконечным размышлениям о включенности музея в систему тотального слежения. Вторая волна связана с мифологией арт-рынка: идеей манипулирования потребителем. Чем выше аукционные и прочие цены, тем слышнее разговоры о мыльных пузырях, панамах и прочих напастях. Дубосарский и Виноградов и здесь на высоте: они и раньше владели трэшевыми интонациями, но теперь их bad painting плоха как никогда. Что ж, конъюнктура глядит на нас глазками видеокамер, проверяя, все ли приняли фэйк за высокое искусство. Художники, наверное, готовы согласиться с любым толкованием. Мне же ближе мое, рейдерское: музей захвачен, подлинные ценности вывезены, плохо сделанные фальшивки выставлены, видеонаблюдение ведется для маскировки: пусть думают, что здесь можно что-то украсть.
Что ж, можно и украсть. Но все же главный сюжет искусства про искусство – рефлексия. Искусство в своей самообращенности изыскивает внутренние ресурсы вдохновения, источники и способы репрезентации. Зевксис с Паррасием по-прежнему в процессе выяснения отношений.
2009–2010
Актуальный рисунок
На протяжении столетия русский рисунок несколько раз приобретал актуальность, выходившую за рамки своего автономного бытия: становился средством решения каких-то общих проблем современного искусства и искусствопонимания, притягивал наиболее ярких критиков и теоретиков. Первый эпизод – мирискусническая графика. Трудами А. Бенуа, Н. Радлова, С. Маковского, чуть позже Н. Пунина, В. Кандинского и даже Л. Троцкого впервые в России формулировались онтологические основания графического искусства и оттачивались сами понятия графической дисциплины: графизм, линейный и живописный рисунок, культура воспроизводимости и пр. Этот период скрупулезно описан А. Сидоровым[12]. В самой бережности отношения к терминологическим аспектам, вообще, к становлению понятийного аппарата и языка описания присутствовало понимание актуальности этого культурного феномена: рефлексия графического непосредственно сопровождала, а иногда и опережала тогда развитие графического искусства. Не пройдет и двадцати лет, как А. Федоров-Давыдов напишет: «Расцвет графики за годы революции создал нечто столь принципиально-отличное, что мы волею-неволею, говоря ныне о графике, думаем совсем не о том, о чем думали совсем недавно»[13]. При этом он констатирует: «Новой графике» соответствует выработанный ею канон художественной критики. То есть рефлексия графического продолжает подпитывать художественный процесс в одном временном режиме. И снова графика привлекает наиболее профессиональных авторов десятилетия: молодого тогда А. Сидорова, В. Адарюкова, А. Федорова-Давыдова, М. Фабриканта. Отличие между арт-практикой начала и конца двадцатилетия можно описать в терминах раннего Н. Радлова: у художника-синтетика (по Радлову, это типологичный мирискусник и постмирискусник) «между творцом и природой возникает третий элемент – стиль». «Аналитическое искусство отрицает стиль как преграду, стоящую между художником и природой». После «стилизма» и «аналитики» (видимо, имелся в виду собирательный образ авангарда) наступает почти двадцатилетний период опять же нового понимания рисунка (разумеется, мы говорим о мейнстриме: отдельные линии «стилизма» и «аналитики», пусть и отошедшие на периферию, продолжают существовать, не предполагая, что их ждет реактуализация). В 1930-е годы утвердился, в терминах Н. Радлова, «живописный рисунок», то есть рисунок реалистический. Разумеется, Радлов не мог ожидать, что описанный им тип рисования, предполагающий живой, полнокровный, активный контакт с реальностью, обретет идеологическую нагрузку. Это обременение – обязанности и обязательства реалистического отображения действительности, оценивалось с позиций, фундированных ленинской теорией отражения. «Реалистический» (кавычки здесь означают очень суженное, канализированное в искусственных, формализованных идеологических берегах понимание реализма) тип рисования завоевал неоспоримо господствующее положение. Как мы видим, продолжался феномен одновекторности развития графики и критического канона. Только в этом случае этот канон имел явно выраженный идеологически-охранительный характер. Живописный рисунок, станковый и иллюстративный, оставался прежде всего окном в некую конвенционально принятую реальность (конечно, бытовали и другие типы рисования. Например, авторские реализмы подчас выдающихся мастеров, волею общеисторических обстоятельств вытесненные в частную сферу. И натуроподобное пассивное рисование, которое и тогда третировалось как бескрылый натурализм). Требовалось завлечь зрителя в это окно, обустроить его в этой реальности, более правильной, чем текущая действительность, потому что существующей в режиме долженствования, более поддающейся контролю. Контроль осуществлялся незыблемыми правилами прочтения. Прочтения как литературного текста, так и неопосредованной реальности. Этот санкционированный ракурс шел еще от ленинской статьи «Лев Толстой как зеркало русской революции». Если великое произведение было зеркалом, вполне избирательно открывающим реальность в ее объективном (возможно даже, скрытом от самого писателя) развитии, то тем более избирательным, рассчитанным на санкционированные правила прочтения (миропонимания) зеркалом обязано было быть реалистическое рисование.
Справедливости ради отметим, что, несмотря на все эти обременения, в 1930–1950-е годы созданы и выдающиеся произведения графического искусства (долгое время они рассматривались в свете преодоления консервативного канона. Сегодня появилась возможность взглянуть на них по-новому: как на уникальное сочетание конвенциональной мировоззренческой проектности и авторского полнокровного, преодолевающего умозрительные препоны видения).
Тем не менее с середины 1950-х начинается мощный процесс обновления рисунка и графического языка в целом. Процесс реактуализации традиций был общекультурным, но графика объективно играла в нем ведущую роль. Почему? Вопрос непростой. Важное значение имело само физическое присутствие в тогдашней культуре плеяды старых мастеров графики. Фигура Фаворского объективно культовая, а рядом, в Москве и Ленинграде, еще здравствовали другие патриархи – А. Гончаров, А. Фонвизин, Д. Митрохин, В. Курдов, П. Басманов, В. Стерлигов. Их привлекательной стороной, помимо чисто творческих моментов, была сравнительная невовлеченность в дела официоза. Все-таки ответственные идеологические задачи прежде всего ставились живописцам и скульпторам тематически-монументалистской специализации. Старикам рисовальщикам дозволялось заниматься проблематикой углубления и сохранения графической культуры. В. Фаворский и В. Стерлигов вообще были, каждый в своем роде, философами визуального. Постепенно функция сбережения и теоретического осмысления исторического опыта (который воспринимался как опередивший свое время и «остановленный на бегу» сталинским официозом) в общественном сознании трансформировалась в мифологизированный образ «хранителей огня» (так называлась одна из выставок перестроечной поры). Итак, процесс обновления графического языка проходил под знаком восстановления прерванной во второй половине 1930-х годов традиции. Представления о ней оказались довольно обобщенные. К тому же они развивались от мирискуснической традиции, в особенности в ее интерпретации питерскими графиками 1920-х – начала 1930-х годов, через лебедевское рисование, как динамичное, книжное, так и неоклассичное (рисунки обнаженной натуры), до футуристической и супрематической графики. Многообразие традиций стимулировало и поиски в сфере языка описания. В работах о графике реализовали себя лучшие тогдашние критики – Ю. Герчук, Ю. Молок, Э. Кузнецов, Г. Поспелов, В. Петров, Н. Дмитриева, Л. Мочалов, Б. Сурис.
Графики явно были самыми, говоря современным языком, продвинутыми художниками в тогдашних творческих союзах. Это предполагало широту взглядов. Официоз требовал непримиримости по отношению к любому инакомыслию, тем более – к институционально оформленному (по крайней мере, на уровне групповой идентификации) в виде неофициального искусства. Логика борьбы требовала непримиримости и от андеграунда. В пылу обид был соблазн (и позднее, в конце восьмидесятых, перед этим соблазном многие летописцы художественной эпохи не устояли) вообще свести все содержание художественного процесса к победе подвижников и бунтарей андеграунда над охранительством и конформизмом. Однако в силу этой самой широты интересов графика оказалась сферой, так сказать, общепримиряющей. И дело не только в том, что графикой кормилась тогда большая группа наиболее передовых деятелей «другого искусства». Просто она нашла опору не в конфронтации, идеологической и институциональной, а в моментах онтологических. Хотя бы в дематериализации реального плана и материализации плана метафизического у В. Фаворского… В щемяще-экзистенциальных отношениях женской фигурки и пространственных планов у П. Басманова… В чаше-купольных композиционных построениях В. Стерлигова… В спиритуальной формульности Б. Ермолаева…
Вместе с тем нельзя забывать: обновление графического происходило в парадигме пусть репрессированной и реактуализированной, но традиции. В Ленинграде – это прежде всего традиция В. Лебедева, большей частью периода его рисунков плотницким карандашом и более поздних ню, обогащенная рисовальным опытом Пикассо, от периода аналитического кубизма до энгровского этапа, может быть, Сегонзака и Дюфи. К ней примыкала матюшинская линия, а также более локальные – рудаковская, акимовская и др. Два поколения ленинградских рисовальщиков (от прямых учеников этих мастеров до тогдашней молодежи – Т. Шишмарева, В. Власов, В. Курдов, Н. Костров, В. Матюх, Б. Власов, А. Сколозубов, А. и Г. Трауготы и др.) опирались на ресурс этих традиций. В Москве традиция была не столь кристаллизована, но и здесь считывались истоки: В. Фаворский, П. Митурич, В. Чекрыгин, А. Тышлер, А. Гончаров. Для молодых тогда «западников» Ю. Красного, Л. Збарского, Б. Маркевича и др. исключительно важен оставался пример рисования П. Пикассо и Матисса. В мою задачу не входит сколько-нибудь подробный очерк обновления графической традиции начиная со второй половины 1950-х. Важно констатировать: за десять с небольшим лет был создан современный рисуночный стиль, энергичный, адекватный надеждам на обновление жизни, претворивший многообразные традиции модернистского толка, вполне свободный от идеологических и дидактических обременений предшествующего периода.
Значение этого процесса невозможно переоценить. Был создан, еще раз повторю, вполне современный рисунок, отвечающий как требованиям времени, так и традициям уникальной графической культуры, в течение столетия дважды (в 1900–1910-е годы и в 1920-е – начале 1930-х годов) занимавшей в развитии мирового графического искусства позиции, объективно являвшиеся самыми передовыми. Но актуальным в нашем понимании этот рисунок не был.
Возрождение традиции высокого модернизма (этот термин тогда у нас не был в ходу) была задачей почетной и необходимой для нормализации художественного процесса. Но ее реализация налагала определенные обязательства лимитирующего характера.
Сосредоточенность на развитии высокой, тем более испытавшей гонения традиции, культ профессионализма, осмысленного опять же в контексте этой традиции, требования индивидуализации визуального стиля предполагали определенный профетизм. Официоз отвергался как прибежище непосвященных, как «низкое». Но в те же отношения High and Low, Высокого и Низкого, эта позиция вступала и со многими течениями contemporary: особенно теми, которые сознательно снижают интонацию, работают с профанным – низовой культурой и трэшевыми материалами. Низкое, Law, отвергалось у нас вплоть до 1970-х, когда в русле андеграунда уже вполне сформировались отечественные изводы поп-арта и концептуализма (из этого вовсе не вытекает, что андеграунд как таковой был по определению «прогрессивнее»: нет, и там хватало традиционализма, причем зачастую не такой высокой пробы). Просто ревнители модернистской культуры не могли принять в свою систему искусствопонимания интерес к низкому и отсутствие интереса к высокому – в коннотациях стиля, традиции, формальной реализации (мастерства, эстетизма).
Можем ли мы сказать, что высокопрофессиональный новый рисунок модернистского типа предшествовал актуальному рисунку? В какой-то мере – да, ибо актуальный рисунок возникает при определенном уровне состояния графической культуры, даже если он взаимодействует с ней «методом от противного». Вместе с тем первые шаги актуального рисунка 1960-х годов связаны как раз с теми художниками, которые не исповедовали культ Высокой графической культуры и не были лимитированы цеховыми представлениями о «формальном» (он же – профессиональный) цензе.
Такими «внецензовыми» (хотя бы в силу своего ментального статуса) художниками были А. Арефьев в Ленинграде и В. Яковлев в Москве.
Осмысление же необходимости «вежливого отказа» от конвенциональных формальных категорий (даже если это категории авангардной формы, подразумевающие и модус беспредметности) связано с другим кругом мастеров. А именно – с И. Кабаковым, В. Пивоваровым, Э. Булатовым, В. Янкилевским, Ю. Соболевым, Ю. Соостером и др. В оформлении фантастики, детской и научно-популярной литературы, несомненно, отрабатывались некие матрицы передового художественного мышления: методика опосредований и разного рода тропов, многообразие приемов – от сюрреалистических сдвигов форм до интеллектуального монтажа. Но и этот опыт являлся скорее предпосылкой нового актуального рисунка, ибо касается отдельных «инструментально-репрезентативных функций» (C. De Zeiger).






