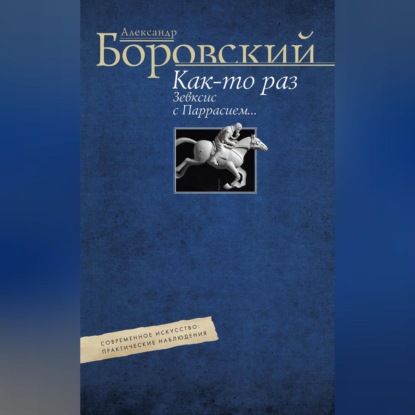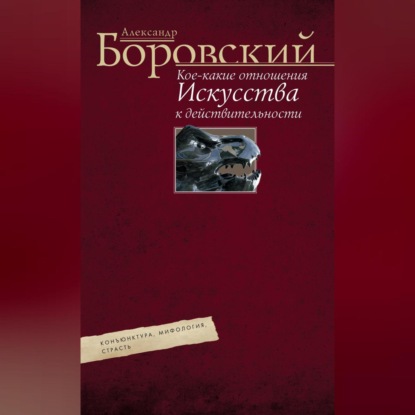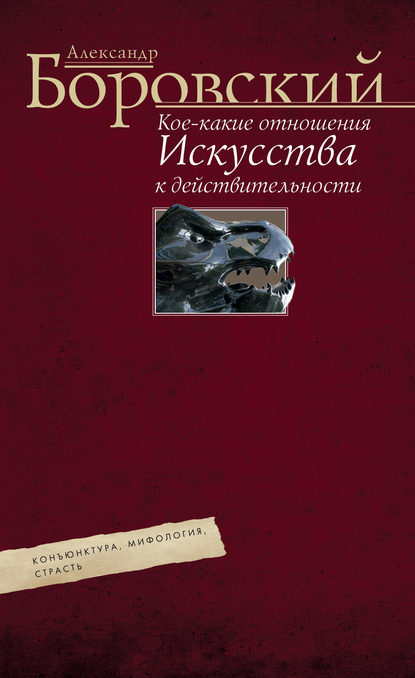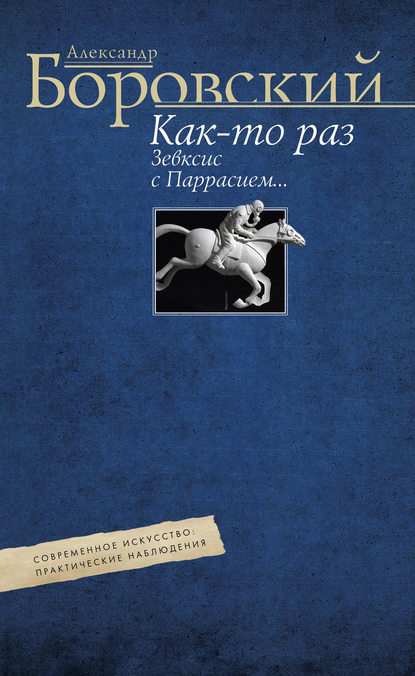
Полная версия:
Александр Давидович Боровский Как-то раз Зевксис с Паррасием… Современное искусство: практические наблюдения
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Александр Боровский
Как-то раз Зевксис с Паррасием…
Современное искусство: практические наблюдения
© А. Д. Боровский, 2017
© ООО «Рт-СПб», 2017
© «Центрполиграф», 2017
* * *Искусство про искусство
Искусство рефлексирует свою телеологию, систему ценностей, содержательные и выразительные средства с баснословных времен и по сей день. Эта обращенность на себя на разных этапах проявляется по-разному. Может служить и тормозом, и двигателем. Но присутствует в художественной культуре всегда. О постоянстве этого присутствия может свидетельствовать хрестоматийный сюжет, связанный с античными живописцами Зевксисом и Паррасием. Они соревновались в мастерстве, расписывая стену храма. Когда Зевксис отдернул занавес, зрителям открылась гроздь винограда, написанная столь совершенно, что птицы слетелись, чтобы клевать изображенные ягоды. Паррасию предложили раскрыть свое изображение. «Мне нечего открывать», – сказал художник. Оказалось, его занавес был написанным, изображенным. Да так искусно, что никто из зрителей не заметил подмены. Миф этот хорош тем, что позволяет себя интерпретировать в разных контекстах. От наивно миметического до постмодернистски деконструирующего: победитель предъявил не что иное, как симулякр! Для нас здесь важна именно неизбывность присутствия саморефлексии как постоянного слагаемого двух с половиной тысячелетнего процесса! (Хотя, заметим в скобках, и направленность дискурса поражает постоянством: тысячи лет прошли, а искусство по-прежнему жгуче волнует аристотелевская еще проблематика миметического, опознающего и опознаваемого. А магриттовское «Это не трубка» – не про то же? А язвительное полотно американца Марка Танси с говорящим названием «Тестирование необученного глаза»: живая корова в академической мастерской, среди профессоров, напряженно ожидающих – примет ли она траву на «реалистическом» пейзаже за настоящую, попробует ли жевать?)
В ходе своего многовекового самоосуществления художественный процесс выявляет не менее устойчивый комплекс понятий, также связанных с проблематикой подражания. Однако имеется в виду не подражание природе, а некоему высокому образцу, эталону. На разных этапах истории искусства до неузнаваемости изменяются, естественно, предмет и принципы такового подражания, однако некая историческая типология остается неизменной. Установка подражания канону (сейчас этот термин все чаще употребляется в качестве наиболее удобной референциальной рамки) может быть как бы внерефлексивной, данной априори: так бывало в периоды развитой цеховой культуры, а также «культуры академий», во многом сохранявшей рудименты цехового сознания. Но может быть вполне концептуальной, как, например, в разных версиях историзма.
Удивительным образом Л. Н. Толстой уловил и описал эту проходящую «сквозь» всю художественную культуру подражательно-иерархическую установку. Удивительным потому, что персонифицировал ее в образе дилетанта, имеющего к искусству самый косвенный и случайный характер. Однако в отношении любителя-аристократа Вронского к искусству запечатлена историческая типология, характерная для множества поколений художников как раз с развитым ремесленным, цеховым сознанием (или рецидивами такового сознания) – вплоть до выпускников последних государственных академий художеств XX века. Толстой так описывает эту установку: «У него (Вронского. – А. Б.) была способность понимать искусство и верно, со вкусом подражать искусству, и он подумал, что у него есть то самое, что нужно для художника, и, несколько времени поколебавшись, какой он выберет род живописи: религиозный, исторический жанр или реалистический, он принялся писать. Он понимал все роды и мог вдохновляться и тем и другим; но он не мог себе представить того, чтобы можно было вовсе не знать, какие есть роды живописи, и вдохновляться непосредственно тем, что есть в душе, не заботясь, будет ли то, что он напишет, принадлежать к какому-нибудь известному роду. Так как он не знал этого и вдохновлялся не непосредственно жизнью, а посредственно жизнью, уже воплощенною искусством, то он вдохновлялся очень быстро и легко и так же быстро и легко достигал того, что то, что он писал, было очень похоже на тот род, которому он хотел подражать». Разумеется, мы имеем дело с художественным образом, но тенденция взаимоотношений художника, носителя преобладающе ремесленного (или дилетантского) сознания с каноном, как сказали бы мы сегодня, схвачена удивительно точно. Конечно, она не всегда действенна в рамках самоощущения отдельной личности или группы художников в конкретной исторической ситуации: художники, объективно переходящие границы, в одиночку или сообща творящие существенно обновленные картины мира, нередко ощущали себя смиренными последователями канона (служителями идеала, хранителями огня и пр.). И наоборот.
Но есть еще обстоятельство исторического порядка, которое все отчетливее проявлялось в искусстве примерно в то же время, когда Толстой озаботился диалектикой непосредственное – опосредованное. В противовес Вронскому он создает образ художника Михайлова, который вдохновлялся непосредственно жизнью, о сравнении своей картины «с Рафаэлевыми» не думал вовсе и «проглатывал» и «складывал куда-то» натурные впечатления. Так вот, даже художники подобного типа не могли пройти мимо этой тенденции. Речь идет о том, что искусство со второй половины XIX века все отчетливее рефлексирует свою, так сказать, направленческую составляющую, пытается понять необходимость многообразия школ и индивидуальностей. Если рассматривать эту проблему в предельном укрупнении, суть ее такова: искусство осознает себя не только в следовании неким общим идеалам и установлениям, но и в многообразии, соревновательности, конкурентности. А все это подразумевает анализ отдельным художником и целым направлением не только собственных интенций, но и предшествующих и «соседних» (конкурирующих, союзных и пр.) художественных систем. Соответственно, критическая дистанция по отношению как к канону, так и к не успевшему канонизироваться материалу современности становится предметом специального интереса и исследования. А инструментом самоосуществления искусства все отчетливее становится внутрихудожественная борьба (существовавшая всегда, но в новое время концептуализированная именно в качестве этого инструмента, пусть и сохраняющего традиционные коннотации соперничества творческих личностей, институций, социальных амбиций и пр.). Все эти изменения были возможны в условиях высвобождения искусства от примитивно понятых функций служения, роста его самосознания. Полемический лозунг «искусство для искусства» стал симптомом этого роста.
С момента рождения он был неоднократно атакован разного рода ревнителями общественного блага. Искусство и само жаждало социальной востребованности. В необходимости служения режимам и идеологиям, казавшимся прогрессивными и справедливыми, искусство XX века достаточно часто искало свою идентичность. Искало вполне самозабвенно. Вплоть до полного растворения в идеологическом, как это бывало с искусством, поставившим себя на службу тоталитарным режимам века. И все же парадоксальным образом именно в XX веке росла сосредоточенность искусства на себе любимом (или нелюбимом). И если постулат «искусство для искусства» носил когда возвышенно-идеологический, когда риторический характер, то жизнь самого искусства выдвинула новый тезис: искусство про искусство. Он не был, строго говоря, формализован, не был и «поднят на знамена» в качестве лозунга художественной борьбы. Он носил и носит практический характер.
Выдвинутый практикой осуществления художественного процесса, он фиксирует некоторые (далеко не все) внутренние потребности искусства. В частности, потребность в самоанализе, самопостижении. Повторюсь, эта потребность жила в искусстве испокон веков, однако именно в Новейшее время она стала необходимостью. Возможно, в этом была логика внутреннего развития искусства. Возможно, реакция на великие заблуждения века: трагические опыты потери собственной идентичности в служении тоталитарным режимам. Отсюда постмодернистская боязнь «больших нарративов» и «мегаисторий». Самоанализ предполагал экспликацию своих целей и средств, иначе невозможным было изживание собственных комплексов и страхов, по-другому говоря, нормальное движение, самоосуществление искусства. Но ничего – ни в искусстве, ни в науке, ни в спорте, нигде – не делалось уже в одиночку. Персонификаторы движения искусства обязаны были оглядываться, анализировать интенции соседей, разгадывать их стратегии и тактики. Актуальное искусство последних декад столетия доходило в этом плане до крайности. В самоидентификации по принципу служения политическим режимам и идеологиям была крайность полного растворения, разрушения системы целеполагания. Так и в самоидентификации по принципу погружения в «чужое искусство» тоже были свои крайности: и потеря ценностной ориентации, и сведение многообразия стратегий к постмодернистскому «центону» или тотально игровому принципу. Тем не менее и этот рубеж был перейден, и современный критик имел все основания констатировать: «И стратегией, и материалом современного искусства является современное искусство как таковое»[1].
Словом, «искусство про искусство» – не только вечный, но постоянно набирающий актуальность сюжет развития художественного процесса. Недаром им стали так настойчиво интересоваться музеи («The Museum as Muse: Artists Reflect», The Museum of Modern Art, 1999; «Искусство про искусство», ГРМ, 2009; «Ночь в музее», PERMM, 2010 и др.).
Во всяком случае, вне этого сюжета понимание механизмов действия современного искусства будет затрудненным. Хотелось бы показать именно этот механизм – винтики, шестеренки и пр., их полезную работу. В нашем случае – приемы сюжетных и тематических отсылок, пародирования и снижения интонации, композиционного анализа и деконструкции, цитации и апроприации, выделения метапозиции и самоописания. Не стоит бояться дидактичности, если к этому располагает сам материал. И неизбежности некоего эклектизма подходов тоже: единый категориальный аппарат едва ли действует на столь разнородном материале, особенно на материале постмодернизма. Главное, чего бы не хотелось, – нивелировать в ходе анализа тот драйв и тот, может быть, наивный интерес к «устройству» произведения, собственно, и делающий его актуальным, который сродни азарту ребенка, разбирающего на составные части любимую игрушку. Почему бы и нет – кто сказал, что этот драйв не положен музейной репрезентации!
Как представляется, новое свое качество «искусство про искусство» обретает к середине XIX века (имеется в виду, разумеется, не столько качество художественное – не будем забывать о великих именах, маркирующих наш дискурс на более раннем этапе, хотя бы Веласкеса. Речь идет об уровне рефлексии, сформулированности задач). В 1855 году О. Домье создает карикатуру «Борьба школ: классический идеализм против реализма». В этом рисунке блестяще разрешена задача визуализации специфики обеих «школ»: образы «персонификаторов» обоих направлений (человеческий фактор, облик персонажей и их поведенческий рисунок немаловажен для репрезентации художественных движений), выразительные средства и пр. Ничего удивительного в том, что концепт «искусства про искусство» окончательно формулируется именно в карикатуре, посвященной художественной борьбе: борьба мобилизует и, соответственно, выявляет все самое характерное в любом направлении. Художник – участвует ли он в этой борьбе или стоит над схваткой – получает как бы концентрированный материал для анализа. Карикатуры, посвященные борьбе стилей и направлений, становятся популярными во всех странах. В том числе и в России. Так, П. Щербов, выступивший на рубеже веков, умел находить безупречные визуальные метафоры перипетиям тогдашней художественной борьбы.
Пародийный принцип, зародившийся в карикатуре на художественные темы, оказался постоянно действующим инструментом искусства про искусства. Разумеется, он не мог ограничиваться какими-то жанровыми рамками. В 1873 году П. Сезанн пишет поразительную вещь – «Новую Олимпию», имеющую прямое отношение к нашей теме. Работа для того времени абсолютно «некондиционна»: ни напечатать как карикатуру, ни выставить в качестве картины… Зато в своем радикализме, жанровой и пластической «непричесанности» она адекватно передает те внутренние импульсы, которые движут художником. Конечно, это своего рода оммажный жест: молодой художник обращается к произведению старшего собрата прежде всего в силу уважения, он отдает дань и мастерству, и смелости Э. Мане, добившегося в своей «Олимпии» предельно возможной тогда непосредственности, неопосредованности жанровыми стереотипами в передаче телесно-чувственного. И все же этого молодому Сезанну мало. Пародируя жанровый план полотна, в его представлении все-таки слишком окультуренный отсылками к романтической традиции, он добивается концентрированно-грубой, как бы неокультуренной чувственности, того градуса эротизма, которого современное искусство еще не знало.
Эту вещь можно назвать одним из самых ранних предвестников модернизма, так как здесь предвосхищаются некоторые его базисные принципы: готовность к демиургической трансформации данного – перекодировке, перелепке, перелицовке; нескрываемый пафос обладания, торжество не лимитированной жанровыми и прочими правилами чувственности.
Правда, этот месседж был как бы отложенным: развитие искусства, импульс которому, кстати сказать, был дан тем же Сезанном, все более тяготеет к аналитике, «умопостроению».
Таков был вектор развития кубизма – от аналитического к синтетическому (второй стадии кубизма, по терминологии Малевича). Пафос самоанализа пронизывал это направление настолько, что экспликация «чужого», «другого» искусства в качестве предмета исследования встречается сравнительно редко: когда каждый формальный шаг был многократно отрефлексирован, в «искусствоведческих» отступлениях полемического или оммажного свойства просто не было надобности. Говоря о русском искусстве, однако, имеет смысл не забывать следующее. Русская живопись развивалась в контексте передовой европейской, в том числе и в плане стадиальности, но всегда отстаивала возможность критической оценки западного опыта, некоей поправки (или «примерки», с правом отказа или корректировки) на собственную специфику. Таким образом, в отечественном варианте аналитический (иногда – квазианалитический, с элементом игровой трансформации) пафос был обращен не только на собственные формальные установки, но и на «дружественные» стилистические явления, воспринимаемые обобщенно, как сумма приемов. Как мне представляется, мы вправе говорить здесь о своего рода эффекте двойной экспозиции: на изучение и «присвоение» новейшего искусства в его стадиальности накладывается момент установления некоей критической дистанции. В дальнейшем, через десятилетие, эта аналитическая установка нашла развитие в уникальной педагогической и музейной практике русского авангарда, институализированной УНОВИСом, Музеем художественной культуры, ГИНХУКом.
Были, однако, и примеры того, когда «свои задачи» будущие классики авангарда решали «с помощью» конкретных произведений, к тому же классических. Я имею в виду прежде всего «Частичное затмение» (1914). Задачи, которые разрешал здесь Малевич, множественны. В формальном плане он опробывает операционное поле кубизма в обеих его стадиях – аналитической и синтетической. В самом выборе изобразительной системы есть та установка на «освоение с корректировкой», о котором писал Д. Сарабьянов[2]. Но есть еще один момент, о котором речь пойдет чуть ниже, – операционность. Сугубо авторским, выношенным уже художником вне всяких отсылок к кубистической практике, предвосхищающим дадаизм является здесь план языковый: заумный реализм, алогизм. Малевич манифестирует в работах этого круга освобождение художественного мышления от «логизма», то есть банальных причинно-следственных связей. Все это неоднократно описывалось. Однако есть в этой работе момент, на который, как мне представляется, не обращали должного внимания. Вернемся к понятию операционность, появившемуся выше: в той последовательности, в которой накладываются на поверхность (и друг на друга) геометрические формы, литеры, репродукция, изображения и проекции предметностей, действительно есть что-то механическое, манипуляционное. И в этом видится особый месседж. Да сам факт помещения репродукции хрестоматийного портрета Моны Лизы в данную визуальную ситуацию являет собой демонстративный, воплощенный нонсенс. Действительно, при чем здесь она, почему вынуждена существовать, к тому же далеко не на первых ролях, в явно механически, случайно, автоматически подобранном, скорее даже тасованном ряду странных, неопознаваемых визуальных объектов, напоминающих к тому же банальные типографские политипажи, линейки и плашки? Ради доказательства нарушения причинно-следственных связей? Думаю, этого маловато, коль скоро используется такой значимый для самосознания культуры образ. Слишком уж настойчиво демонстрирует Малевич вызывающе бесстрастное, обидно безразличное отношение к нему (добавим к описанным выше приемам «третирования» то, что портрет дан в репродукции, то есть изображается изображенное, осуществляется двойное опосредование). Что стоит за этим?
Думаю, в высвобождении живописи как таковой Малевич на этом этапе стремится освободиться не только от «логизма». Но в неменьшей степени – от статусно-прекрасного, возвышенного, духовного. Того, что автоматически связывалось в интеллигентском сознании с признанными образами мирового искусства (сегодня бы сказали – icons). Позднее он прямо сформулирует: «Не хочу, чтобы его [искусство. – А. Б.] выдавали за нечто высокотворческое». Эта позиция противоположна, скажем, концепции известнейшего в то время очерка Г. Успенского «Выпрямила», в котором луврская Венера духовно «поднимает» героя. Интонация обязательного, общераспространенного культурного пиетета нуждалась в радикальном снижении. И вся описанная выше операционность, которую столь настойчиво наращивает Малевич, направлена на это снижение. Она насквозь полемична. (Малевич в своей анти-icons активности не был столь хулигански радикален, как Дюшан в своих манипуляциях с Джокондой, зато он и ранее почувствовал эту потребность в снижении интонации культуры, и реализовал ее серьезнее, копнул глубже. То есть не позволил перенести полемику на уровень поведенческой культуры.)
Современники, и прежде всего «монарх критики» А. Бенуа, прекрасно осознали эту полемичность. И развили ее до той остроты, которую, может быть, вначале и не предполагал сам Малевич. Обвинения в неуважении к статусно духовному, «святыням» (признак Грядущего Хама), ставшие общим местом либеральной критики футуризма и супрематизма, распространились и вообще на способность к проявлениям человечности, которые давались в коннотациях «теплое», «женственное», «милое». Эта полемика глубоко заденет Малевича. Он будет снова и снова возвращаться к ней, в частности, в серии статей 1918 года для газеты «Анархия», в которых будет специально подбирать языковые формулы, контрастные риторике бывших оппонентов, наиболее раздражающе на них действующие: «механическое размножение» (пара к «женственной Психее»), «голландская печка еще теплее» (пара к теплой улыбке Венеры и Джоконды) и т. д.
Кстати сказать, А. Бенуа не только писал «про» искусство Малевича с разным накалом критичности. Он вполне добросовестно штудировал его произведения, хотя бы на выставках «Союза молодежи».
В ОР ГРМ хранятся каталоги этих выставок (1910–1913 гг.) с маргиналиями – заметками и рисунками[3]. В этих рисунках Бенуа не копирует экспонируемые произведения, но пытается добросовестно и вдумчиво вывести для себя «формулу Малевича» (Татлина, Гончаровой, Филонова, Ларионова и др.): выявляет композиционные оси, векторы движения и т. д. Словом, почти буквально следует новому методу формального мышления, который, по Малевичу, строится «на основании веса, скорости и направления движения»[4]. Было бы неверно, говоря об искусстве, про искусство 1910-х годов, рассматривать только аналитический вектор, забывая об эмоционально-стихийном и о пародийном. М. Ларионов и Н. Гончарова были, наверное, первыми мастерами авангарда, не только специально заинтересовавшимися этой проблематикой, но и пытавшимися подойти к ней целостно, в совокупности установок. Похоже, они первыми, задолго до В. Беньямина с его классической работой «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости», поставили вопрос о значении копии для современного искусства («Признание копии самостоятельным художественным произведением» – так это было сформулировано в предисловии к каталогу выставки «Мишень»[5]). Но еще интереснее в контексте нашей темы выглядит создание вымышленных биографий, известных нам главным образом в трансляции И. Зданевича[6]. Гончарова как бы запускается в воображаемое путешествие в пространстве и времени, по ходу которого она лично знакомится со всем, что представлялось актуальным для тогдашнего авангардистского сознания: персонами, направлениями, этнографической средой (так, ей положено искать родину примитива – и она посещает Бенин, острова Таити). Путешествие документируется и обрастает подробностями, исключающими саму мысль о мистификации (это заставляет вспомнить квазисерьезность популярных течений постмодернистских 1970-х: mock ethnography и mock archeology, mapping). Сочетание пародийного и серьезного, агиографического и бытового, авантюрного и научного, разновременного и разнонаправленного создает взрывную смесь – нарративный аналог всёчества.
Есть здесь еще один важный аспект: зарождение сугубо авторской мифологии, имеющей право на полное расхождение с реальностью. Этот типично модернистский дискурс в русле нашей темы охотно развивался дадаизмом и сюрреализмом.
…В 1946 году маститый художник и виртуозный реставратор старых голландцев Владимир Яковлев создает картину «Спор об искусстве»: пожилые живописцы с большим энтузиазмом пишут обнаженную, по-рубенсовски пышную натуру, по ходу дела ведя жаркие споры об искусстве. Споры, видимо, касаются все же частных вопросов, потому что главное (и это дано и в живописи, и особенно настойчиво, даже назойливо – в многочисленных атрибутах академического искусства) было давно решено: советское искусство развивалось под знаком классицизирующего канона. Долгие годы история развития раннесоветского искусства спрямлялась: авангард был «остановлен на бегу», «сверху» был внедрен наиболее адекватный прагматике режима, отрефлексированный партийными идеологами метод социалистического реализма. Между тем дело было значительно сложнее. На всем протяжении 1920-х классический авангард подвергался критике как раз слева. «Деканонизируя старую художественность» (С. Третьяков), левые (имеется в виду в контексте истории культуры, не столько художественный, сколько мировоззренческий вектор бытования этого термина, опора на радикальную версию марксистской социологии) с не меньшей энергией атаковывали беспредметное искусство – за формализм, фетишизацию приема, мелкобуржуазность мышления и пр. Оппозиция «авангардное (беспредметное)/традиционное (фигуративное)» была скорее частным случаем. Более значимым моментом была проблематика бытования искусства, формы его существования: с «фетишизмом» традиционно понятого авторского произведения станкового искусства боролись непримиримо, предлагая целый спектр его преодоления: отказ от авторства и качества, бригадный метод создания, снижение статуса посредством экспонирования репродукций и копий на выставках, в том числе музейных, и т. д. Это не говоря уже о других формах дестанковизации, «раскартинивания» – акценте на текстуализацию (введение в экспозиции и в отдельные произведения схем, таблиц, развернутых цитат), создания разного рода социально и технологически новых видов творчества и концептов вроде агитационных установок, аналогов современной инсталляции[7]. Так что любой выбор формы (точнее, выбор любой формы) подвергался неистовыми левыми остракизму.
Все это надо иметь в виду, оценивая поворот к социалистическому реализму. Да, здесь был прагматичный и циничный выбор власти, взвесившей агитационные, мифопорождающие, сакральные, суггестивные и другие возможности, предъявленные сторонами в десятилетней художественной борьбе, и вынесшей окончательное, не подлежащее обсуждению решение в пользу социально концептуализированного реализма – соцреализма. (Не будем говорить о сопутствующих факторах – уровне культуры персонификаторов власти, их вкусах, особом, присущем людям, не владеющим традиционными профессиями, уважении к «спецам», мастерам своего дела, а таковыми в их глазах могли считаться только обладатели секретов мастерства, то есть традиционалисты.) Но кроме давления «сверху», были и энергии «снизу», от собственно искусства: бесконечная усталость от дискурса деформализации (дискурса в снижающем смысле – многоговорения, как у М. Гаспарова). Как реакция на него, а не только как дань конъюнктуре, воспринимаются сегодня резкие повороты в выборе языка даже таких мастеров, как К. Малевич и П. Филонов. Молодое же поколение тем более разрабатывало некую множественность фигуративизмов и реализмов, репрезентируя индивидуальные картины мира: растворения собственно искусства в культурной революции, которого требовали левые, жаждали далеко не все. Эта множественность предполагала опору на некие образцы (которые, естественно, нуждались в индивидуальной доработке). История искусства воспринималась как кладовая (вполне советская метафорика: кладовая природы и пр.). Но взять, вынести из нее нужно было самое лучшее. Не промахнуться. Оправдать доверие. В ряде работ эта проблематика выбора непосредственно тематизирована – как у С. Некритина («Старое и новое»), А. Гончарова («Смерть Марата»), в корах-метростроевках А. Самохвалова.