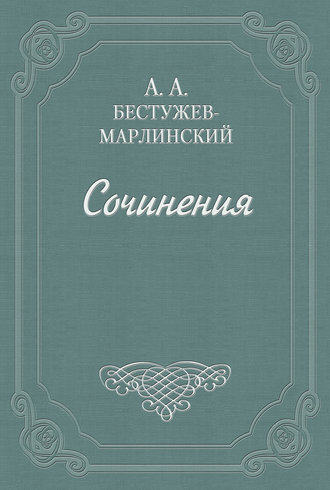
Александр Бестужев-Марлинский
Лейтенант Белозор
Глава VIII
Вот так-то свет идет; но почему он так,
Не ведает того пи умный, ни дурак.[99]
Фон-Визин
Поутру, на другой день, приказ захватить Саарвайерзена был подписан комендантом Флессингена и двенадцать солдат для исполнения этого наряжены. Отдавая, однако ж, Монтаню повеление, комендант заметил ему, что безрассудно было бы арестовать человека, всеми уважаемого и очень любимого рабочими, посреди его фабрики, где народ может возмутиться и отбить пленника; а потому советовал выманить его оттуда под каким-нибудь предлогом и потом взять в укромном месте и без шуму. Капитан отдавал в заклад всех своих предков, что он смастерит дело так искусно, что сами бесы будут краснеть от зависти.
Случай – эта повивальная бабушка всего худого и доброго – натолкнул как будто нарочно капитана на долгоногого Гензиуса, который как аист шагал по кирпичной набережной мутного канала. За ним шел человек в матросской куртке, с узлом в руках. Монтань остановился: нос таможенного есть самый чувствительный инструмент в своем роде; в старину верили в чудесный прутик, открывающий клады и ключи; этот прутик в наше время осуществился в носу досмотрщика: лучше всякого ворона чуют они добычу, и будь контрабанда спрятана хоть в желудке, от них она не скроется.
«Тут что-нибудь недаром… – подумал капитан, поворачивая носом, как флюгером. – Гензиус выходит от банкира. Гм, ге! Этот рыбак – самый удалой смоглер[100] и уж не раз вырывал у меня из-под посу лакомые куски, – верно, какая-нибудь отправка в поход. Да уж не сношения ли с неприятельским флотом?.. Зачем эти сделки денежные? Почему он взял, черт ведает откуда, чужого человека, когда своя контора набита поденщиками? Что за связка у него в руках?»
И вот капитан мой уже бежал вслед за Гензиусом и, запыхавшись, схватил его за полу.
– Bonjour[101], дорогой Жензиус, – сказал он.
Гензиус кисло улыбнулся, отвечая поклоном, и хотел продолжать путь свой, но безотвязный капитан повесился у него на рукаве.
– Куда идете? – спросил он.
– Прямо по дороге, – отвечал он.
– Замысловато, господин Гензиус, очень замысловато, это доказывает, что натощак и голландский ум может летать по крайней мере как волан… Но так как я уверен, что вы не променяете добрый завтрак на всю остроту человеческого рода, то не угодно ли будет сделать мне честь: завернуть в ближайшую гостиницу? Что там за портер!
Я хоть таможенный, да гляжу на все то сквозь пальцы, что цежу сквозь зубы.
– Портер? – произнес Гензиус, облизываясь, и уж ступил было в сторону, когда мысль, что ему еще куча дела по поручениям хозяина и по закупкам Белозора, остановила его, будто камень преткновения.
– Благодарю покорно, – отвечал он со вздохом, – ни минутьгнет времени, до другого раза, капитан…
– И, полноте, господин бухгалтер! Сухое и перо не пишет, и чтобы подкрепить ноги, надо приласкать брюхо.
– Чувствую истину этого и не могу ею воспользоваться. Прощайте, капитан.
– Жаль, право жаль, любезный господин Гензиус, а мне бы надо было поговорить с вами о новом подряде на сукна. Я сегодня, по поручению генерала, поеду в Фламгауз.
– И поедете напрасно; хозяин мой сегодня целый день будет считаться с мельником, – ныне начало месяца!
«На мельнице? Ага! – радостно подумал Монтань. – Золотой бочонок сам катится к нам в погреб. Дельно! Теперь, господин счетчик, можешь идти куда хочешь: я вытащил из твоего носу червячка и без завтрака».
– Брике! – вскричал он, – следи этого архибестию рыбака Фландеркина, пошли вслед за ним человек пять издали и скажи: если увидят, что он готовится спустить лодку в море, цап его за бок и тащите ко мне на брандвахту; остальных солдат положи, когда стемнится, в засаду близ мельницы Саарвайерзена, и всех, кто в пей, захвати и веди в город за конвоем… мужчин и женщин. Смотри же, не выпускай никого, а пуще всех старика.
– Будет исполнено, капитан! – отвечал Брике. – Только при дележе не забудьте, что я вас навел на дичинку, а то до сих пор начальники брали деньги, а мне оставляли одни тычки, – только из этой поживы они не брали законной себе доли.
– Будет всем пожива, – отвечал капитан, потирая руки.
Таким-то образом высокоумный Гензиус, желая избавить хозяина от посещения некстати, предал его в руки бездельников. Таким-то образом и самая извинительная ложь рано или поздно, но всегда становится вредною.
К вечеру Саарвайерзен с Виктором и дочерью, которая настояла на том, чтобы проводить своего жениха, приехали на мельницу. Матросы их ждали там еще с прошлой ночи, и, когда стало смеркаться, все было готово к отправлению. Покуда еще хоть день, хоть час, хоть миг остается до разлуки, сердца любовников не перестают еще надеяться; они, кажется, ждут чуда, которое отвратит ее, но зато тем ужаснее бывает для них минута расставанья; она всегда для них внезапна и будто рассекает их пополам. Жанни плакала и молчала, напрасно шутил над нею отец, напрасно утешал Виктор, и, наконец, все трое уселись, как будто провожая кого-то не к избавлению, а на казнь. Время уходило… Саарвайерзен вынул часы и, не говоря ни слова, подавил пружину; они звонко пробили пять.
Виктор встал с тяжким, глубоким вздохом; рыдая, упала Жанни на грудь отца.
– Прости, Виктор, прости навечно; я предчувствую, что мы более не свидимся, – произнесла она, – прости!
Виктор пламенно поцеловал оставленную ему руку, и его слеза канула на нее.
– Достойная Жанни, – сказал он, – пусть эта капля будет печатью душевного союза, и да откажет мне бог в слезах в горькие часы жизни, если я для каких бы то ни было радостей замедлю своим возвратом.
– Два аршина с четвертью! – вскричал отец, обнимая отъезжающего и вытирая о его плечо глаза свои. – Откуда набрались вы этих романтических покромок?.. Ну, утешься, причудница, успокойся, моя милая: новая весна приносит новые цветы, и коли вы в самом деле так друг друга любите, мы вас обстрижем под одну ворсу. В чудные веки мы живем, в чудные веки! – ворчал Саарвайерзен, влезая на лошадь. – Вчерась еще поутру я бы ручался, что моя Жанпи не отличит петуха от курицы, а теперь? Два аршина с четвертью! И еще не дождавшись законного возраста… Смотри, пожалуй.
От мельницы шли две дороги к морю: одна прямо, по которой шел Виктор после кораблекрушения, другая правее на Деидермонд; по сей-то последней отправились наши путники. Виктор ехал безмолвен, снедая печаль в сердце. Саарвайерзен, видя, что с влюбленными плохая беседа, разговаривал с проводником, несшим фонарь. Матросы, идучи позади тихомолком, шутили промеж собою.
– Что ж мы, братцы, станем рассказывать товарищам у табачного бака, коли бог принесет на свой корабль? – сказал урядник.
– Что лягушки здесь царствуют, а люди живут как у нас лягушки, – отвечал один.
– Вот уж напрасно охаял Голландию, – возразил другой, – стыдно, где пить, тут и рюмки бить. Чего тебе здесь недоставало? Можжевеловой – хоть не пей, свежины вдоволь. Закорми чушку, она станет жаловаться, что бока отлежала.
– И впрямь, брат, грешно словом укорить наших хозяев, – чего только душеньке угодно, давали: хлеб белый как месяц, сыр объеденье да утром еще и кофей!
– Хвали, хвали хозяев, а они себе на уме: ржаной корочки допроситься я не мог, а эти опресноки оскомину набили. Видел, брат, я, что они с кофея-то одной жижицей нас потчевали, а гущу всю себе оставляли. А про сыр и говорить нечего, – весь в дырах! Небось молодые сыры подальше хоронят; а уж и подметил я у них здоровенные, что твой кирпич. В одном фунте фунта два будет!
– У всякого своя заведенция… – примолвил Юрка. – В чужой монастырь со своим уставом не ходят. По мне, там такое было житье, что коли во сне увижу, так, я думаю, сыт буду.
– У лентяя вечно масленица на уме, – возразил урядник, – то ли дело между своими на службе: горя много, да уж зато и утехи вдвое. Наработаешься на вахте до упаду, насмеешься за ужином досыта, и, не дослушав сказки, засыпаешь, убаюкан бурею в койке, и гоголем вскочишь, когда закричат: «марсовые, наверх!» Дай бог, братцы, увидеться с земляками; хорошо в гостях, а дома лучше!
– Дай бог, дай бог обняться с нашими нетронскими! – воскликнули умиленные матросы, прибавляя шагу.
Без всяких неприятных встреч отряд достиг до берега. Темное море плескало в него тихою зыбью. Запорошенные инеем дороги и плотины, будто раскинутые холсты, тянулись вдаль и сливались с туманом, который начал подыматься. Нигде не слышно, не видно было ни души.
– Фландеркин-флаат! – произнес проводник, ударяя в ладоши. – Он здесь должен был нас дожидаться.
После многих побегушек в разные стороны оказалось, что нет ни лодки, ни нанятых рыбаков в окрестности. Саарвайерзен потерял терпение: неустойка в слове была для него подлее, чем воровство, хуже, нежели убийство.
– Sapperloot! – вскричал он. – Я живьем истолку эту ходячую треску. Взять даром деньги и не исполнить слова, – это неслыханно! Я его так взогрею, что мои талеры растают у него в кармане… Проклятый пьяница!.. Верно, где-нибудь теперь прохлаждается в шинке; но будь я не я, если он не завертится кубарем от этой плети, прежде чем у него высохнут губы.
Но брань ничему не помогала. Положение Белозора и матросов его было самое критическое, и, наконец, Саарвайерзен, послав на Викторовой лошади проводника влево, поскакал сам внутрь земли искать рыбака в его домике, восклицая, что он разбудит его кулаком своим не хуже сукновального молота и сделает из его спины клетчатую шотландскую тартану![102]
Мало-помалу затих его голос и тяжелая ступь лошади по шоссе.
Виктор, видя, что рыболов или обманул, или изменил, решился пуститься по берегу влево, для встречи с ним или для изыскания другого способа спасения. Поравнявшись с тем местом, где выброшен был бурею на берег, заметил он нечто белое.
– Посмотри, – сказал он уряднику, – мне что-то видится впереди!
– Если б я не знал, ваше благородие, как разбило в щепы нашу четверку, я бы подумал, что это она ожила и выползла на берег, как тюлень!
В самом деле, то была шлюпка, обороченная вверх дном.
– Тише, тише, ребята! – сказал Белозор. – Мне кажется, подле пей вижу я людей, спящих под парусом; да вон на козлах блестят и ружья; это, должно быть, досмотрщики. Ползком подберемся к ним и накроем врасплох, как утят в гнезде.
Едва дыша, приближался Белозор впереди всех… Но французы спали крепким сном, и захватить их было нетрудно. С криком кинулись наши сперва на ружья, потом на сонливцев и, пригвоздив штыками углы паруса к земле, как перепелок из-под сети, вытащили поодиночке пленников, связывая им руки и клепля рот.
Из четырех оставили только одного без повязки для допроса.
– С какого ты судна? – спросил его Виктор.
– Мы таможенные солдаты, – отвечал он, – с брандвахты (patache) le Friseur.
– Кто у вас капитан? – Монтань-Люссак.
– Старый знакомый. А зачем вы на берегу?
– Не знаю; четверо наших, по приказу капитана, отправились в средину края; мы берегли шлюпку.
– Благодарю, что сохранили ее для нас. Теперь, братцы, перенесите этого молодца в шлюпку, пускай он лежит на дне вместо балласту.
Шлюпка была уже спущена на воду, и матросы, опершись на весла, с нетерпением ждали приказа отвалить.
– Не прикажете ли остальных на упокой? – сказал Юрка, замахиваясь багром на связанного солдата.
– Пошел в свое место, – гневно вскричал Виктор, – и помни, что русские не бьют лежачего. Все ли готово?
– Все до крошки! – отвечал урядник. – Крестись, ребята, весла на воду… греби!
Между тем как это происходило на берегу, Жанни одна с своей кручиной сидела в комнате мельника. Глубокую истину заметил тот, кто сказал, что женщина, любя впервые, любит любовника, потом уже одну любовь. В первом случае вся она будто поглощена бытием друга, и малейший страх за него, кратчайшая с ним разлука для нее уже истинное бедствие. Во всех последующих любовник для нее уже не предмет, но только средство наслаждения, и, проливая слезы разлуки, она уже озирается кругом, ее сердце, как пустой дом, требует постояльца: любовь для нее уже не страсть, а привычка.
Но Жанни любила впервые и со всею пылкостью души чувствительной, с безграничным доверием доброты. В краткий век этой девственной склонности она пережила все возрасты страсти, кроме ревности, и можно представить ее отчаяние, когда тот, который, как светильник, озарил перед нею мир, лежавший дотоле перед ее очами темною громадою, увлечен был от ней судьбою, от нее, жаждущей любить, тоскующей разделить любовь свою… Сердце ее, кипящее юностью, легко прияло впечатление страсти, как плавкое стекло, и, как со стекла, чтобы сгладить это впечатление, можно было не иначе, как разбив его. В это время вбежал к ней Гензиус с бледным, вытянутым лицом…
– Где ваш батюшка? Где все они? – спросил он торопливо.
– Там, где бы желала быть и я, – отвечала Жанни, не обращая внимания на необыкновенные приемы бухгалтера.
– Ради «Groos Buch», юнгфров[103], скажите, по какой дороге поехал ваш батюшка? Ему грозит большая опасность!
– Батюшка в опасности?! – вскричала, вспрянув, испуганная Жанни. – За что? от кого в опасности?..
– Бургомистр Гоог Воорст ван Шпан…
– Какое мне дело до вашего бургомистра? Скорей и яснее!
– Я сам запыхался, как ветряная мельница, юнгфров… Говорил я вашему батюшке, что быть беде за русских, которых держал он на фабрике, а Монтань и подвел к этому свои итоги; он донес правительству, что ваш батюшка держит у себя зажигателей-англичан, печатает прокламации против Наполеона и хочет изменой захватить крепость. И вот его велено заключить в темницу и судить военным судом… Спасибо за уведомление бургомистра Гоог Воорст ван Шпандербергера, а то бы…
– Заключить, судить!.. умертвить его! У тигров всегда виноват человек… Недоставало только этого к нашему несчастью… Что же вы стоите, сударь? Бегите, скачите, летите навстречу батюшке, уведомьте его; пусть он бежит за границу. Есть у него деньги с собою? Если нет, возьмите эти брильянты, которые получены только что из переделки…
– У меня в кармане значительная сумма, взятая от банкира; притом же…
– Спешите, сударь, говорю я вам! – воскликнула Жанни, почти выталкивая Гензиуса и рассказывая ему, где и как он, наверное, найдет отца ее. – Пусть не беспокоится он о нас; с нами ничего не сделают.
– Дай бог, чтоб ничего не сделали, сударыня, – говорил Гензиус, вскарабкиваясь на каретную лошадь, – беда, если и мужчина попадет в когти этих разбойников, а храпи бог, как девушка.
Удар бича, которым попотчевал мельник его буцефала[104], прервал речь всадника, и скоро умолк скок неопытного гонца.
Жанни была в неописуемом положении: любовь к отцу заставила ее на время забыть даже любезного, не только самую себя. Она уговорила старика слугу, приехавшего с ней за каретою, сесть верхом и ехать отыскивать отца. Кучер был проводником. Итак, она осталась одна со стариком мельником и его женою. Запершись кругом, со страхом ждали они известий… Через час места послышался стук у дверей.
– Отворите, – произнес грубый голос, – отворите по приказу правительства. Если вздумаете сопротивляться, с вами поступлено будет как с мятежниками и дом ваш разграблен дотла!
Это был Брике с командою.
– Боже мой, – вскричала хозяйка, – ото голос того же разбойника, который вязал нас две недели назад! Когда господь избавит Голландию от этих гербовых злодеев!
– Что ты колдуешь там, старая ведьма? – возгласил Брике. – Отворяй, или мы высадим двери прикладами!
– Что нам делать? – шептала Жании хозяйка. – Их много, и двери недолго продержатся. Что нам делать? Мы пропали с добром и с косточками!
– О вещах не горюй, старуха, – возразил хозяин, – добрый наш господин втрое заплатит за все; но что будет с вами, сударыня!..
– Что угодно богу, – с твердостью сказала Жанни, – я скорее умру, чем живая отдамся в руки этих наглых бездельников… Хозяин, задержи их всякими средствами, а я бегу встретить своих или кинуться в воду…
С этим словом она накинула шубу свою, схватила ящик с бриллиантами и выпрыгнула в окно.
Она уже была далеко, когда треск одних за другими падающих дверей долетел до ее слуха.
Быстро, не отдыхая, бежала опа по плотине к морю; страх придавал ей силы, надежда окрыляла ноги:
– Батюшка! Виктор!.. – кричала она, слыша за собою гонящихся солдат. – Виктор! – повторяла она исчезающим голосом, видя отваливающую шлюпку, но слабые звуки умирали на ветре. – Спасите! – восклицала она в тоске отчаяния, но спасение ее бежало. Задыхаясь, изнемогая от усталости, простирала она руки к морю, но безжалостное заглушало мольбы ее плеском. – Виктор! – вскричала она в последний раз и упала без чувств на холодную землю.
Глава IX
…За счастьем, кажется, ты по пятам
несешься,
А как на деле с ним сочтешься, –
Попался, как ворона в суй.[105]
И. Крылов
Знакомый голос проник до сердца Белозора; шлюпка дала крутой оборот, взрывая волны, и через минуту Жанни лежала уже на руках друга; но между тем погоня была близка… С бранью и проклятиями бежали к берегу солдаты. Что было делать Белозору? Оставить ли невесту свою в жертву дерзости и своевольства? Нет, нет… Он бережно поднял драгоценное бремя и прянул в шлюпку…
– Отваливай! – вскричал он, и шлюпка ринулась с берега, как испуганный лебедь.
– Остановитесь! – летело вслед ему. – Стой! или мы будем стрелять! – кричал Брике. Ружья патруля сверкали.
– Позволяю! – отвечал Белозор, спуская курок пистолета, и Брике покатился в воду. Беглый огонь полетел в шлюпку, по мрак и волнение мешали цельности выстрелов.
Скоро выгребли беглецы из полета пуль, и матросы только смеялись, слыша, как свистят они и падают в море.
– Спасибо за парадные проводы! – кричали они беснующимся французам, и между тем с каждым взмахом веслами быстрая шлюпка, шипя, взбегала на волны, как будто порываясь взлететь над ними. Однозвучное ударение в уключины и плавное колебание судна погрузили Жанни в глубокий сон из бесчувствия. Прислоня голову милой к груди своей, Белозор прислушивался к ее дыханию; оно было легко и покойно, но зато Виктор был далек от покоя… Он со страхом замечал, как свежал ветер, как сильней и сильней плескалось волнение. Непостоянное течение менялось, туман несся над водами… С каждым мигом надежда добраться до флота, далеко лежащего от берега, становилась несбыточнее.
– Держись на веслах! – сказал он, желая обознаться, куда грести. Матросы безмолвно, опершись о вальки весел, глядели на воду. Непроницаемый туман клубился окрест, и только шум всплесков о водорез, только брызги их были ответом на взоры и внимание Виктора. Брошенная на волны бумажка тихо плыла влево; но кто поручится, что ветер и течение не изменились? И нет компаса, чтобы их поверить.
– Мы заблудились, ваше благородие, – сказал урядник, – если выгребем в открытое море, то погибнем без сомнения, а если снесет нас к берегу, то не миновать плена.
– И еще вернейшей смерти. Теперь с нами поступят как с беглецами, особенно за убитого… Но постой, это колокол, раз, два, три!
Било восемь склянок. Нигде так величественно не слышится бой часов, как над бездной океана во мгле и тишине. Голос времени раздается тогда в пространстве, будто он одинокий жилец его, и вся природа с благоговением внемлет повелительным вещаниям гения веков, зиждущего незримо и неотклонимо.
Колокол затих, гудя.
– Это должна быть ваша брандвахта! – вскричал с радостью Белозор к связанному французу. – Сколько на ней команды, друг мой? Но смотри, не хвастай!
– Более чем нужно, чтобы развешать вас вместо фонарей по концам рей, – отвечал француз, ободренный близостью своих.
– Ты не будешь этим любоваться, если не перестанешь остриться некстати. Мы, русские, любим посмеяться смешному, но не берем его в уплату. Говори дело, мусье, а не то я пошлю тебя на исповедь к рыбам!
Видя, что его не шутя подняли над водою, пленный оробел.
– На судне осталось только двенадцать человек, – отвечал он.
– Тем лучше, – сказал Белозор. – Ну, товарищи, нам единственное спасение завладеть тендером[106]. Не скрываю от вас: дело опасное, зато уж молодецкое; славы и денег будет столько, что и внучатам не прожить. Грянем, что ли, ребята?
– Грянем, Виктор Ильич, постоим за матушку-Русь, знай наших нетронских! В огонь и воду готовы! – вскричали в один голос удалые матросы.
– Вот спасибо, ребята! С вами и месяц за рога сорвать – копейка, – жить весело и умереть красно! Осмотрите же, братцы, захваченные ружья, и, как скоро привалим к борту, скачи через сетку и прямо сбивай с ног встречного и поперечного, забивай люки и вяжи или коли упорных. А между тем обвертите шейными платками вальки, чтобы они не брякали в уключинах; только бы добраться, а то все наше: пей – не хочу!
Скользя, как тихая тень, понеслась шлюпка, и скоро они разглядели одномачтовую брандвахту, которая то вздымалась на валах высоко, то с шумом ударяла своим бугшпритом[107] в воду. За сеткою мелькала одна голова часового.
– Qui vive?[108] – раздалось с борта.
– Отвечай отзывом, – шепотом сказал Белозор пленнику, приставя пистолет к груди.
– Le diable a quatre (бес вчетвером)! – закричал тот.
– C'est un bon diable (это добрый черт), – примолвил часовой и беспечно оборотился, чтобы вызвать наверх офицера; но Белозор перескочил в это время на палубу, не дал ему даже пикнуть, и в один миг все было исполнено по приказанию.
Палуба находилась во власти русских, а внизу никто и не подозревал о том.
Белозор, рассмотрев сквозь стеклянный люк, что в капитанской каюте сидят за столиком трое офицеров и шумно разговаривают за бутылками, потихоньку спустился по трапу (лесенке) к дверям и остановился послушать речей их.
– Ты прелюбезный злодей! – говорил Монтаню один из таможенных чиновников.
– Настоящий людоед на женские сердца! – примолвил другой.
– Небось на контрабанду и шашни не дам промаху; сам сатана мог бы у меня взять несколько билетов для науки в любовной охоте; одним камнем двух птиц зашибу. – Это говорил Монтань.
– А что, сердечко-то, верно, в золотой оправе? – произнес первый голос.
– Ха, ха, ха! – отвечал капитан. – Голландское сердце всегда в кошельке; как помокнет в тюрьме, так мой старик станет мягче своего сукна. Уж к судьям отправлен ящик с шампанским, подогреть их патриотизм; обвинение важное, и только рука Жанни выскоблит его.
– То есть, когда мы говорим рука, то, конечно, разумеем под этим не одни пальцы, – сказал другой, – но и кольца, и перстни, и все, что в ней и на ней?
– Да узк что толковать об этом; будущий тесть мой богат, и я заживу как маршал, разграбивший провинцию. За здоровье нареченной моей!
– То есть за толстоту мешков ее приданого! – вскричали оба.
– Само собой разумеется, – возразил Монтань, – что я жену считаю приданым, а гульдены, будь они старее Нового моста, своею супругою. Между тем пускай ждет старый скряга нанятой лодки, когда она у нас за кормою, да, чай, уж теперь и сам к нежданным гостям в гости собирается. Я велел привезти сюда только молодого забияку, который вздумал надо мной подтрунивать. Завтра опечатаем фабрику, et vogue la galere (плыви, корабль), как не отдать дочери за француза!..
– И старого дворянина, – молвил другой лукаво.
– И таможенного капитана императорской службы! – гордо воскликнул Монтань. – Господа, здоровье Наполеона! За ним мы всегда правы и всюду хозяева!
Все подняли бокалы, восклицая:
– Да здравствует маленький капрал! Подавай сюда русских, мы сотне хвосты ощиплем!..
Дверь скрипнула, и Белозор упал как звезда с неба и, напенив порожний бокал, дал знак изумленным французам, чтобы они подождали…
– Здоровье императора Александра! – крикнул он; по гости поглядывали друг на друга, как будто спрашивая отгадки этой мистификации.
– Пейте, господа! – грозно воскликнул Белозор. – Или я заставлю вас выпить соленое море вместо шампанского; вы хотели ощипать сотню русских, ваше желанье исполнено: я русский!
– Это уж чересчур дерзко, – вскричал Монтань, хватая Виктора за ворот.
– Не бойтесь, господа, это тот самый шутник, про которого я вам рассказывал; видно, воротилась наша шлюпка и привезла пленника. Смотри, пожалуй, да какой ты забияка!
Белозор хладнокровно оторвал от себя Монтаня, как кошку, и бросил его на стул.
– Что я приехал на твоей шлюпке, это сущая правда, капитан! Только меня не привезли сюда, я сам за долг счел отплатить визит любезному другу. Пейте же, господа, говорю я вам, за здоровье русского царя, или я раздроблю голову упрямым… Что вы глядите на меня?.. Вы мои пленники, господа! Я имею на то трехгранные доказательства! Гей, наши!
Разбитые стекла капитанского люка, звеня, посыпались на стол, и несколько ружей, наведенных на офицеров, засверкали с палубы; они оцепенели на стульях, а храбрый капитан залез под стол.
– Вы можете вести переговоры из вашей крепости, – сказал ему Белозор, – но знайте, что прелиминарная статья[109] есть все-таки здоровье императора Александра… Да здравствует победитель Наполеона!
Французы, морщась, выпили свои бокалы.
– Теперь, господа, пожалуйте ваши шпаги; я ручаюсь вам за целость вашего имущества и невредимость ваших особ; но пусть один из вас потрудится сойти в матросскую каюту, разбудить поодиночке людей и также выслать их наверх; но я предуведомляю вас, что если вы вздумаете сопротивляться, я подниму всех на воздух; у меня тридцать человек на палубе, и ваш же фальконет[110] наведен в пороховую камеру. Остальные останутся при мне заложниками.
Сказано – сделано. Не зная зачем и куда, вылезали матросы из люка; их хватали, вязали и укладывали, как селедок. Трое освобожденных рыбаков-голландцев помогали русским. В четверть часа судно было в полной власти их, и как ветер крепко дул с берега, то Белозор велел отрубить канат, отдал паруса и быстро покатился в океан, рассекая туман и волны. Нужно ли рассказывать, что пробужденная Жанни все еще не верила, что она видит это не во спе? Так чуждо, так необычайно казалось ей все, что происходило.
Сквозь туман, летящий клубами с болотистых поморий, повременно сверкали фонари на флоте, и, наконец, Белозор явственно разглядел крайний корабль свой «Не тронь меня!». Надобно вам сказать, что во время якорной стоянки вблизи неприятеля посылается обыкновенно кругом каждого корабля дозорный катер, и таким-то катером встречено было судно Белозора… Молодой мичман, командовавший оным, не разглядел в тумане приближающегося и потому не мог опознать издали; но вдруг, заметя парус, выходящий из паров, дал по нем выстрел из фальконета и изо всех сил пустился грести назад. В один миг распространилась тревога по всей линии, батареи открылись и осветились, фитили засверкали везде; черные громады кораблей казались тогда стойкими чудовищами, готовыми изрыгнуть смерть и гром. Напрасно кричал Белозор, что он русский, что он ведет призовое судно, – голос его замирал в стоне ветра. Видя опасность, он направил ход прямо к носу корабля, чтобы находиться вне выстрелов боковых орудий, но эта надежда была недолговременна. Когда он находился не далее полутора кабельтова от «Не тронь меня!», погонные пушки[111] были привезены и готовы. Им даже слышно было, как лейтенант командовал:
– Обдуй фитиль[112]! Пли!
Выстрел взревел; огненное облако озарило ночь, и ядро с плеском ударилось в воду подле тендера, прыгнуло через, разбив гафель[113], и пошло рикошетами далее.
– Покуда снимают с нас только шапки, – сказал Белозор, глядя на сорванный топсель[114], – но скоро доберутся и до головы.
– Вторая! пли! – раздалось с форкастля.[115]
Это ядро дало всплеск подле самого носа и, свистя, перелетело вдоль тендера; оконтуженный французский офицер упал на палубу.
– Ядро виноватого найдет! – сказал один матрос.
– Не хотел бы я и за сто рублей стоять на его месте, – молвил Юрка.
– Полно дорожиться, и пятьдесят линьков[116] было бы довольно, – возразил, шутя, урядник.
– Это еще яблочки, – сказал третий, – а вот скоро попотчуют смородиной, – держите шире карманы!..
– Что вы тут болтаете как сороки! – вскричал Белозор. – Кричите-ка громче пушек, а не то дорога нам будет расплата за непрошеные гостинцы.
– Не стреляйте! – заревели матросы на тендере. – Мы русские, мы нетронские!
Фитиль остановился над пушкою.
– Долой паруса и держите под наветренный борт, если вы русские, – раздалось сверху.
Приказ был исполнен, и скоро вооруженный баркас пристал к борту тендера. Дело объяснилось; их сочли брандером[117], но теперь, ступив на корабельные шканцы, Белозор не успевал отвечать на сотни вопросов, задушаемых дружескими объятиями. Все толпились кругом его, шумели, кричали: «Он воротился! Белозор воскрес!» – и никто не понимал друг друга. Наконец любопытные должны были уступить место Николаю Алексеичу, как старому другу найденного.
– Ну, брат, чародей ты, Виктор, – говорил он, обнимая друга со слезами на глазах, – «на огне не горишь, на воде не тонешь. А мы про тебя у всякой селедки расспрашивали, – ни слуху ни духу! И вдруг, когда полагали, тлеешь на дне морском, словно оторванный верп[118], ты прикатил к нам подо всеми, живехонек и здоровехонек!
– Да и прикатил-то еще не один; этот тендер вырезал я из-под батарей Флессингена; но об этом долга песня, только ты, Николай Алексеич, сократил было ее: если б еще ядро чокнулось с моею посудинкою, то встреча была бы поминками.
– И что за счеты между своими, – ты бы из воды сух вышел… Да это что у тебя за яхточка на бакштове[119]? – примолвил лейтенант, поглядывая на Жанни, которая робко озиралась на незнакомцев. – Недаром, право, мы приняли тебя за брандера; в таких глазках больше огня, нежели нужно, чтоб поднять на воздух весь союзный флот.
– Я тебе поручаю, любезный друг, занимать мою спутницу в кают-компании, покуда я объясняюсь с капитаном.
– В уме ли ты, Виктор? Я лучше соглашусь принимать порох с сигаркою в зубах, чем провести полчаса с прекрасною девушкою.
– Это будет тебе отместкой за встречу!
Капитан принял Белозора, как отец спасенного сына, и когда тот рассказал свое похождение вкратце, уверил его, что такой подвиг не останется без представления со стороны высшего начальства и без награды от государя. Но вдруг, перемени ласковый на строгий тон, он спросил его:







