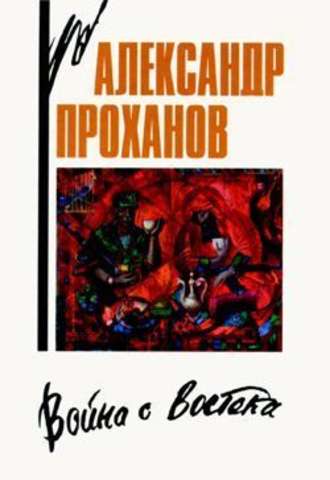
Александр Проханов
Сон о Кабуле
– Так что я доложу на совете атаманов, какого вы мнения, Григорий Михайлович. И все мы вам желаем крепкого здоровья! А чтоб у наших врагов кишки разорвало! – возбужденно и радостно прощался казак, унося на своих свежих губах ухмылку.
В кабинет вошла немолодая женщина. Платок спустился с ее простоволосой, седеющей головы. На пальто не было нескольких пуговиц, наружу вылезали какие-то вязаные кофты. В руках она держала кулек. С ним и села на стул, куда бережно опустил ее Ивлев.
– Что вы хотели? – спросил он вкрадчиво, как спрашивают пациента о мучительной неизлечимой болезни.
– Я вот шла… хотела… в Москву… специально… – пролепетала она, и глаза ее слезно и слепо гуляли по кабинету, по столу с телефонами, по тяжелым дубовым стенам.
– Я вас слушаю, – терпеливо повторил Ивлев, ободряя женщину кивком и взглядом. Но та продолжала блуждать глазами. Они, невидящие, были полны прозрачной влаги, не умели найти точку, остановиться, словно в ее помраченном рассудке не могла сложиться разорванная мысль.
– Может быть, вы не ко мне? – Ивлев смотрел на нее с состраданием, молча извиняясь перед Белосельцевым за вынужденное промедление.
– Я шла… в Москву… С Хасавюрта… Чечню прошла… Сына убили… Ко всем генералам ходила… Говорят, сгорел сьш… Товарищей его разыскала… Сказали, в танке сгорел… Назвали Аргун… Поехала сына искать… Чеченцы били… Два раза в яму сажали… С пробитой головой упала в арык… Пришла в Аргун… Говорю: «Где танк сгорел?» Мне показали… Одно железо, ржа и окалина… Я в танк залезла, горстку пепла собрала… Все, что от Сени осталось… В Москву привезла… Пусть его в Кремле, в стене похоронят… Вот он мой Сенечка!.. – она развязала кулек, достала плоскую картонную коробку, раскрыла ее и поднесла Ивлеву. Белосельцеву была видна на дне темно-рыжая горстка ржавой земли. – Это мой Сенечка… Помогите его в кремлевской стене схоронить…
Это было безумие, но и страстная просьба истерзанной женщины, желавшей спасти от забвения ненаглядного сына, чтоб из горстки ржавой земли он превратился в краснозвездные башни, в белоснежные соборы с золотыми крестами, процвел в центре русской земли немеркнущей славой и в дни торжеств взлетал над Москвой букетами ярких салютов.
Лицо Ивлева на мгновение утратило резкость черт, словно оно отразилось в воде, на которую дул ветер. Оно было беспомощным и несчастным. Его ответ женщине был ответом беспомощного генерала, который послал на смерть ее сьша и которого самого послала на дурную войну дурная и бесславная власть. Мстя этой власти, обесчестившей страну и армию, Ивлев пошел в политику. Затевал опасное дело, ради которого являлись к нему казаки и десантники, ради которого пригласил к себе Белосельцева. Женщина протягивала ему горстку пепла, оставшуюся от сына, оставшуюся от армии и страны.
– С вами будет говорить мой помощник, – сказал женщине Ивлев. – Он выдаст вам деньги на похороны сьша. Его похоронят с воинскими почестями. На памятнике золотом напишут его имя и название части, в которой он сражался. Большего я не могу.
Он вызвал помощника, что-то тихо сказал. Женщина смиренно заворачивала в кулек картонную коробку, кланялась, шла за помощником. Ивлев, сутулясь, провожал ее до дверей.
– Виктор Андреевич, – обернулся он к Белосельцеву. – Мне надо поговорить с вами по душам. Здесь не хочу, повсюду уши, – он показал на дубовые потолки и стены. – В коридорах проходу не дадут, станут отвлекать. Уж не сочтите за труд, давайте оденемся, прогуляемся где-нибудь по соседству. Ну хоть по Манежной площади, в подземном торговом центре.
Они надели пальто и шапки, покинули Думу. Миновали два окоченелых пикета, погибавших на морозном ветру ради бронзового памятника, который лежал плашмя на московском пустыре, засыпанный снегом. Рты пикетчиков, как водостоки, были наполнены льдом, и они глазами, одни – восторженными, другие – ненавидящими, проводили Ивлева. Манежная площадь открылась с угла Тверской. Белосельцев оглядывал ее, словно впервые, исследуя ее новый, после реконструкции облик. Площадь, прежде пустая, как поле, без людей и машин, предвосхищала своей пустотой розовый Кремль, который казался огромным, парящим, удаленным на благородное расстояние от толкучки города. Его шатровые башни, зубчатые стены, янтарный царский дворец, чьи окна напоминали женские открытые шеи в кружевных воротниках, представали любящему восхищенному взгляду. На синем асфальте площади стояли каре парадов, ожидая пения трубы, чтобы дрогнуть и тяжелыми литыми брусками двинуться к мавзолею в колыхании штыков и знамен. Тут дымились колонны танков, ряды самоходных гаубиц, готовых в лязге и трясении земли пройти вдоль трибун, расползаясь на две стороны, вокруг Василия Блаженного, затмевая резные купола синей гарью моторов. Через площадь в дни похорон медленно катили лафеты, везя погребальные урны, и солдаты, как журавли, вышагивали на длинных ногах, описывая штыками солнечные мерные дуги. В дни демонстраций и митингов площадь заливала толпа, чернела в морозном воздухе до белых колонн Манежа. В смоляном вареве, в ртутных испарениях краснели знамена, перекатывались гулы и рокоты, и единым дыханием и хрипом толпа выкликала: «Макашов!.. Макашов!..»
Теперь же площадь была покрыта хрупкими балюстрадами, измельченными фонарными столбиками, среди которых виднелись плоские стеклянные пузыри, похожие на грязные вздутия льда, и весь ее нелепый, безвкусно застроенный вид отвлекал от Кремля, беспокоил взгляд, будто в глаза надуло сор.
Москвичи полагали, что московский мэр, ненавистник протестных шествий, напускавший на толпу милицейские отряды с дубинками, специально застроил площадь, чтобы отнять ее у простого народа. Вырыл в ней котлован, устроил торговый центр, а сверху, как плиту с кастрюлями, накрыл стеклянными крышками.
Они спустились в подземный переход, откуда был доступ в торговый центр. Перед входом, среди грязного кафеля, толпились нищие, столь же разнообразные, как перед ступенями храма. Слепые старухи, замотанные в тряпье, с выгнутыми горбами, опирались на палки. Трахомные женщины выставляли на синюшных руках грудных детей, похожих на иссохшие трупики. Маленький мальчик в стоптанных ботинках усердно играл на гармошке. Безногий, на колесиках, в пятнистой военной форме с болтающейся медалью улыбался щербатым ртом. Молодая пьяная женщина вытягивала из рукавов обрубленные, как головешки, культи. Все они просили, вымаливали, неутомимо окликали прохожих. Не переступали черту, за которой открывалось великолепие подземного храма.
Это был не магазин, не торговый центр, а именно храм, построенный в священном центре Москвы, опущенный в сокровенную ее сердцевину, погруженный в толщу московской земли, в которой пластами сменялись эпохи, – древние стоянки славян, земляные городища и насыпи, деревянные настилы и улицы, каменные мостовые и слободы. Храм прорубал пласты, проникал в глубину под Кремль, и если соборы и колокольни стремились крестами ввысь, взьшали к небу, то этот храм был опрокинут вниз, стремился к центру земли, взывал к таинственному, обитавшему в земле божеству.
Храм открывался великолепным огромным холлом из малахита, где было гулко, просторно, веяли теплые дуновения, тонкие благоухания, словно возносились благовонные курения, возжигались пахучие травы, и невидимые вентиляторы разносили ароматы под сводами храма. На малахитовой стене красовалась лаконичная надпись на чужом языке, будто изречение из неведомой магической книги. Беззвучные, непрерывно скользящие эскалаторы и хрустальные капсулы лифтов подхватывали робеющих и восхищенных прихожан, опускали их под землю, в ровное, драгоценное свечение преисподней.
Белосельцев вслед за Ивлевым встал на металлический водопад эскалатора, и их повлекло в глубину, где раскрывались бесконечные зеркальные витрины – россыпи драгоценностей, изделия из мехов, бессчетные туалеты, великолепие обуви, самоцветы, дорогие игрушки, тончайшее женское белье, охотничье оружие, косметика, серебряная и золотая посуда, богемское стекло. Тысячи тысяч предметов, предназначенных для дворцов, великосветских приемов, наслаждений, услад, развлечений, увеселительных прогулок, круизов, наполняли витрины, и они казались алтарями, где были разложены священные дары.
Фантазия архитектора, создавшего подземный торговый центр, черпала образы из античности. Повсюду красовались изящные портики, дорические колонны, бил и журчал ионический фонтан, окруженный каменными вакханками, нимфами и дриадами. Каждый магазин, застекленный прозрачным стеклом, был посвящен своему особому божеству. В нем царил свой культ, свой обряд. Продавщицы за прилавками, молодые, прелестные, напоминали весталок, давших обет безбрачия, хранивших жертвенный священный огонь. Стоящая повсюду охрана, бритые здоровяки с мобильными рациями, были суровые стражи, чей угрюмый всевидящий взгляд пронизывал каждого, кто переступал порог храма. Редкие покупатели, имевшие достаточно денег, чтобы купить баснословно дорогие товары, проникали в глубь магазинов. Были посвященные, кому открывался путь к алтарю. Остальные, желавшие приобщиться, но не имевшие для этого денег, лишь созерцали несметные богатства, переходя от витрины к витрине.
Белосельцева поразила вопиющая безвкусица убранства, нарочитая архитектурная пошлость, с которой был выполнен интерьер. Малахит и мрамор, позолота и зеркальное стекло были использованы для того, чтобы родить дешевую и отвратительную подделку, которая, однако, прекрасно соответствовала тому таинственному культу, который царил в храме. Опрокинутый вниз, направленный к мрачному центру земли, являясь противоположностью небу и надземному миру, он и в архитектуре своей был противоположностью красоте, гармонии, золотому сечению, смыслу. Множество алтарей и даров свидетельствовало о многобожии, но над всеми божками чудилось присутствие невидимого верховного божества. Верховный жрец, лысый, с твердой костяной головой, ощеренный, беспощадный, собиравший оброк с Москвы, окруживший город магическим кругом, по которому днем и ночью неслась, как в кольце Сатурна, светящаяся плазма, этот жрец один имел доступ к золотому вещему богу, поселившемуся в подземелье под фундаментами кремлевских соборов.
– Давайте здесь потолкуем, Виктор Андреевич, – сказал Ивлев, останавливаясь у витрины. – Здесь они нас, голубчики, не достанут!
За высокой прозрачной витриной на черном бархате дивно сверкали бриллианты. Их россыпи были, как ночные созвездия. От них исходило магическое сияние. С каждой грани слетал тончайший лучик, проникал в кровяные тельца, прокалывал капельку крови, причиняя мучительное наслаждение. За стеклом, окруженные угодливыми продавцами, находились покупатели. Важный тучный старик в черном пальто, горбоносый, с желтым черепом, выпяченной нижней губой и темно-лиловыми, складчатыми подглазьями. И молодая прелестная женщина, белокурая, с длинной шеей, влажными, похожими на бутон губами. Женщина сняла дорогое пальто. Служитель держал его на весу. Другой благоговейно надевал на нее бриллиантовое колье, застегивал на ее голом нежном затылке. Третий преподнес ей овальное зеркало, всем своим видом выражая восхищение. Горбоносый старец тыкал в бриллианты коротким заостренным пальцем, и служители наряжали женщину, словно готовили ее в жертву плотоядному неутолимому богу.
– Я говорю с вами, как с очень близким человеком, старшим товарищем, которому наверное обязан жизнью, – произнес Ивлев, убеждаясь, что они одни и никто вокруг с помощью длиннофокусного микрофона их не может подслушать. – Я готовлю восстание. Военный переворот. Для этого все уже есть. Части готовы, командиры на связи, рассчитано все до мелочей. Кто откуда входит, какой объект берет под контроль. Все должно произойти очень быстро, без крови. Ну, может быть, десяток бандитов, которые окажут сопротивление, – тех прихлопнем. Под арест будет взято тысяча человек, больше не надо. И это обеспечит практически мирный переход власти, которая и так валяется под ногами…
Ивлев повел вокруг глазами. Взял Белосельцева под руку, и они сделали несколько шагов, перешли к соседней витрине. Под стеклом на малиновом бархате были разложены золотые часы, мужские и женские. С литыми желтыми корпусами, крупными циферблатами, массивными браслетами, похожими на слитки. И крохотные, усыпанные самоцветами часики, как хрустальные капельки, впаянные в золотые основания. Японские, швейцарские, французские. Как свернувшиеся золотые змейки со стеклянными чуткими головками. Как пригревшиеся на солнце ящерицы с дергающимися язычками. Их было так много, и все они шли, шевелили усиками, переливались, искрились, что казалось, будто здесь, в стеклянной колбе витрины, вырабатывается само время. Отнимается посекундно у тех, недостойных и жалких, находящихся за пределами храма, укорачивая их ненужные жизни. Прибавляется непрерывными толиками к жизням избранных, чтобы продлить их владычество, управление миром, поклонение бессмертному, живущему вне времени божеству.
У прилавка стоял плечистый разлапистый малый, с ершистой стрижкой, маленьким крепким лбом, красными накаленными скулами. Засучил рукав долгополого пальто, заголил волосатое запястье, примерял тяжелые золотые часы. На огромном кулаке у оттопыренного большого пальца была синяя татуировка, дракон или змей. Ему нравились часы, он вертел кулачищем перед носом угодливого служителя, и Белосельцеву казалось, что в этом кулаке возникает то бандитский пистолет, то нож, то зубчатый кастет.
– Военному перевороту должно предшествовать народное восстание. Массовые выступления народа в Москве, в других городах, на заводах, на шахтах. Миллионы должны выйти на улицы и обратиться к армии с просьбой защитить народ от произвола. И тогда, на зов народа, откликнется армия. Все это должно произойти почти синхронно. Переговоры с лидерами партий, профсоюзами, стачкомами ведутся. У меня каждый день бывают люди из регионов, торопят события. Я уверен, этой весной, уже через несколько недель, мы решим эту проблему…
Ивлев снова оглядел пустынное пространство торгового центра, недовольно покосившись на появившегося из дверей молодого охранника в форме. Увлек Белосельцева к соседней витрине. Там, за стеклом, висели меха. Будто мчались воздушные невесомые стаи черно-бурых лисиц, глазированных, как стекло, куниц и выдр, драгоценных песцов и норок. Висели шубы, муфты, манто. Черно-серебристые, с белым подбоем накидки из абиссинских бабуинов. Пышные царские мантии с белыми язычками горностаевых хвостиков. Две молодые женщины, длинноногие, как манекенщицы, примеряли шубы. Казалось, они надевают их на голое тело, на розовые груди, нежно-выпуклые животы, на овальные бедра. Они поворачивались перед зеркалами, смеялись, успевая незаметно касаться друг друга. Ласкались, возбуждались от прикосновений теплого меха. Служительницы, такие же красивые, улыбающиеся, помогали им. Поддерживали шубы, пропускали свои длинные чуткие руки за воротник, в просторные рукава, обнимали под шубами их гибкие талии. Это напоминало древний обряд приручения диких животных, когда женщина отдается зверю, возникают загадочные лесные соития, от которых происходят на свет кентавры, птицы-сирины, львы с человечьими лицами, люди с лисьими головами. И в кургане царя, в пирамиде фараона находят забальзамированную священную кошку или молодую кобылицу, похороненную с почестями любимой жены.
– Я вам сразу скажу, Виктор Андреевич, в политических делах я неопытен. Я военный, буду управлять войсками, поддерживать режим чрезвычайного положения. Мне нужен соратник, знающий вкус политики. Соединяющий меня с лидерами движений и партий. Обеспечивающий интеллектуальный штаб по подбору кадров. К моменту, как мы возьмем власть, мы должны иметь всех министров, руководителей радио и телевидения, главу Центрального банка. Мы должны в тот же день издать несколько основополагающих документов в области экономики, социальной сферы, внешней политики. Будьте таким соратником. Начните подбор кадров. Начните переговоры с партиями. Все это требует гибкости, конспирации, огромного такта. И всем этим вы обладаете в высшей степени…
Они вновь перешли на другое место, к витрине, на которой было выставлено оружие. Коричневые и золотистые ложа. Черно-голубые стволы. Двухстволки лучших оружейных заводов. Помповые ружья. Оптические карабины. Многозарядные автоматы. Сталь, стекло, драгоценные породы дерева. Эмблемы, инкрустации, радужная вороненая пленка. Все это оружие с именными клеймами известных оружейников мира было к услугам богатых великосветских охотников, разбивавших свои шатры и палатки у подножия Килиманджаро, в сельве Амазонки, в национальных парках Конго. Жирафы тянули тонкие пятнистые шеи к лакомым листьям деревьев. Буйволы и антилопы паслись на тучных травах саванны. Тигры и львы, обессилев от сытости, залегали в сухих тростниках. Но их уже выцеливал дальнобойным карабином молодой румяный мужчина в тирольской шляпке с фазаньим пером, прижимая к клетчатой куртке тугой приклад, поводя стволом по витринам, скользнув прицелом по лбу Белосельцева. Закупит самолет, погрузив в него друзей и любовниц, наполнит его напитками, яствами, походными принадлежностями и оружием. Улетит в Кению на воскресные дни, на краткое упоительное сафари. И в его особняке на Успенском шоссе появятся шкура убитого им леопарда, витые рога козлотура, белый бивень слона. Белосельцев, проживший жизнь среди стреляющего оружия, многократно побывав под огнем, разряжавший стволы в нападавшего противника, видел блаженное лицо румяного охотника, в котором оружие пробуждало сладострастие. Охота для него была эротическим, замешанным на звериной крови, ритуалом, предполагавшим соседство женщины, обладание которой было невозможно без убийства.
– Я делаю вам предложение, Виктор Андреевич. Не говорите ни «да», ни «нет», подумайте. Родина ненаглядная погибает от жестоких мерзавцев, и никто, кроме нас, ее не спасет. Либо мы сейчас сохраним ее для наших детей и внуков, либо ее не станет, и нашим внукам мы будем отвратительны и поганы…
Белосельцев смотрел ввысь, в стеклянный купол с начертанными каббалистическими фигурами, звериными орнаментами, астрологическими знаками. Они пребывали в культовом зале, где шло поклонение жестокому древнему богу, подчинившему себе русские снега и березы, русских поэтов и воинов, священников и духовидцев. Кремль был подрыт огромным золотым кротом, и соборы и башни, как растения с разорванными корнями, иссыхали и чахли. Белосельцев чувствовал, как страстно ненавидит, как твердо верит Ивлев, готовый погибнуть, осуществляя свой дерзкий замысел. Чувствовал, как он опасен режиму, как тянутся к нему со всех сторон опасности и угрозы, и он открыт, беззащитен. Два заговора и переворота, которые затевались в недавние годы, в августе и в октябре, были бездарно провалены. Множество людей лишилось голов, эполетов, застрелилось или спилось от тоски. Этот третий заговор таил в себе возможность провала. Чичагов, как старый бесшумный ворон, низко прошел над землей, оставил след в моросящем дожде. Белосельцев искал объяснений недавним знакомствам и встречам. Они начались внезапно, полетели в него из одной ракеты, как разделяющиеся боеголовки, окруженные сотнями ложных целей. В ближайшие дни последуют новые встречи. Новые головные части, рассеивая множество мнимых помех, полетят на него. И весь его интеллект, интуиция и опыт разведчика потребуются для распознания реального, несущего взрыв объекта. Для распознания истины. Если спецоперация, куда его вовлекает Чичагов, будет разгадана, он примет решение. Либо уничтожит головку, не даст ей взорваться. Либо уйдет из-под взрыва и издали станет смотреть на уродливый дымный гриб.
– Я подумаю, Григорий Михайлович, – сказал Белосельцев. – Через несколько дней позвоню.
– Буду ждать с нетерпением.
Стеклянная капля лифта вынесла их на улицу. Ивлев отправился в Думу. Белосельцев вернулся домой, где поджидали его коробки с бабочками. Данаида светилась, как красная пустыня Регистан, и он нырнул в ее волнистый орнамент, погружаясь в прошлые дни. Горячий песок оползал на его башмаки, и он бежал, держа автомат, туда, где ревели верблюды и погонщики сваливали с косматых горбов тюки.
Глава шестая
Просторный сумрачный номер в отеле «Кабул». В полуоткрытом шкафу – его пиджаки и рубахи. Цветастый термос на тумбочке. Блюдо с восточными сладостями. Белосельцев поджидал к себе работника резидентуры и представителя ХАДа – афганской контрразведки. За окном шумела, блестела улица. Полицейский в огромных, с раструбами перчатках махал худыми руками. Грузовой «форд» с тюками, в подвесках и ярких наклейках, похожий на покрытого попоной слона, загородил перекресток. Огибая его, катились двуколки, толкаемые мускулистыми гологрудыми хазарейцами. На одной двуколке лежал вверх дном начищенный медный котел. На другой в позе фарфорового божка сидел укутанный старичок в белой чалме. По улице под деревьями торопился, пестрел народ. Развевались одеяния, шаркали башмаки, раздавались крики разносчиков, предлагавших сигареты и каленые земляные орехи. Темнела близкая зубчатая стена Дворца Республики с бойницами, старинными пушками, маленьким красным флагом. И над всем острозубо и ясно сверкала посыпанная снегом гора.
Ожидая визитеров, Белосельцев вышел из номера. Заметил, как слуга-коридорный в дальнем углу, расстелив шерстяной коврик, молится отрешенно, воздевая над головой руки, роняя вперед худое гибкое тело. В нижнем холле портье и швейцар, потупив глаза, следили за ним, пока он шел к застекленному стенду со свежим выпуском «Кабул нью тайме». Он чувствовал спиной их взгляды, бегло просматривая местные и зарубежные новости.
За стойкой бюро туризма темнела блестящая, расчесанная на пробор девичья голова. Всю стену позади занимали рекламные плакаты. Гончарно-солнечные, в письменах, наклоненные минареты Газни. Зелено-голубые мечети Герата. Бородатые, в распахнутых халатах наездники вспенивали воду горной реки.
– Доброе утро, – поклонился девушке Белосельцев. – У вас по-прежнему пусто? Как видно, туристы сюда не спешат.
– Боюсь, их не будет вовсе, – жалобно улыбнулась девушка. Ее английский был робким, но правильным. Глаза смотрели виновато. Она выглядела замерзшей и одинокой. – Я слышала, на дороге в Джелалабад опять подожгли автобус.
– Я хотел попросить у вас туристскую карту. Возможно, мне предстоит путешествие.
Девушка протянула ему контурную карту Афганистана с маленьким красным гербом республики. Он рассматривал очертания приграничных с Китаем и Пакистаном провинций – Бадахшана, где хотел побывать на горных рудниках лазурита, Нангархара, где в долине субтропиков раскинулись плантации цитрусов, и где в теплом и влажном воздухе среди вечнозеленых растений он мечтал поймать оранжево-черную бабочку.
Он услышал гулкие, приближавшиеся по лестнице голоса. Спускались жившие в номерах советские специалисты и советники, работавшие по контракту. Каждое утро они собирались в вестибюле, шумные, дружные, похожие друг на друга, дожидаясь прихода афганцев, которые забирали их в машины, развозили по учреждениям, министерствам, заводам.
Среди спускавшихся был Нил Тимофеевич, бодрый, деловитый, уже привыкший к своей роли советника. Что-то втолковывал, объяснял узбеку, ведовавшему ирригацией. Белосельцев с удовольствием разглядывал его простое крестьянское лицо, толстые губы и белесые мохнатые брови.
– Нил Тимофеевич, – пожал он руку советнику, – старых друзей забываете! Сколько зову, не заходите! – Ему и впрямь хотелось посидеть с приятным ему человеком, с которым довелось пережить самые первые, острые впечатления, когда колонна синих тракторов коснулась колесами афганской земли и та откликнулась волшебной светомузыкой гор, снежным бураном, пулями из старых винтовок. – Где они сейчас, трактора?
Нил Тимофеевич взял из рук Белосельцева карту. Водил по ней толстым пальцем:
– Одна, с которой мы добирались, в Джелалабаде, уже работает. Скоро поеду проверять… Другая плохими дорогами идет в Кандагар. Там были большие задержки… А третья тем же маршрутом подходит к Салангу. Буду встречать в Кабуле… – Он говорил обыденно, со знанием дела, будто речь шла о поставках техники в томские совхозы. И эта обыденность, быстрота, с которой Нил Тимофеевич приспособился к новым условиям, привык к незнакомой стране, удивляли Белосельцева. Страна по-прежнему казалась загадочной, скрывала свою таинственную сущность, сулила неожиданности. И та упрощенность, с какой подходили к таинственной незнакомой стране приехавшие из Союза советники, разочаровывала и удивляла Белосельцева.
– Я бы и сейчас в Кандагар махнул. Говорят, интересный город. Да дел больно много в Кабуле, – озабоченно делился Нил Тимофеевич. – Начинается съезд аграрников, всеафганский. Будет объявлена широкая программа – углубление земельной реформы, мелиорация, обводнение пустынь. Очень нужно послушать… Да вы заходите завтра ко мне! Я вон народ приглашаю! – Нил Тимофеевич радушно кивал, обращая к друзьям свое крестьянское синеглазое лицо. А Белосельцеву вдруг стало тревожно и больно. Вспомнилась вдруг белоснежная зимняя чаечка, прилетевшая с Амударьи и мелькнувшая над головой советника.
– Нил Тимофеевич завтра товарищеский ужин устраивает, – любезно улыбнулся смуглый ферганский узбек. – Гостинчик выставляет. А как же! Трактора Саланг одолели!
Дружной гурьбой двинулись к выходу, где их ждали машины с представителями кабульских ведомств. Слышались приветствия, возгласы. Нил Тимофеевич, усвоивший несколько афганских фраз, громко, уверенно возглашал: «Хубасти!.. Читурасти!.. Ташакор!» Вся компания исчезла, растворилась в пестром мелькании улицы.
Белосельцев рассеянно стоял в вестибюле, разглядывая сумрачный и безлюдный зал ресторана, где давно уже не слышалась музыка и вечерами, при потушенных огнях, едва различимо краснели тяжелые ковры на стене.
– Следите внимательно за английской машинкой!.. У вас выпадает «би»!.. – услышал он сухой недовольный голос. Мимо проходил худой лысоватый работник московского МИДа, командированный в помощь афганским дипломатам, живший в просторном люксе, куда посольские работники приносили ему пачки бумаг. Рядом шла, опустив глаза, то ли машинистка, то ли секретарша, строгая, лакированная, натянутая. Белосельцев и прежде видел ее, нелюдимо и торопливо проходившую по коридору. Каждый раз она вызывала в нем легкое отторжение – своей собранностью, аккуратным и скрупулезным набором мелких женских предметов, украшавших ее волосы, пальцы, блузку. В таких аккуратных московских женщинах было что-то искусственное, одинаковое – в изящных сумочках, зонтиках, лакированных ногтях и сиреневой губной помаде. Встречая ее в коридоре кабульского отеля, Белосельцев бессознательно раздражался. Своей узнаваемостью и стандартностью она мешала чувствовать и узнавать окружавшую его новизну. – Вам принесут пакистанскую и индийскую прессу. Сделайте вырезки по интересующей меня проблеме! – требовательно произнес дипломат, и они вышли на улицу сквозь стеклянную дверь, где их поджидал огромный лакированный «шевроле».
«Цаца в целлофане», – раздраженно подумал Белосельцев. И вдруг почувствовал легкое головокружение, как при подъеме на скоростном лифте. Его слабо колыхнуло, будто надавило боковым ветром. Он шагнул туда, где только что была она. Поместил себя в пространство, только что ею покинутое. Сделал несколько шагов ей вслед, чувствуя, что его лицо, плечи, грудь занимают теплую пустоту, где только что были ее волосы, ноги, глаза. Он как бы вливался в оставленную ей форму, становился живой горячей отливкой, обретая на мгновение ее внешность.
Это длилось секунду, два или три шага. Очнулся, отошел к стене. Не понимал, что это было. Кто, невидимый и прозрачный, как ветер, направил его ей вослед. Отчего горят его щеки. Чье мягкое прикосновение чувствует сквозь рубаху грудь. В вестибюль входили помощник первого секретаря посольства Чичагов и сотрудник афганского ХАДа Нимат.
Они сидели в номере при задернутых шторах перед блюдом с восточными сладостями. Белосельцев из цветастого термоса наливал в пиалы горячий чай, наблюдая на потолке странный световой эффект. Сквозь шторы, в узкую щель, с улицы пробивались лучи, и в тонком пучке, как в фокусе проектора, на экране потолка возникало изображение проезжавших по улице экипажей. Бело-желтое размытое пятно проплывало по потолку, и это было такси, его разболтанный рокочущий звук возник и растаял за окном. Следом появилось оранжевое пятно с коричневой тенью, Белосельцев различил обода и спицы двуколки – это хазареец толкал повозку, груженную апельсинами, в сторону рынка. Таинственная оптика серебристого света – прибор, случайно возникший из матерчатой гардины, снежных, отражавших солнце вершин, подобие «волшебного фонаря», – волновала Белосельцева. Он вел разговор с собеседниками и одновременно следил за пучками, кидавшими на потолок подвижное изображение улицы.
– Мы сообщили в Джелалабад о вашем прибытии, – Чичагов перетирал в тонких пальцах смуглый каленый орешек. – Вашу шифровку в Центр передали. Вам благодарность и привет генерала. Нимат прорабатывает ваши контакты в Кабуле, и если у вас есть дополнительные пожелания, он готов их выслушать. – Чичагов перетирал орешек, ссыпая с него тонкую труху сгоревшей кожуры. В его дружелюбных мягких интонациях едва заметно угадывались осторожная пытливость, недоверие к Белосельцеву, чей визит в Кабул был обставлен необъяснимыми, похожими на капризы, условиями. Выполнение их казалось Чичагову утонченной формой проверки, к которой прибегает Москва, направляя в Кабул своего ревизора, молодого дилетанта, доставляющего резидентуре дополнительные непродуктивные хлопоты. – Нимат будет работать с вами по линии кабульского ХАДа. Он же передаст вам контакты в Джелалабаде.
– Дорогой Нимат, – Белосельцев долил в пиалу афганца дымящий чай, видя, как на потолке появилось перламутровое пятно. За стеклами раздалось тяжелое урчание грузовика. Это его разноцветные, как переводные картинки, борта отражались на экране потолка. – Как изменилась обстановка в городе? Какие новые симптомы того, что готовится путч? Внешне все очень спокойно. Вчера я ходил по городу, общался с людьми. И нигде не почувствовал напряжения. Со мной говорили приветливо, дружелюбно.
– Мне кажется, вам не следует одному появляться на улице. Мы всегда вам дадим прикрытие. Это не совсем безопасно, – афганец улыбнулся белозубо и ярко. Его коричневое, красивое лицо, иссиня-черные волосы, свежая рубаха и нарядный шелковый галстук источали свежесть и бодрость. Его русский язык был правильный, с легкими, неуловимыми вибрациями, которые появляются на зеркальном стекле, слегка искажая изображение. – Среди хазарейцев появилось много пакистанских агентов. Ведут агитацию. Вчера в Хайр-Хане взяли тайный склад оружия. Автоматы и мины. Замечено внедрение в город много чужих людей из Нангархара и Кундуза. Вчера на Грязном рынке убили чешский советник. Ходил за овощи, один, без прикрытия.







