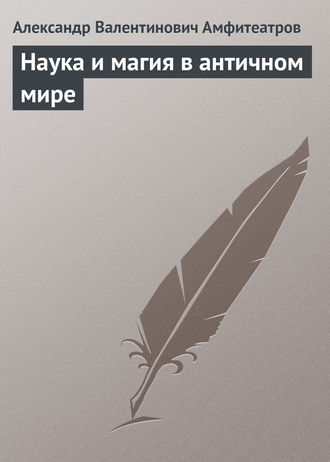
Александр Амфитеатров
Наука и магия в античном мире
От обожания человека, тем паче мёртвого, в таинственном, вечно присном гении его, – один шаг до веры, что гений или демон могут вселяться в тело мертвеца, прорицать его устами, творить чудеса от его имени. Раввинское предание, перешедшее через послание св. Иуды и в христианскую литературу, рассказывает о споре архангела Михаила с дьяволом из-за тела Моисеева. «Князь вещества» стремился овладеть трупом великого пророка, чтобы, вселясь в него, создать в Израиле ложный предмет поклонения – как бы телесный кумир-оракул, лживо глаголящие мощи. Ещё Эвгемер указывал, что культ развивается, по преимуществу, вокруг могилы великого мертвеца, принимаемого потомством за бога. Таково, по мнению его, начало поклонения Юпитеру на Крите. Мёртвый Тот, отец Гермеса Тривеликого, именно с момента смерти своей, становится из простого учёного медика лекарем чудотворцем, приняв в свои останки, вызванного поклонниками, демона. Пророчествуя будущую гибель языческих святынь, Трисмегист, как подметил ещё св. Августин, очень выразительно обличил, в чём, собственно, святыни эти заключались: «Тогда страна эта, святейшая отчизна капищ и храмов, будет переполнена гробами и мёртвыми». Бл. Августин отнёс смысл этих слов к предчувствию Гермесом будущего почитания в Египте христианских мощей. Но Тривеликий мудрец просто предсказывает здесь, что, как скоро свет божественных истин, которые он сам излагает и исповедует, разольётся по земле, сила демонического посредничества отживёт свой век, демоны отступятся от своих обиталищ и изваянных органов, и, таким образом, последние снова станут тем, что они и суть на самом деле, то есть гробами, трупами, заключёнными в них, и изображениями мертвецов. Иногда почтение к демоническому мертвецу побеждало чисто божественные культы. Так было в Таренте, где Гиацинт из светлого солнечного бога превратился в мёртвого демона, и предметом культа стала, вместо благого солнца, его предполагаемая могила.
Гермес Трисмегист упоминает о терафимах – маленьких статуях, предвидящих будущее; перейдя в талмудическую литературу, поверие это повторяется у Маймонида. Вот описание фабрикации магических терафимов, сделанное Уголином, якобы по преданию от Гамалиила, члена синедриона, участника суда над Христом и учителя апостола Павла. «Убивали новорождённого младенца, отрубали ему голову; на язык её сыпали соль, помазывали его елеем, а под язык клали маленькую золотую пластинку, с начертанием имени злого духа. Затем, повесив голову на стене, возжигали перед нею лампады, простирались ниц, вопрошали и получали ответы». То есть – пред нами опять-таки демоны-оракулы, искусственно воплощаемые в мёртвых, такие же, как в неоплатонической и герметической легенде.
Мы знаем из Библии о глубокой древности терафимов, хотя те, о которых мы знаем, вряд ли были таковы, как описывает Уголино: в жестоком процессе изготовления, им изложенного, чувствуется влияние при-Евфратской магии, стало быть, пленения вавилонского. Библейские терафимы, по всей вероятности, были просто глиняные куклы-фетиши, почитавшиеся одушевлёнными чрез силу магического слова или знака, начертанного у них на лбу, в каком знаке и полагалась вся их демоническая сила. Божки эти, заимствованные из культов хананейских, либо у кочевых аравийских и месопотамских племён, не раз врывались в святую религию Яхве, великого Бога Израиля. Примеры Рахили, укравшей терафимы из домашней божницы Лавана себе в приданое, и Михи, в эпоху судей открывшего частную молельню, где наёмный левит служил одновременно и Яхве, и терафимам, указывают, что божки-пророки довольно мирно уживались в иудейском народе с господствующею идеею однобожия, получив в культе значение полубожественных существ, более доступных и близких человеку, чем единое верховное Божество. Это демоны-посредники, с которыми проситель может держаться более интимно, добиваясь себе от них не той фатальной, провиденциальной милости, какой Бог хочет, а той, какую предсказывает в данный момент собственный интерес, личная страсть. Соединённое служение Михи и Богу, и терафимам представляет собою, на почве древнего иудаизма, характерный зачаток того, что впоследствии стало называться феургией, как благороднейшая, философская часть магического обряда, магической науки, имевшая целью приближать человека к Богу чрез посредство демонических сил.
Суеверие о терафимах в том виде, как передал его Уголино, выродилось в средние века в сказку о мнимом употреблении евреями христианской крови. Осложнённая внушениями религиозного фанатизма и расовой ненависти, сказка эта стоила Израилю моря крови и бедствий. Но в античные времена, о которых идёт речь в настоящем этюде, обвинение в ритуальном пролитии младенческой крови тяготело на самих христианах, – и, для некоторых восточных сект, заражённых магиею под фантастическими формами псевдо-гнозиса, по-видимому, не вовсе безосновательно. Вообще, жертвенное убийство детей, с предсказательными целями, сделалось неизбежною принадлежностью всех легенд о тайных обществах не чуждых религиозной или магической окраски, до нашей хлыстовщины и до масонства включительно. В особенности усердно клеветали на те общества, которые вели свою родословную от восточных культов и мистерий. Возникновение в Риме конца республики, в эпоху Цезаря и Цицерона, неопифагорейского союза не замедлило встретить грозного врага в распространившейся молве о детских жертвоприношениях, которые, впрочем, кажется, и впрямь совершались одним знатным суевером, по имени Ватинием. Гадания по детским головам и внутренностям, равно как вскрытия живота беременных женщин, приписывались многим историческим лицам, – обыкновенно, имеющим общую репутацию жестокости и злонравия. В числе таких лиц поминаются Нерон и Юлиан Отступник, – впрочем, обвинения против обоих очень шатки; что же касается Юлиана, то даже наверное можно утверждать, что это тенденциозная клевета, взведённая на языческого императора-философа усердием христианской оппозиции. В средние века ритуальное детоубийство сделалось принадлежностью сатанического культа и чёрной обедни, подробности которых были оглашены слишком хорошо известным и часто цитированным ужасным процессом Жиля де Ретц, маршала Франции, сподвижника Жанны д’Арк, послужившего прототипом для героя знаменитой сказки о Синей Бороде. Дух невинного маленького мертвеца – по катехизису чёрной магии – лучший помощник заклинателя и вернейший прорицатель. Великий знаток таинств души и веры народной – Шекспир отразил этот сумеречный бред в непогрешимом зеркале своего гения, когда заставил своего Макбета придти в пещеру ведьм, чтобы выслушать двусмысленные предсказания из уст двух детских призраков – ребёнка в короне и ребёнка в окровавленном саване.
6
Естественная история демонов весьма неустойчива. В своей полемике с языческими переживаниями, в знаменитом «Граде Божием», бл. Августин возражает, по преимуществу, на демонические определения Апулея. Отсюда позволительно заключить, что на закате язычества эти платонические определения в нём возобладали. По крайней мере, несмотря на отдалённую древность Апулея, как платонического вероучителя, и сравнительную слабость его в этом качестве, бл. Августин посвящает ему внимания столько же, как Порфирию, Плотину и древнейшему систематизатору римской мифологии, Варрону Реатинскому. Апулеево определение демона гласит: «Демоны по роду животные, по душе – подвержены страстям, по уму – разумны, по телу – воздушны, по времени вечны; из этих пяти свойств три первые у них те же, что и у нас, четвёртое исключительно им принадлежит, а пятое обще у них с богами». Но Апулеева формула – далеко не общепринятый и непогрешимый догмат. Демонов считали то вполне духовными, то полутелесными, то бессмертными, то лишь чрезвычайно долговечными. Решение вопросов колебалось в зависимости от того, насколько язычник, задаваясь ими, сохранял ещё привязанность к антропоморфическому политеизму, к его легендам, к его искусству. Платоники христианской эры относились к народной идольской вере не более, как с терпимостью. «Гораздо нечестивее верить россказням черни о боге, чем не прибегать к его кумиру», – говорит Порфирий. Максим Тирский сожалеет, что нельзя создать новой расы, которая не знала бы идолов. Но, раз уже идолы существуют, лучше их сохранить. Они не нужны богам, но необходимы людям, недалёким в уме и беспечным размышлять о божестве. Плутарх восстаёт против антропоморфических представлений божества со всею энергией своего блестящего слова. «Между богом и человеком нет ничего общего – ни в природе, ни в действиях, ни в искусстве или силе, и, если он делает что-либо, чего не сделать нам, исполняет то, чего не исполнить нам, в этом нет ничего невероятного: отличаясь от нас во всём, он, главным образом, отличается от нас, не имеет сходства с нами, по своим делам». Стоя так твёрдо на духовной точке зрения, Плутарх не верил, чтобы идолы, населённые демонами, могли говорит членораздельно, так как «душа и бог не имеют органически устроенного тела, не имеют голосовых аппаратов, которыми могли бы издавать громкие звуки и говорить». Случаи, когда кумиры произносили будто бы целые связные фразы, Плутарх относит к галлюцинациям самовнушения верующих. Но демонические статуи могут потеть, плакать, точить кровь, так как подобие тела у них имеется. Если от статуи слышен стон или плач, это явление чисто физическое: значит, внутри кумира произошёл быстрый разрыв или разделение частиц. Любопытно, что подобною же гипотезою до сих пор ограничивается наука в объяснении знаменитого чуда «поющей статуи Мемнона»; камень колосса, охлаждённый за ночь, мгновенно нагревался лучами восходящего солнца, и быстрое расширение теплом частиц его поверхности вызывало пресловутый таинственный стон, похожий на звук огромной, лопнувшей струны. Почему Мемнон перестал звучать после того, как благочестивый император Септимий Север починил его, – остаётся открытым вопросом. Не более сверхъестественного усматривает Плутарх в плесени, пятнах от сырости, случайной окраске, которые иногда принимают идолы от среды, их окружающей, хотя суеверы склонны и во всех таких атмосферных воздействиях видеть вещие знамения. Рассуждая о Дельфийском оракуле, Плутарх настаивает, чтобы Аполлона не смешивали с личностью Пифии, говорящей от его имени: ему в оракуле принадлежит только пророческое вдохновение, – голос, форма предсказания, размер стихов исходят от личных свойств жрицы. Вот, чем объясняется та соблазнительная странность, что стихи оракула, хотя истекающие от бога поэзии, частенько бывают хуже Гомеровых. Лет сто спустя после Плутарха, оракулы обессилели говорить даже и дурными стихами. Пророческая поэзия стала беречь себя до скаредной скупости. О стихотворном ответе разносится всесветная молва, как о редкости из редкостей, как о необычайно милостивом внимании божества. Обыкновенным смертным и в обыкновенных случаях жизни, Дельфы, Додона, пещера Трофониева, Эскулап, Серапис не отвечают иначе, как прозою. Александр из Абонотейха, учредив свой собственный оракул бога Гликона, таксировал стихотворные ответы его дороже прозаических – наподобие современных редакций периодических изданий, также оценивающих строку стихов значительно выше строчки прозы. Бл. Августин подсмеивается, что даже в ответе на столь важный для язычества вопрос, как бытие и существо Иисуса Христа, дельфийский бог не сумел выдержать стихотворного размера. Из прочих знаменитых оракулов, Аполлон Спондий и Веста Фарийская, не отвечали вовсе, а предлагали принять, в качестве пророчества, первые слова первого прохожего, которого вопрошающий встречал по выходе из храма.
Собирая факты и мнения философской деятельности и литературы, необходимо придти к несомненному выводу, что, если бы для язычества не настало время разрушиться вовсе, передав господство над миром государственному христианству, то, всё равно, оно стояло в необходимости резкой внутренней реформы, и последняя, конечно, была бы, прежде всего, идолоборческою. Начиная с Цицерона и Варрона, римская философия не перестаёт открыто заявлять свою антипатию к вещественным олицетворениям божества. Сто семьдесят лет, когда боги древнейшего Рима чтились без статуй, невидимками, прославляются, как период чистейшей религии; одобряется иудейское отвращение к идолам; «первые, поставившие для народа статуи богов, уничтожили в своих государствах страх и увеличили заблуждение». Знаменита сентенция Варрона: «Первых богов родил страх», «primos deos fecit timor». Страх есть незнание. Демоническое незнание сопровождалось страхом демонов. Христиане звали язычников «демонобоязненными» и учили, что таково же демонобоязненным был весь мир до земного пришествия Христова, с которым демонский произвол в человечестве окончился, и демоны сами познали власть и страх над собою. Боязнь демонов, происходящую от незнания их, ослабило то феургическое знание, которое ввело в употребление идолы, как симпатические образы и символы демонов. Нуме приписывается, что он узнал фигуры богов чрез гидромантию, гадание водою. Философия рассматривала это, в смягчение религиозного страха предложенное, сомнительное знание, как ложное ухищрение суеверия и искусства, как религиозный и поэтический обман и самообман, источник злейших заблуждений о божестве, благочестии и нравственности, коренную причину развращения умов и народов. Консерватизм привычки и малая охота к прозелитизму оставляли философские взгляды теорией, не умирающей, но и не переходящей в практическую жизнь. Облечённая в идеи монистические и пантеистические, она создала в античном обществе нечто вроде аристократии духа, которая, одна зная или почитая себя знающею истину, с гримасою смотрела на суеверия многобожной черни, блистательно разоблачала их нелепость, опровергала и высмеивала, но делала всё это наедине с самою собою. Даже в четвёртом веке, – столь роковом для язычества, и в культах его, и в философии, – формы последней не возвысились от привычного, замкнутого в тесном кружке, рассуждения до гласной и широкой проповеди-пропаганды. Теософия продолжала жить для самой себя и в самое себя: прекратить нелепости многобожной системы, повернуть общественную веру в свою сторону она не умела и не хотела, считая суеверия старых преданий и обрядов государственно необходимыми для народных масс и даже не брезгуя сама принимать в них видимое, якобы символическое участие.
Мнение Плутарха – о невозможности для демонов отправлять телесные функции, за неимением соответствующих таковым органов, следует сопоставить с платоническим учением о шарообразности небесных тел, которое в христианстве принимал ученик неоплатоников, великий Ориген. Он считал нелепым и нечестивым суждение, будто телесные члены даны существам небесным полностью, то есть и внешне зримые, и внутренние, так как последними им делать нечего, по отсутствию у них телесных потребностей, и, следовательно, награждая ими существа, в них не нуждающиеся, Промысел Божественный изменил бы принципу целесообразности творения, за который крепко держалось христианско-платоническое богословие первых веков. Ещё более нелепым находил Ориген предположение, будто «у внемирных существ, как в статуях, лишь внешность человекообразна, а не внутренность». Оправдатели правоверия Оригенова говорят, что, в своём замечании о «небесных телах», он имел в виду не духов, населяющих небо, но светила. Это, может быть, и так, но не исправляет дела, потому что светила-то небесные Ориген считал демонически одушевлёнными. Из падших ангелов души, наиболее виновные, были посланы Богом в тела человеческие, менее виновные – в тела благородные: в солнце, луну, звёзды. Выше было говорено об Оригеновой теории совершенствования всех тварей, не прекращаемого смертью: спасение доступно и грешнейшему из грешных и даже дьяволу. Классификация виновных ангелов по степени их виновности и сообразному с нею месту для исполнения наказания развивает те же самые идеи. Легко заметить тесную смежность их с пантеистическими воззрениями, и, действительно, Ориген никогда не мог стряхнуть с себя привычку к последним с полною силою и убеждением. Слишком строгие и придирчивые судьи не прочь искать в его сочинениях намёков даже на переселение душ, которое признавала старая Академия с Платоном, но от которого счёл за лучшее отречься неоплатонизм с Порфирием.
Деля душевные существа на богов, демонов и людей, Апулей размещал их в мире по обратному вверх от земли порядку, сообразно весу их и принижающей силе земного притяжения. Душа, увязшая в теле, человек, прикован к земле; душа без тела, тонко материальная оболочка богато одарённого, но подобного человеческому, духа, демон, реет в области между землёю и луною; душа совершенная, существо чисто духовное, непосредственный луч от сияния верховного Единого Божества, «бог», блаженствует в высших эфирно-огненных сферах неба. Демон – величина весомая, образец и как бы даже показатель точного равновесия в природе: лёгкое духовное начало его состава, часть божественная, не позволяет ему пасть на землю, чтобы влачить на ней существование, подобное человеческому; тяжёлое материальное начало, часть телесная, не позволяет ему свободно подняться в горние, приковывает его к земной атмосфере. Если позволено будет употребить в беседе о предмете столь возвышенном уподобление низменное, то, по учению неоплатоника Порфирия, демон оказывается чем-то вроде отсыревшего ангела. Влага, которою он пропитывается в воздушном пространстве, придаёт ему тяжеловесность, препятствующую добираться до ангельских высот. «Они по неразумию вбирают в себя влажные испарения, и потому живут не в эфире, а в воздухе под луною и на самом шаре луны».
Предполагалось, что демоны имеют пол и способны к плотской любви. Раввинское предание утверждало, что они брачутся и плодятся. Плутарх объясняет ревнивыми порывами демонов, неудовлетворённых в половом отношении или неспособных к плотскому общению с земными предметами своей страсти, свирепые требования, учредившие обычай кровавых жертвоприношений, – в наслаждении убийством они получали замену наслаждения любовью. Мысль очень глубокая и странно соответствующая положениям современной психопатологии, что половое бессилие часто переходит в кровожадность и страсть к преступлению. Случалось, обратно, и демонам становиться невольными жертвами человеческих похотей: на острове Крите показывали безголовую статую Молона, отца Мерионова, – он изнасиловал нимфу, и демоны сорвали с него голову. Аполлоний Тианский обличил в невесте одного юноши эмпузу или ламию, демона-женщину, питающуюся человеческою кровью. Однако, легенды такого рода довольно редки, – по крайней мере, для исторических времён классической древности, – не пользовались доверием и далеко не играли той опасной роли, что дали им средние века в учении об инкубах и суккубах, разработанном con amore Мартином Дельрио. Бл. Августин говорит, что в его время многие считали прямо бесстыдством не верить в сладострастные проделки фавнов и сильванов, – однако, сам относится с сомнением к возможности половой связи между существом телесным и существом воздушным, которое доступно осязанию лишь в той же мере, как воздух, колеблемый опахалом. Можно думать, что отвратительный предрассудок этот был кельтской прививкой к античной демонологии. В сказанном отрывке Августинова «Града Божие» Галлия указана, как классическая страна сладострастных демонов (дузиев), подобно тому, как Фессалия была классическою страною низменного колдовства («гоэтии»), а Самария – магического богослужения (феургии). Что касается демонов, вселённых в идолы, они, как-то истекает из непочтительных анекдотов Лукиана, должны были иногда весьма смущаться в божественной своей роли страстными порывами к ним богомольцев, которых эстетические наклонности и чувственность оказывались сильнее набожного благоговения. Известен скандал, вызванный, при Тиберии, жрецами Изиды, спрятавшимися за имя её собакоголового демона, Анубиса. Они уверили одну красивую суеверку, будто Анубис требует её на своё ложе. Когда дурочка послушно пришла в храм на ночное свидание, роль влюблённого демона принял на себя богатый всадник Мунд, стакнувшийся о том с жрецами за щедрую взятку. Тиберий приказал разрушить храм, распять жрецов, а кумир Изиды утопить в Тибре. Жестокое наказание явилось результатом не столько религиозных, сколько уголовных соображений: обманом внесено было прелюбодеяние под кров римского гражданина, чужеземцы и иноверцы бесстыдно распорядились честью обманутой римской матроны. Поэтому и пострадали не только виновные, но и покровительница их, богиня Изида. Но, если дело не осложнялось уголовщиною, римские дамы отнюдь не считали ни невероятным, ни невозможным, ни даже неприличным удостоиться связи с чтимым божеством. На самой ранней заре римской истории мы встречаем странную легенду о проститутке Акке Ларенции, которую проиграл в кости Геркулесу сторож его храма. Полубог, с удовольствием приняв проигрыш, щедро за него расплатился, послав Ларенции богатого содержателя. Капитал и земли, нажитые от этого последнего, Ларенция завещала новорождённой римской общине, за что и удостоилась быть причисленною к патронессам римского народа, стала богинею, и в честь её справлялись праздничные игры. На закате Рима, Сенека свидетельствует, что многие дамы ходили в храм Юпитера кокетничать с богом и воображали себя его любовницами, не опасаясь ревнивой Юноны.
Смотря по тому, кто считал демонов существами духовными, кто полутелесными, ставился и вопрос, нужна ли им пища, – очень важный для самого больного места всех языческих культов в борьбе с христианством: для теории жертвоприношений. Христианская апологетика, посвятившая вопросу этому много внимания, пошла в его развитии ближе к мнениям эллинов-неоплатоников, чем к иудаическому преданию. Ангелы иудейские не могли пить и есть. В апокрифическом Завете Авраама, архангел Михаил очень смущён, когда ему предложили угощение, и, чтобы не раскрыть своего incognito, умоляет Бога послать ему в помощь «всеядного духа», который, невидимый, и уничтожает за него пищу. Лже-Енох, как мы уже читали, отказывает демонам, в качестве «душ исполинов», в естественных способностях быть видимыми, чувствовать голод и жажду, принимать пищу. Это – наказание за то, что в земной жизни своей исполины «поели всё приобретение людей, так что люди не могли уже прокармливать их. Тогда исполины обратились против самих людей, чтобы пожирать их. И они стали согрешать по отношению к птицам и зверям, и тому, что движется, и рыбам, и стали пожирать друг с другом их мясо и пить из него кровь». Книга Еноха вышла из аскетической вегетарианской среды и отразила её взгляды. Порождения александрийской философии, Филон, книги Гермеса Тривеликого и неоплатоническая догма Плотина-Порфирия сходились в мнении, что Божеству не нужны ни жертвы, ни курения (Гермес считает их даже оскорбительными для возвышенной идеи Божества); но низшим служебным демонам, реющим между землёю и луною, с которыми из высших себя существ только и имеет непосредственное общение человек, необходимы цветы, аромат жертвенного дыма, тёплый пар мяса и т. п. Это их пища, а со стороны людей – верное средство привязать демонов к месту и формам, в коих они являются. Древнейшая христианская апологетика, в своей борьбе с языческими жертвоприношениями, всецело поддерживала этот тезис, столь удобный для порицания жертвенного принципа и ритуала. Демоны, скитающиеся на земле, жаждут жертв, запаха крови и трупов; вот зачем и научили они род человеческий кровавым жертвоприношениям пред идолами. В числе христианских сторонников подобных мнений находятся Ориген, Иустин, Афинагор, Арнобий, Пруденций, Фирмик Матерн, бл. Иероним, св. Григорий Назианзин, Тертуллиан, Лактанций. По словам первого из них, приносить жертвы идолам – великий грех уже потому, что чрез жертвы доставляется им пища, и они, таким образом, удерживаются гостить на земле. Лишённые пищи, предоставляемой для них запахом жертв, демоны не могли бы оставаться среди людей, а следовательно, и сеять вред. Поэтому, жертвоприносителей Ориген приравнивает к притонодержателям разбойников, убийц и государственных изменников. Долг же каждого истинно благочестивого человека – стараться, как бы заморить демонов голодом. Снять с вопроса о грехе идолослужения столь наивную материалистическую окраску позволил себе только св. Августин, писавший, когда языческие жертвоприношения были уже строго запрещены официально и, понемногу, начинали отходить в область преданий фактически. «Не в трупном смраде, как говорит Порфирий, и как полагают некоторые, находят они в самом деле удовольствие, а в божеских почестях. Смрада весьма достаточно для них всюду и, если бы они захотели его больше, могли бы найти сами. Следовательно, присваивающие себе божественное достоинство духи услаждаются не дымом от горения какого-нибудь тела, а душою молящегося, над которою, обольстивши и подчинивши её себе, они господствуют»…
Легенд о злых демонических мертвецах, питающихся человеческою кровью, об упырях, вампирах, вурдалаках, античное суеверие не имело – с тою, по крайней мере, яркостью, почти реальною определённостью, какие суеверие это приняло в средневековом славянском и германском мире. Злые покойники латинского мира, лемуры или ларвы, легко отступаются от своих жертв, довольствуясь невинною взяткою из чёрных бобов и нескольких капель жертвенного возлияния чистою водою. Но, взамен, античное суеверие признавало, что существует порода демонов-людоедов, алчущих крови и мяса, по преимуществу, детских. Это эмпузы и ламии, которыми до сих пор пугают детей в Пелопонесе. О византийском императоре Маврикии рассказывали, будто, в младенчестве, злая эмпуза трижды похищала его из колыбели, но, по Божьему изволению, не успела его загрызть, что и было принято за предзнаменование славной будущности ребёнка. Выше было говорено, что в империи римской демонический культ утвердился тем легче, что господствующему народу, самим римлянам, была очевидная возможность тесно сблизить его с старым итальянским культом манов, – в тех, главным образом, разрядах демонологической классификации, которые признавались полезными и благожелательными человеку. Наоборот, демонизм вредный и зложелательный мог найти себе в тех же старо-италийских верованиях аналогию в только что помянутых лемурах и ларвах: то, в противоположность святым ларам, были души людей порочных, которых, как у нас на Руси говорится, земля не принимает, погибших насильственною смертью, а, главное, оставшихся без погребения: самое великое несчастье, какое могло грозить человеку эллино-римской религии. Как известно, Августинов трактат «О Граде Божием» вызван реакцией в пользу язычества, развившейся по взятии Рима Аларихом, понятом многими, как наказание за отступничество государства от старых богов. Одну из первых же глав трактата бл. Августин должен был посвятить доказательству, при том нельзя сказать, чтобы сильному и убедительному, положения, что для человека совсем небольшая беда, если труп его останется непогребённым. Очевидно, что массы непогребённых тел, которыми готы завалили поля италийские, явились в языческой аргументации против христианства острым сучком, и полемисты старого культа больно кололи ими глаза своим торжествующим противникам. Логика их в этом случае должна была выразиться в таком построении. Христианство явилось причиною нападения на Рим готов. Готы завалили Италию мёртвыми телами, оставшимися без погребения. Непогребённое мёртвое тело создаёт злого демона, лемура, ларва. Таким образом, поход готов населил Италию полчищем вреднейших воздушных существ, лемуров и ларвов. Но готское вторжение – результат нечестия христиан и торжества их веры. Следовательно, христианство – первопричина того, что страна сделалась добычею всяких демонических ужасов как естественных, так и сверхъестественных. Посещения лемуров и ларвов приносили людям страшные видения, болезни, несчастья, сумасшествие. «Бешеный» по-латыни lavratus, lavratus plenus: одержимый ларвами. «Мания», сумасшествие, олицетворённое в женском демоне, почиталось их госпожою и в ошибочном народном толковании, позабывшем об естественном происхождении лемура из души непогребённого мертвеца, – матерью. Три дня в мае – 9, 11, 13 числа – были посвящены умилостивлению лемуров: от них откупались на целый год ключевою водою и чёрными бобами, звоном в медный гонг и девятикратною молитвою: «маны родительские, изыдите». Обряд Лемурий исполнял Нерон после убийства Агриппины, Каракалла после убийства Геты и т. д. В случае, если чья-либо насильственная смерть тяготила общественную совесть, падая на ответственность государства, гнев раздражённой души старались успокоить гражданским трауром. Так, например, было после знаменитого убийства девственной Виргинии отцом её. По национальной римской легенде, Лемурии были установлены Ромулом для умилостивления манов Рема, брата, им умерщвлённого, и назывались первоначально Ремурии, то есть поминки Рема, а последующее имя своё приняли чрез обычное смягчение в народном говоре твёрдого плавного р в л. Как уже замечено, вопреки своему мрачному, злобному характеру, лемуры римлян – всё-таки вегетарианцы и не ищут крови. Только обряды некромантии, гадания по видениям мёртвых, требовали примеси крови в воду, возливаемую манам. Это потому, что кровь рассматривалась, как жизненное, телесное начало человека, не восприяв которого, душа не может ни слышать, ни говорить. Подробное изложение древних взглядов на данный предмет предлагают «Одиссея» и «Энеида» в сценах сошествия в ад Улисса и Энея. Что касается жизненного гения, которого римская вера считала соприрождённым каждому человеку спутником его от рождения до могилы, после чего он и делался либо святым ларом, либо нечистым ларвом, этого гения предписывалось усердно чествовать молитвами и жертвами, но проливать на его алтаре кровь решительно воспрещалось: творить возлияния должно было чистым вином. И в этом случае, как во множестве других, нельзя не заметить, что, даже создавая демонологию, римлянин умел сохранить свои обычные здравомыслие и гуманность, совсем не свойственные этой тёмной и сумбурной области мысли человеческой. В позднейшее время с культом ларов связали гладиаторские бои, как тризну, угодную воинственным усопшим. Но то было не римское изобретение, а заимствование, нововведение суровой этрусской моды, которое, к тому же, истинно римскими философскими умами никогда не одобрялось.







