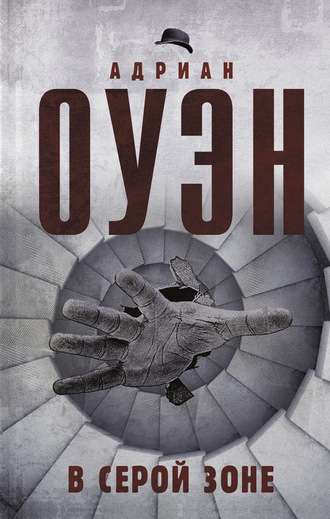
Адриан Оуэн
В серой зоне
Многие из самых сложных процессов в человеческом мозге подобны описанному выше. Мы – взрослые люди, а потому не можем вдруг заявить, будто не понимаем, что нам говорят. Не можем взять и решить не выяснять дорогу с работы домой, если нам предстоит совершать этот путь каждый день, равно как и убедить себя не любить определенную музыку или вид искусства. Мы можем решить умалчивать о чем-то, что нам нравится, или даже заявлять, что мы что-то ненавидим; однако это не меняет истинных эмоций, которые мы испытываем не по своему выбору.
Иными словами, мы и думаем, и чувствуем, несмотря на то что абсолютно не осознаем, как это в принципе происходит. Кроме того, «нормальные» нейронные реакции на события у людей в вегетативном состоянии не обязательно означают, что эти люди переживают сознательные ощущения, связанные с данными событиями. Верно и обратное – подобные реакции отнюдь не свидетельствуют о том, что человек пребывает не в сознании – люди в здравом уме реагируют порой точно так же. Дело в том, что мы просто-напросто не знаем, что именно происходит в мозге. Какой бы революционный и захватывающий ответ о состоянии Кейт на ПЭТ-сканере мы ни получили, о том, что именно с ней происходит, доподлинно нам было неизвестно.
Однако мы продолжали думать о Кейт и обсуждать ее состояние. Когда наша статья о необыкновенном клиническом случае Кейт вышла в «Lancet», одном из старейших в мире (он издается с 1823 года) и очень известном медицинском журнале, она вызвала шквал внимания со стороны СМИ.
Нас с Дэвидом Меноном пригласили на утреннюю передачу Би-би-си. В студии я взволнованно демонстрировал пластиковую модель человеческого мозга в натуральную величину и объяснял принцип работы веретенообразной извилины. А Дэвид добавил: «Представьте, что произойдет, если вследствие травмы головного мозга или из-за болезни пациент теряет способность даже моргнуть по собственной воле. Если пациент никак не реагирует на раздражители, мы не знаем почему: он или действительно ничего не чувствует и не слышит, или просто не в состоянии дать нам знать, что все чувствует и слышит. Кошмарная ситуация».
Просматривая старые записи той передачи, я каждый раз вспоминаю странную цепь совпадений и удачи, которая и привела нас тогда в студию. Если бы не болезнь Морин, я бы не заинтересовался вегетативным состоянием и даже не выяснил, что оно значит на самом деле. Однако я часто думал о том, что происходит в мозге Морин и подобных ей пациентов, а встреча с Кейт дала мне возможность начать исследования. А если бы мозг Кейт не отреагировал? Что, если бы она во время опыта просто заснула? Вполне вероятно, мы бы и не попытались продолжить исследование. Сказали бы: «Ну, с этим, пожалуй, хватит. Перейдем к следующей теме». Нам несказанно повезло. Именно после эксперимента с Кейт мы принялись искать других пациентов в вегетативном состоянии. Я часто думал: «Быть может, Морин тоже на самом деле что-то видит и понимает?»
Несколько месяцев спустя состояние Кейт значительно улучшилось, и ее перевели в специализированное реабилитационное учреждение в одном из городков неподалеку от Кембриджа. Мне постоянно сообщали об успехах нашей пациентки. Постепенно Кейт начала отвечать на вопросы, читать книги, смотреть телевизор. Ее навыки мышления и рассуждения вернулись в пределы нормы, хотя физически она оставалась недееспособной. Части ее мозга, отвечавшие за ходьбу и речь, были сильно повреждены.
Почему же Кейт выздоровела? В то время в медицинской среде считалось, что пациенты, пробывшие в вегетативном состоянии несколько месяцев подряд, никогда не выздоравливают. Неужели те, кто заботился о Кейт, узнав о результатах нашего сканирования, стали вести себя с ней иначе? Быть может, они уделяли Кейт больше внимания, работали с ней интенсивнее, проводили с ней больше времени? Не это ли способствовало ее выздоровлению? Психологические исследования показывают: социальная изоляция приводит к разрушительным последствиям для мозга. Представьте, что много месяцев подряд на вас не обращают ни малейшего внимания, будто вы вещь. Худший вид социальной изоляции! Разве от такого можно оправиться? Когда с Кейт стали общаться, читать ей, задавать вопросы, наверняка она почувствовала себя намного лучше. Какое именно влияние оказывают на мозг подобные действия, мы не знаем, и все же не сомневаемся: возможности организма в такой обстановке расширяются.
Позже Кейт записала свои воспоминания о том периоде, когда ее состояние называли «вегетативным». И от слов ее буквально волосы встают дыбом: «Все говорили, что я не чувствовала боли. Они все ошибались».
Когда откачивали жидкость из легких, Кейт задыхалась от ужаса: «Не могу передать, как мне было страшно. Особенно когда в рот вставили трубку». Девушку часто мучила жажда, но сообщить об этом она не могла. Иногда она кричала. Медсестры думали, это всего лишь рефлекс. Никто никогда не объяснял, что с ней делают.
Кейт пыталась покончить с собой, задерживая дыхание, – пациенты, осознающие реальность в серой зоне, часто так поступают. «Я не могла заставить нос не дышать. Мое тело отказывалось умирать», – написала Кейт.
«Первый контакт» с Кейт и ее последующее выздоровление вызвали больше вопросов, чем дали ответов. Когда наша пациентка начала осознавать происходящее? Какие отделы мозга необходимы при этом процессе? А какие являются вспомогательными?
Мы будто заглянули в царство теней и выманили оттуда одну из них. Похоже, Кейт именно так себя и ощущала. Вернувшись через несколько лет после первого сканирования в Кембридж, где жили ее родители, Кейт написала мне письмо:
Дорогой Адриан!
Пожалуйста, расскажите всем на примере моего выздоровления, как важно исследовать мозг на томографе. Я очень хочу, чтобы об этом узнало как можно больше людей. Теперь я большая поклонница всех сканеров. Я ни на что не реагировала и считалась безнадежной пациенткой, однако томограф показал, что это не так.
Вы вызволили меня из заточения, словно сказочную принцессу.
С любовью,
Кейт
На протяжении многих лет мы с Кейт поддерживали связь, в основном по электронной почте. Иногда она писала четыре или пять раз в неделю, а потом не отвечала по несколько месяцев. Между нами установилась особая близость, оказавшая глубокое влияние на меня и мои исследования. Кейт была для меня Пациентом № 1. На ее клинический случай я ссылался, когда читал лекции, рассказывал, с чего начались мои изыскания о серой зоне. Мы с Кейт изменили жизнь друг друга.
Перечитывая письма Кейт, я глубже понимаю, что, несмотря на чудесное «выздоровление», ее жизнь вовсе не стала легче. «Пережила трудный год. Мне ампутировали большие пальцы на ногах, в больнице очень плохо», – написала она как-то раз. Прочитав эти строки, я содрогнулся. Однажды пришло вот такое письмо: «Простите, что так много жаловалась в предыдущем письме. Выдалось очень грустное Рождество, и нечему было радоваться».
Изменчивое настроение Кейт отражалось в письмах. Однако среди приступов отчаяния родилась решимость. Кейт все преодолела. «Думаю, я выжила благодаря целеустремленности. Я всегда доводила дело до конца».
В июне 2016 года, спустя почти двадцать лет после нашей первой встречи, я навестил Кейт в Кембридже. Когда я сошел с поезда, доставившего меня прямиком из аэропорта Хитроу, лил дождь. Такое ощущение, будто в Кембридже всегда идет дождь. В тот раз капли с неба падали особенно холодные – проклятье английского лета! – и я вспомнил каникулы, которые проводил с родителями на пляжах южной Англии. Мой багаж отстал в Торонто, и у меня при себе был только старый фотоаппарат «Кэнон» и одежда, в которой я сел в самолет. Захватить плащ я не догадался.
Глядя из окна такси на узкие улочки, я в тревоге размышлял. Прошло семь лет с тех пор, как я видел Кейт. Спустя год после той встречи я переехал в Канаду. Тогда Кейт жила с родителями, Джилл и Биллом. Помню, как мы обменялись новостями за чаем. Кейт отвечала на мои вопросы, медленно и методично указывая на буквы на доске. Речь ее все еще не восстановилась, и я с трудом разбирал сказанное. Честно говоря, мне не очень-то хотелось опять переживать подобное: составлять слова по буквам, стараясь не потерять нить разговора. Подумал, что и Кейт, наверное, не жаждет меня видеть. Однако она согласилась встретиться, и я был ей благодарен, а потому решил сделать все, чтобы встреча прошла как можно лучше. «Надо сосредоточиться и попытаться понять, что она говорит», – думал я.
Когда такси подъехало к дому Кейт на тихой окраине Кембриджа, дождь прекратился, и у меня поднялось настроение. Сквозь тучи выглянуло солнце. Добрый знак? Дом Кейт, как и остальные вокруг, был одноэтажным. На инвалидной коляске по лестницам подниматься трудно. Весь район застроен муниципальным жильем. Собственником зданий является государство. Поскольку у Кейт нет дохода и она получает пособие по инвалидности, то за аренду жилья она не платит, а расходы на газ и электричество покрываются социальными выплатами.
Я позвонил в дверь, и мне открыла веселая помощница по уходу за инвалидами – Мария. Она тепло пожала мне руку и пригласила войти. Национальная служба здравоохранения обеспечивает Кейт круглосуточную медицинскую помощь.
Мария проводила меня в уютную гостиную. Там, в инвалидном кресле с электроприводом, сидела Кейт.
– Привет! Давно не виделись! – Я взял ее за руки. – Вот, привез тебе цветы!
Я показал на букет лилий, который купил по дороге.
– Большое спасибо, – тут же ответила Кейт. – Какие красивые цветы!
«Какие красивые цветы!» Я ошеломленно замер. Кейт со мной разговаривает! Не показывает на буквы на деревянной доске, не запинается на каждом слове. Кейт снова говорит!
– У тебя потрясающая речь! – выдохнул я.
– Да, я опять научилась говорить. – Кейт радостно улыбнулась, невероятно довольная собой. – Обожаю разговаривать.
– Можно я запишу нашу беседу?
Она помрачнела.
– А слушать свой голос – терпеть не могу.
Мы немного поспорили, и она согласилась.
– Что ты почувствовала, когда очнулась после стольких дней без сознания? – спросил я.
– Мне казалось, что я в тюрьме. Я понятия не имела, где нахожусь.
– Каково твое последнее воспоминание?
– Я была в детском саду, где работала воспитательницей, обедала. Когда я очнулась, то не почувствовала себя как утром, после сна. Я просто вдруг «включилась».
– А я думал, ты постепенно приходила в сознание.
– Сначала я приходила в себя на несколько минут, но с каждым днем на все более долгие периоды времени. Сознание возвращалось медленно. В самый первый раз, когда я оставалась в сознании весь день, со мной была врач по трудотерапии. Ее звали Джеки. В те дни она была единственной, кто назвал мне свое имя и объяснил, чем занимается. Очень немногие говорили мне как их зовут.
– Как ты думаешь, почему они не называли тебе своих имен?
– Они думали, что я – не я, что перед ними просто тело. Это было ужасно. Ведь я по-прежнему все чувствовала. Я была человеком! Внутри я вся кипела от гнева. И больше всего меня терзало вот что: я не знала, где я, почему и как я туда попала. Я думала, что разучилась ходить.
– Тебе никто не рассказал, где ты оказалась?
– Если и говорили, я не слышала. У меня в ушах все время гудело. Слов не было слышно.
Рассказ Кейт меня потряс. Я вспомнил тот день, когда мы положили ее в томограф, и все время до нашего «первого контакта». Теперь я понимаю – тогда мы совершенно случайно сделали очень важное открытие. Частичка Кейт оставалась жива, и заключена она была в мозге. По всей вероятности, именно это и показали те результаты томографии. В последующие недели и месяцы Кейт пережила столько мучений, что теперь мне думается: мы должны были сделать хоть что-то, чтобы поскорее ей помочь. Может, нам следовало настойчивее требовать, чтобы все относились к Кейт как к личности? Составить обязательные к выполнению правила для медицинских сестер и других помощниц, которые ухаживали за Кейт и пациентами с похожими историями болезни? Однако мы не знали того, что знаем сейчас, и «сигнал тревоги», таким образом, был бы преждевременным. Мы, без веских на то оснований, дали бы напрасную надежду родственникам пациентов, находившихся в таком же состоянии, что и Кейт. Ведь тогда в нашем распоряжении оказался лишь крошечный намек на то, что часть мозга Кейт все еще работает как раньше, до болезни. Мы не знали, что она чувствовала и осознавала, и высказывать предположения было бы несправедливо и ненаучно. Тем не менее двадцать лет спустя я продолжаю думать о том, что мы могли бы сделать больше и как-то облегчить страдания Кейт.
Кейт хотела поговорить о болезни, из-за которой она попала в серую зону.
– Я бы очень хотела знать, почему я заболела. Мне сказали, я никогда не узнаю этого. Иногда мне кажется, я сама во всем виновата. Что так меня наказал Господь.
– Ты считаешь себя религиозным человеком?
– Не совсем. Однако я верю в Бога. Верю сама по себе. В церковь не хожу. И никогда не ходила. Никогда не соблюдала религиозных обрядов. И все же обнаружила, что вера в Бога мне помогает. Жить вообще трудно. Мне нужно было найти смысл жизни. Мой мозг не сдавался. Я больше не могу плакать. Разучилась. И больше не плачу. Это ужасно. По-настоящему страшно. Хуже многого, что случается.
Я спросил Кейт, что она имела в виду, когда написала мне в одном из первых писем, что мы вызволили ее из заточения.
– Томограф отыскал меня глубоко в мозге. Я была без сознания. Мне почему-то кажется, что я хотела спать, а мой мозг решил усердно поработать и включил зрение.
Я решил, что Кейт, видимо, говорила о фотографиях, которые ей показывали в томографе, и хотел было уточнить, однако передумал, дабы не сбивать ее с мысли.
– Даже сейчас мне тяжело подолгу смотреть телевизор. Посижу перед экраном полчаса или час – и засыпаю. Жду не дождусь нового фильма о Бриджит Джонс. И я обожаю мой «киндл»[1]. Я много читаю. Не современные книги. Старые романы. Люблю Джейн Остин. Ее герои прекрасны. Современные книги напоминают мне о том, чего я лишилась. Мой мозг продолжает работать. Я выздоровела, потому что меня вытянул мой мозг. Я решила: все брошу, сдамся, а мой мозг не сдался. Я каждый день борюсь со своим мозгом. Он не делает того, что я хочу. Не делает того, о чем я прошу.
– Что ты имеешь в виду?
– Мой мозг заставляет тело делать то, что я делать не хочу. Например, когда ноги схватывает судорогой. Он меня не любит. Мой мозг меня не любит. Он не сдается. Сердится на меня. Раньше я была просто я, сама по себе, а теперь я чувствую, будто во мне два человека. Раньше, до болезни, я была совсем другая. Мне иногда кажется, что я умерла. А потом ожила.
Кейт довольно долго рассказывала о странном чувстве двойственности: будто после болезни она стала другой, не такой, как раньше. В каком-то смысле Кейт совершенно права: многое в ее жизни изменилось до неузнаваемости, но по большей части изменилось ее тело. Я же хотел услышать от Кейт, что ее разум, та часть, которая определяет ее личность, сохранилась. Надеялся убедиться, что она вернулась из серой зоны, отделавшись, фигурально выражаясь, синяками, и что сущность ее осталась неизменной. Однако Кейт видела все иначе; ей казалось, что ее мозг ополчился против нее самой. В Кейт что-то сломалось, какая-то ее часть потерялась в серой зоне.
Я поинтересовался, не хочет ли она рассказать мне что-нибудь еще, о чем я, может быть, забыл спросить.
– Самое главное, – ответила Кейт, – помни: я – человек, личность. Такая же, как ты, с такими же чувствами, как и у тебя.
Я вышел из дома Кейт и вернулся к ожидавшему меня такси. Когда мы выехали с тихой улочки и направились к центру Кембриджа, снова хлынул дождь. Я все думал о том, что узнал от Кейт. Серая зона – темное место, но Кейт показала всем, что и оттуда возвращаются. Человеческий мозг обладает удивительной силой и способен себя исцелить. Еще я понял: человек, то главное, что в нем скрыто, может пережить самое худшее. Несмотря на выпавшие на долю Кейт страдания, душа ее осталась несломленной.
3. Отдел
Король Артур. «Срубить дерево селедкой? Это невозможно».
«Монти Пайтон и Священный Грааль»
Вернувшись из Монреаля в Кембридж, я собрал своих друзей-ученых, и мы сколотили музыкальную группу «You Jump First». Мы выступали с концертами в пабах по всей округе, я пел и одновременно играл на бас-гитаре, что было ужасно глупо. Мало кому удавалось с успехом провернуть такой номер (разве что Стингу, Полу Маккартни и еще некоторым). Вскоре я переключился на акустическую гитару, и мы нашли наш звук – поп-рок с нотками Брюса Спрингстина. Мы участвовали в музыкальных конкурсах – и в нашем городке, и по соседству. Один из конкурсов проходил в Хартфорде, небольшом городе на юге Англии, неподалеку от Сент-Олбанса, где жил Фил, брат Морин. Он был специалистом по вычислительным системам, разрабатывал программное обеспечение для компании 3Com. Высокий и худой, Фил напомнил мне о Морин: зубы у них одинаковые. Я пригласил его на музыкальный конкурс, он пришел и здорово нас поддержал. Когда мы спустились со сцены, я спросил его, как дела у Морин.
Она по-прежнему жила неподалеку от Далкита, городка, в котором родилась, – это в Шотландии, рядом с Эдинбургом. Родители надеялись вскоре перевести ее в учреждение для инвалидов поближе к дому. «А в остальном – все так же», – сказал Фил. С тех пор как в мозге Морин лопнул сосуд, прошло уже два года, и я начал сомневаться, сможет ли она когда-нибудь выздороветь. Я рассказал Филу о Кейт, о результатах ее сканирования и о возможностях, которые открывались в свете этого исследования для таких пациентов, как Морин. Мы пообещали не терять друг друга из виду.
Статья о Кейт в журнале «Lancet» в 1998 году стала важной вехой для Кембриджа, а меня подвигла полностью изменить направление научных исследований. Я не представлял, куда заведет этот новый путь. У меня не было никаких источников дохода, кроме зарплаты, и не было своей лаборатории – только офис с компьютером. Я полностью зависел от расположения жертвователей и распределения научных грантов.
А потом судьба раздала карты, бесповоротно изменившие ход игры. Мне предложили работу в отделе прикладной психологии Совета медицинских исследований (MRC), то есть в правительственном агентстве, которое финансирует медицинские исследования в Великобритании. За время проведения исследований в рамках деятельности этого агентства уже тридцать ученых стали лауреатами Нобелевской премии. В Адденбрукской больнице у меня был контракт на три года, по истечении которых фонд моей заработной платы неминуемо бы иссяк. На работу в отдел (прикладной психологии) меня приглашали бессрочно, и перспектива постоянной работы, несомненно, выглядела более чем привлекательно.
Отдел создали в Кембридже в 1944 году, и на протяжении более полувека он имел сугубо британское влияние на исследования в области психологии. Повседневная работа по достижению научных прорывов в деле изучения памяти, внимания, эмоций и языка прерывалась там дважды в день чаепитием в общем зале и, если позволяла погода, партией в крокет на лужайке. К тому же в отделе служил пожилой джентльмен по имени Брайан, седой и сутулый. Он заваривал чай и кофе и торжественно подавал напитки на древней тележке, своей ровеснице, известной под названием «чайная тележка». В особых случаях, например в дни рождения, на тележке красовалось еще и печенье, но по большей части мы получали просто чай и кофе – один раз утром, и еще раз после ланча. Я не знал, чем занимался Брайан между сервировками утреннего и дневного чая, а спросить как-то и не подумал. Общая комната, где подавали чай, напоминала старинный зал с большим, давно и навечно погасшим камином, роскошной лепниной на потолке и одинокой подвеской для люстры – сама люстра, по-видимому, исчезла не менее полувека назад. Каждое Рождество в отделе устраивали ставшую легендарной пантомиму – по старинной британской традиции мужчины пользуются всяким предлогом, чтобы натянуть женское платье, накрасить губы и воплотить образ горячо любимой дамы полусвета. Подростком я провел годы становления личности в Грейвзендской школе для мальчиков и потому не нашел в традициях отдела ничего нового или удивительного.
Штаб-квартира нашей организации располагалась в огромной усадьбе на Чосер-роуд, тихой зеленой улице в южном районе Кембриджа. Когда-то, в самом начале пути, отдел был частью Кембриджского психологического факультета. Однако к 1953 году Норман Макворт, третий директор отдела, обнаружил, что организация явно переросла доступное в старых рамках жизненное пространство. Он отыскал на окраине города старинную усадьбу в эдвардианском стиле с большим садом и лужайками, идеально подходящими для игры в крокет, приобрел ее на личные средства и сообщил Совету медицинских исследований (MRC), что отныне это новое помещение отдела. Такое возможно только в Кембридже.
К середине шестидесятых годов в отделе работали респектабельные ученые, почти все – мужчины, конечно же. Они расхаживали по особняку в твидовых пиджаках и аскотских галстуках, курили трубки, били баклуши и иногда потягивали херес. Таков истинно британский способ заниматься научными исследованиями, а Кембридж в шестидесятые годы прошлого века был буквально пропитан британским духом. Неудивительно, что к концу того же десятилетия комик-группа «Монти Пайтон» состояла наполовину из выпускников Кембриджа.
Работа в отделе часто напоминала забавные скетчи из репертуара «Монти Пайтона». Однажды я разработал опыт для измерения персеверации (настойчивости) – это особое состояние внимания, при котором человек упорно повторяет одно и то же много раз подряд, даже когда его просят этого не делать. У моего пациента были повреждения лобных долей мозга. Я попросил его назвать столько слов, сколько он может придумать, начиная с букв «П», затем «Ш», и «С». Большинство людей без повреждения мозга произносят в таких случаях: «Поле, пять, первый, пусть, память, прыгать…», пока не исчерпают запас слов. Мой пациент сказал: «Пять, пятнадцать, пятьдесят, пятьсот». Я понял, что слушать цифры мне придется, видимо, долго. А пациент тем временем продолжал: «Пятьсот один, пятьсот два, пятьсот три…»
– Подождите! – сказал я. – Давайте попробуем другую букву. Например, «Ш».
Он тут же воскликнул:
– Конечно! Это очень просто! Шесть, шестнадцать, шестьдесят шесть.
К 1997 году между отделом и Департаментом экспериментальной психологии, где я ранее работал научным ассистентом, в 1988–1989 годах возникло сильное расхождение во взглядах, почти напряженность. Эти весьма знаменитые кембриджские учреждения сосредоточились на разных подходах к научным исследованиям. В отделе, например, мы изучали способы запоминания последовательностей цифр. Большинство из нас может запомнить на слух и правильно повторить пяти- или шестизначные последовательности цифр. Увеличить эту последовательность можно с помощью различных методов, например дроблением: скажем, число 362785 можно запомнить, разделив мысленно на 362 и 785.
Аналогичным образом легче запомнить более длинную последовательность, если она включает в себя повторение. Мы легко воспроизведем по памяти двенадцать цифр, если они принимают следующую форму: 497497497497 – достаточно запомнить, что последовательность 497 повторяется четыре раза. Наш мозг отлично умеет определять сегменты повторения или разбивать информацию на «пакеты памяти». Причем часто мы даже не осознаем, как именно мозг это делает. Мы знаем, что это происходит, но в основном все случается автоматически и даже без нашего ведома. Таков бессознательный процесс, о существовании которого мы догадываемся, лишь когда он завершается.
Проведя серию исследований в отделе, мой бывший студент Даниэль Бор показал, что перекодировка памяти, где информация переупаковывается и организуется, чтобы упростить ее извлечение, осуществляется областями мозга, связанными с фактором общего интеллекта, иначе известным как G-фактор, который мы измеряем тестами IQ. Если задуматься, это вполне имеет смысл. Ведь «ум» зависит не только от памяти. Ум – это еще и способность правильно распорядиться памятью, извлечь из нее пользу самыми разными способами. И связано это с тем, как мы храним воспоминания, как мы организуем и регистрируем их, а также со скоростью извлечения информации из памяти. Принцип организации воспоминаний влияет практически на каждый аспект когнитивной функции и дает некоторым из нас конкурентное преимущество во всех аспектах жизни, связанных с памятью. Разбивка на части цифр и слов – наиболее упрощенная форма данного процесса. Освоив его, вы сможете быстрее и лучше запоминать телефонные номера, номерные знаки автомобилей, адреса и многое другое. Как когда-то пела Элла Фитцджеральд: «Не важно то, что ты делаешь, важно, как ты это делаешь».
И отдел, и Департамент экспериментальной психологии занимались изучением организации воспоминаний, однако их подходы существенно разнились. В Департаменте, как правило, анализировали рабочую память и такие явления, как разбивка информации на части под другим углом – там исследователи размышляли, почему в связи с потерей дофамина в подкорковых узлах у пациентов с болезнью Паркинсона ухудшалась рабочая память, или пытались понять, каким образом такие препараты, как «Риталин», могут улучшить рабочую память у здоровых людей.
Эти два мира, которые можно назвать психологическим и нейронаучным, в 1997 году, когда я приступил к работе в отделе, сталкивались и переплетались. Когнитивная нейронаука, которая сочетает в себе аспекты психологии, неврологии, физиологии, информатики и философии, стала новым «горячим полем». Она обеспечила прочную платформу, с помощью которой специалисты, не имеющие медицинской подготовки (такие как я), смогли изучать пациентов в различном состоянии.
Меня наняли в отдел, чтобы возглавить работу, связанную со сканированием мозга. Отдел своего сканера не имел, томограф для исследований находился в Адденбрукской больнице, в Вулфсоновском центре визуализации мозга. Однако в отделе собралось множество ученых-когнитивистов новой волны, и они отчаянно пытались добраться до сканера и задать наболевшие вопросы о работе человеческого мозга. Тогда отдел заключил с Вулфсоном сделку: отдел будет платить Вулфсону за использование томографа, а я буду отвечать за расписание работы на томографе, за распределение времени, решать, кто получит доступ, а кто нет, и, в сущности, поддерживать систему в рабочем состоянии. Итак, в июле 1997 года я переехал в особняк на Чосер-роуд и немедленно получил доступ к финансам отдела, выделенным на исследования. Каждые пять лет на кону оказывались до 25 миллионов фунтов стерлингов: зарплаты, рабочие расходы, не говоря уже об отоплении, освещении усадьбы, Брайане и его тележке, а также маленькой армии садовников, которые ухаживали за лужайками для крокета.
Меня окружали люди, охваченные страстью к познанию, они стремились понять, как работает мозг, и, что более важно, использовать в своем стремлении все новейшие инструменты, до которых только могли дотянуться, лишь бы раздвинуть границы нейронауки. Сила, которую нам давали новые приборы для сканирования мозга, опьяняла. Мы надеялись вскоре поведать миру, из чего сделан каждый из нас, кто мы и что делает нас личностями! А в промежутках пили чай с печеньем и играли в крокет. Отдел, весьма эксцентричный, где властвовал идеальный британский юмор, стал для меня настоящим научным домом – у меня было все, чтобы разобраться, в каком направлении действовать после случая с Кейт.
А потом появилась Дебби.


