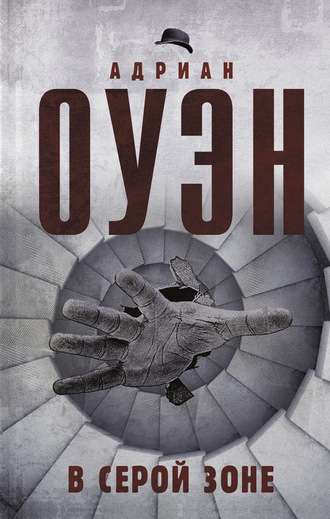
Адриан Оуэн
В серой зоне
В тот год резко выросло количество тестов, проводимых с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Частично это было вызвано развитием компьютерного оборудования, что позволило нам собирать большие массивы данных и цифровые фотографии головного мозга в действии. Человечество запустило в космос телескоп «Хаббл» и взялось за расшифровку генома – компьютеры фактически совершили революцию во всех сферах науки. И нейронаука не стала исключением.
Добровольцы, приглашенные для ПЭТ-исследований, ложились в аппарат сканирования. Перед проведением теста им вводили внутривенно небольшое количество радиоактивного вещества-индикатора. Затем мы просили каждого выполнить простое задание: к примеру, запомнить лицо неизвестного им человека, которое им показывали на несколько секунд. Принцип теста был восхитительно прост: области мозга, на чью долю приходилось больше всего работы, требовали больше кислорода. Таким образом, к тем отделам мозга, которые работали, решая задачу, увеличивался приток крови, несущей кислород. С помощью позитронно-эмиссионной томографии мы видели кровоток и составляли карту его движения по областям головного мозга.
Мечты нейропсихологов сбылись! Больше не надо было ждать, когда в кабинет войдет пациент с нужным травмированным отделом мозга и мы опытным путем установим, какие функции регулирует данный участок мозга. Можно положить в томограф совершенно здорового человека, попросить его ответить на несколько заранее сформулированных вопросов и посмотреть, какие участки мозга включаются в работу, приходя, таким образом, к соответствующим выводам.
Большая часть результатов в первые годы ПЭТ-исследований подтверждали то, что уже было известно ученым, – и это не могло не радовать. Например, мы несколько лет знали, что латеральная затылочно-височная извилина, расположенная на нижней поверхности мозга, занимается распознаванием лиц. Пациенты, у которых данный участок поврежден, с трудом узнают или совсем не узнают знакомых. Это состояние называется прозопагнозия, агнозия на лица, или просто «неспособность различать и/или запоминать лица». Тем не менее когда группе здоровых испытуемых показали знакомые им лица во время проведения ПЭТ и мы, исследователи, увидели ясное подтверждение уже известной нам информации на томографе, то были попросту ошеломлены.
* * *
Мы наивно полагали, что с помощью позитронно-эмиссионной томографии постепенно раскроем все тайны мозга – сканирование за сканированием, анализ за анализом. Однако вскоре обнаружили ограничения даже в новейшей технологии, обладавшей, как нам казалось, безграничными возможностями. В первую очередь выявилось наличие так называемой дозовой радиационной нагрузки. Каждому испытуемому мы могли сделать строго определенное количество томографий, а значит, и вопросов задать могли тоже только ограниченное количество.
Во-вторых, выяснилось, что изменения кровотока, которые мы регистрировали с помощью ПЭТ, столь незначительны, что увидеть их и записать в результате всего одного сканирования практически невозможно. Приходилось сканировать несколько раз, чтобы добиться ясной картины происходящего в головном мозге. Мы очень быстро достигали границы разрешенной радиационной нагрузки, иногда даже не успевая получить ответы на интересовавшие нас вопросы. И тогда мы решили усреднять данные от нескольких испытуемых. Импульсы мозговой деятельности, как правило, почти незаметны, и потому нам приходилось прибегать к усреднению данных в большинстве случаев.
Из этого возникла третья проблема: наши научные заключения были сделаны на основе данных, полученных не от одного индивида, а от группы. Мы редко могли сказать, какой участок мозга отвечает за определенные функции у конкретного пациента. Как правило, заключения мы предваряли фразой: «В среднем, по группе испытуемых…»
Четвертым ограничением ПЭТ стало время. Одно сканирование длилось от шестидесяти до девяноста секунд, по истечении которых наблюдатель получал суммированную информацию о том, что происходит в мозге за этот период, отдельные «события» оставались незамеченными. Представьте, мы даем испытуемым задание: взглянуть в течение полутораминутного сканирования на изображения лиц и запомнить их. Как понять, к чему относилась ли деятельность мозга в период сканирования – только к просмотру лиц, запоминанию, запоминанию только некоторых лиц?.. Список таких неизвестных можно продолжать бесконечно. И все же, несмотря на все ограничения, исследователи человеческого мозга чувствовали себя так, будто разом получили подарки на несколько рождественских праздников одновременно. С минуты, когда я вошел в лабораторию и принялся за составление тестов для ПЭТ-исследования активаций различных участков мозга, я ни разу об этом не пожалел.
Одно из моих первых удачных исследований показало, что определенный участок лобных долей особенно важен для хранения воспоминаний. Необходимо пояснить, что память в данной области мозга не хранится и не обрабатывается. Скорее в лобных долях решается, каким образом воспоминания должны быть организованы. Попробуйте вспомнить, как вы ставили машину на стоянку сегодня утром? Как вообще вы запоминаете, где именно припарковали машину, чтобы не бродить вечером в ее поисках по другой стоянке, где, возможно, оставляли автомобиль вчера, позавчера или на прошлой неделе? Запоминаете какое-то дерево неподалеку или здание? Но ведь те же самые ориентиры вы наверняка уже использовали раньше, как же вам удается не перепутать стоянки? Дело вот в чем: вы принимаете особое решение, запоминаете, где из всех возможных стоянок вы только что оставили автомобиль. Это место вы бессознательно отмечаете как важное для сегодняшнего дня. Описанный процесс – пример рабочей памяти, которая нужна нам только на ограниченный период времени, до того момента, как важная информация будет использована по назначению. В нашем случае – когда вы заберете вечером машину со стоянки. И на следующий день подобный процесс запоминания повторится снова.
Ваша рабочая память приходит на помощь, если нужно, например, вспомнить номер телефона, и действует она в тот краткий период, когда вы нажимаете на кнопки, вводите номер в телефонный аппарат. Или когда запоминаете лицо человека в переполненной комнате ровно настолько, чтобы не забыть, кому вернуть одолженную вам ручку. Или когда запоминаете место на стоянке, где оставили автомобиль. Никто не знает, что потом случается с этими преходящими воспоминаниями. Исчезают ли они как дым? Факты свидетельствуют о том, что рабочая память постоянно «перезаписывается» поверх стирающихся воспоминаний. Как выясняется, объем ее весьма ограничен, и едва этот участок переполняется, «устаревшие» воспоминания стираются, а на их месте сохраняются другие.
Исследования подобного рода мы стали проводить и в других областях. Мы начали сканировать пациентов, страдающих болезнью Паркинсона. Старались понять, почему у них возникают проблемы именно с рабочей памятью. Если показать пациентам с болезнью Паркинсона картинку, которую они никогда раньше не видели, то спустя некоторое время они ее узнают, чего нельзя сказать о страдающих болезнью Альцгеймера. Однако стоит продемонстрировать пациентам с болезнью Паркинсона несколько картинок и попросить их вспомнить одну или две спустя всего пару минут, как ситуация резко меняется. Почему так происходит? Очень похоже на пример с машиной на стоянке. У пациентов возникают проблемы не с запоминанием, а с организацией информации, которую необходимо «извлечь» из памяти в условиях жесткой конкуренции.
* * *
За три года, проведенные в Монреале, я поддерживал квартиру в Лондоне на плаву. С Морин мы едва общались, изредка обмениваясь короткими гневными письмами по электронной почте. В 1995 году мне позвонил мой научный руководитель Тревор Роббинс. В Адденбрукской больнице Кембриджа открывали новый центр томографии мозга – Вулфсоновский центр томографических исследований, и им требовался ученый с моим опытом. Мне предложили ставку научного сотрудника в отделении психиатрии, где я мог бы проводить первые в Кембридже исследования деятельности мозга, курировать работы студентов и основать собственную лабораторию. У них имелся ПЭТ-сканер, и Тревор убедил меня в том, что стоит лишь мне попасть в Кембридж, как постоянная работа в моей области найдется. В Монреале же постоянная работа меня не ждала.
Итак, в 1996 году я вернулся в Великобританию. С тех пор как я уехал, в Англии многое изменилось. Среди прочего изменилось и отношение к томографии. Мозг теперь сканировали все кому не лень, и британские ученые первенствовали в этой гонке. Не изменились лишь наши весьма натянутые отношения с Морин. Нам обоим не хотелось встречаться, и мы избегали друг друга изо всех сил. Мы расстались четыре года назад, однако всякий раз, вспоминая Морин или думая о нашей квартире, мне становилось грустно. Ведь мы были так влюблены, что однажды решили строить жизнь вместе! Когда же и как все вдруг закончилось? Что творилось у Морин в голове? Я ничего не понимал. Эта женщина оставалась для меня загадкой.
А потом, однажды июльским утром 1996 года, мне позвонил коллега: Морин нашли без сознания. Она лежала рядом с велосипедом на крутом склоне холма неподалеку от больницы Модсли. Сперва было решили – она врезалась в дерево, упала и потеряла сознание, но вскоре выяснилось, что дело обстояло гораздо хуже. Анализы показали, что в результате аневризмы сосуда головного мозга произошло субарахноидальное кровоизлияние. Сквозь истончившуюся стенку сосуда артерия выпустила кровь в голову Морин. Аневризмы случаются по множеству причин: играют роль и наследственность, и пол (женщины более подвержены этому недугу), и высокое кровяное давление, и курение.
Моя профессиональная жизнь и личная столкнулись вновь. Сошлись в невероятно тяжелой и мучительной точке. Я не раз работал с пациентами, пережившими субарахноидальное кровоизлияние. Многие жаловались на проблемы с памятью, отмечали невозможность сосредоточиться, составить план на день. Кровоизлияние и последовавшее необходимое хирургическое вмешательство навсегда меняли их жизнь, вмешивались в мыслительный процесс, влияли на память, непредсказуемо преобразовывали их индивидуальность. Морин, как и когда-то моя мать, вполне могла пополнить ряды пострадавших, чьи случаи я исследовал. К сожалению, мозг Морин повредился сильнее, чем у большинства моих пациентов. Ее быстро признали впавшей в вегетативное состояние, и мне сообщили, что она вряд ли выживет. Я не раз слышал выражение «вегетативное состояние», однако именно в тот день почувствовал, что оно означает.
Я буквально застыл. Что же случилось с Морин? Что это значит – быть в вегетативном состоянии? Умерла она или жива? Знает ли, кто она и где? Морин ушла от нас – и в то же время осталась рядом. Как такое может быть: она живет, дышит, спит, просыпается и при всем том совершенно отсутствует? Мои чувства к Морин ясности не добавляли. Каково это, когда некто столь близкий в прошлом, с кем ваши пути разошлись, вдруг впадает в вегетативное состояние? Как странно…
При правильном уходе пациенты в вегетативном состоянии могут жить долго. Спустя несколько месяцев после кровоизлияния родители перевезли Морин на самолете в Шотландию. За ней ухаживали, аппараты поддерживали ее жизнедеятельность. Медицинские сестры регулярно переворачивали Морин в постели, не давая образоваться пролежням. Ее протирали влажными губками, мыли голову и подстригали ногти. Меняли постельное белье и переодевали. С ней разговаривали, весело здоровались по утрам, заходя в палату: «Как мы себя сегодня чувствуем, Морин?» По выходным ее одевали в красивые платья и, усадив в инвалидное кресло, отвозили к родителям, где часто собирались гости.
Тогда я еще не догадывался, что, возможно, сознание некоторым образом жило в Морин и других пациентах, совершенно не реагирующих на внешние раздражители. Однако, по всей вероятности, тогда-то и зародилась у меня идея, на первый взгляд совершенно безумная. Во мне что-то щелкнуло. Я ощутил свое призвание – сделать нечто полезное, используя приобретенный опыт в работе с новейшими технологиями. Я мог раскрыть механику работы мозга, и Морин наверняка приветствовала бы такие исследования. Она всегда считала, что наука должна не просто существовать «только ради науки», а непременно по-настоящему помогать людям. Наверное, тогда-то я и увидел свой шанс исполнить это ее напутствие.
2. Первый контакт
Я больше не могу слушать молча. Я должна поговорить с вами теми способами, которые находятся в моем распоряжении.
Джейн Остин
Знакомьтесь – Кейт. Возраст: двадцать шесть лет. Профессия: воспитательница детского сада. Место жительства: Кембридж, Англия. Живет в маленьком домике с приятелем и кошкой. Вскоре наши пути пересекутся.
Я снял дешевую двухкомнатную квартиру в Кембридже к северу от центра города. Добираться до работы приходилось на велосипеде по вечно сырым и промозглым улицам. Мой кабинет без окон располагался в глубинах Адденбрукской больницы. Работал я научным сотрудником отделения психиатрии и не был отягощен преподавательскими или административными обязанностями. Занимался лишь научными исследованиями и проводил большую часть времени в новом Вулфсоновском томографическом центре, который являлся частью Адденбрукской больницы – пять минут по лабиринту коридоров.
Вулфсон, как мы коротко между собой называли томографический центр, был уникален: ПЭТ-сканер располагался по соседству с палатами нейрореанимационного отделения. Пациентов без промедления привозили к сканеру на каталках через дверь на вращающихся петлях. В Вулфсоне в те дни говорили: «Пациенты не должны сами идти к томографу, пусть томограф придет к пациентам!» Больные из нейрореанимационного отделения, как правило, были жертвами ужасающих автомобильных катастроф, обширных кровоизлияний, длительной кислородной недостаточности вследствие остановки сердца или так называемых состояний «незавершенного утопления». В результате близкого соседства томографа и реанимации мы получили уникальную возможность сканировать мозг прикованных к постели пациентов с серьезными черепно-мозговыми травмами.
В Вулфсоне все обстояло не так, как в монреальском «Невро», хотя и там и здесь имелись свои «за» и «против». В Кембридже я сосредоточился на исследованиях мозга людей, перенесших травму. Я не лечил пациентов, как мои коллеги, которые в основном являлись специалистами в клинической медицине. Они изо дня в день спасали людей, назначали им курс лечения и возвращали к нормальной жизни. Я же, со своей стороны, сканировал мозг пострадавших, пытаясь выяснить, как повреждения повлияли на поведение больных и почему. В Монреале мои эксперименты были посвящены фундаментальной науке. Там мы с коллегами пытались понять, как работает здоровый мозг, и вырабатывали новые методы для его исследования. В Вулфсоне мои исследования оказались связаны с реальными клиническими случаями. Однако странным образом именно благодаря опыту, полученному в «Невро», я очень хорошо подготовился и теперь применял теорию на практике в условиях отделения интенсивной терапии Вулфсона.
В «Невро» мне удалось прикоснуться к живому человеческому мозгу. Нейрохирурги в Монреале часто приглашали нас, научных сотрудников, в операционные, дабы показать, как они держат в руках человеческую жизнь: снимают кожу, пилят кости черепа и отодвигают мягкие мозговые оболочки, чтобы добраться до главного органа – подвижного, пульсирующего и живого. Мозг как он есть, беззащитный и уязвимый, – потрясающее зрелище!
Впервые я попал на нейрохирургическую операцию лишь потому, что случайно выбрал место в столовой рядом с одним из младших нейрохирургов.
– Хотите сказать, что никогда не видели, как оперируют человеческий мозг? – потрясенно спросил он.
Неужели можно целыми днями рассматривать результаты томографий и ни разу не увидеть настоящий, живой мозг?
– Приходите завтра, я вам все покажу.
Могу с уверенностью заявить: опыт, приобретенный в операционных Монреаля, дал мне больше, чем все годы, что я потратил на рассматривание снимков томографа. Самый важный урок, который я усвоил, можно выразить кратко: мозг – это и есть человек. В человеческом мозге содержится отпечаток всех планов и надежд, воспоминания обо всех, в кого мы влюблялись, и все разочарования, которые испытывали. В сухом остатке есть только мозг. Пульсирующая сущность человека. Без мозга наше «я» не существует, теряется.
Без сердца человек может жить с помощью машин. Пациент с искусственным сердцем – все тот же человек. Мы способны выжить даже без печени или почек, ожидая, пока после смерти донора нам достанутся его трансплантированные органы и мы вернемся к прежней жизни. Личность человека среди подобных испытаний сохраняется неизменной. Можно лишиться рук, ног, глаз и прочих органов, но все же остаться собой. А вот без мозга нас нет, мы живем только в памяти других. В операционных Монреаля я усвоил самый важный урок в области нейронауки: мы – это наш мозг.
В Кембридже меня никогда не приглашали в операционные, но это компенсировали другие события. В Монреале мы решали задачи «чистой», фундаментальной науки: «Вот наше оборудование, а вот это мы знаем. Давайте объединим наши знания и возможности компьютеров и зададим самый важный вопрос о том, как работает мозг». В соответствии с изложенным выше планом мы создавали шаблон, высказывали гипотезы и разрабатывали варианты сканирования, чтобы получить ответы на вопросы. В Кембридже царила неопределенность. Мы делали все, что требовалось. Сконструировать эксперименты заранее было невозможно. К нам поступали пациенты с повреждениями мозга, которые никогда не исследовались на томографах. Не имелось никакого известного пути, никакого руководства по эксплуатации или научной карты. Однако имелись возможности. И одна из них оказалась связана с Кейт.
Июньским днем 1997 года мой коллега и друг доктор Дэвид Менон, долговязый обаятельный нейроинтенсивист-индиец с безупречными манерами, рассказал мне о Кейт. Сильная простуда превратилась в гораздо более серьезное вирусное заболевание, известное как острый рассеянный энцефаломиелит. Восприимчивые к вирусу пациенты в таких случаях испытывают различные неврологические симптомы, среди которых можно назвать дезориентацию, сонливость. Иногда они даже впадают в кому. Кейт стала одной из таких пациентов.
В процессе заболевания происходит обширное воспаление головного мозга и спинномозговой ткани, разрушается так называемое белое вещество, куда менее известное, чем серое, но в равной степени важное. Серое вещество покрывает внешний слой коры головного мозга. Там-то и происходит все самое главное: записываются воспоминания и мысли, зарождаются планы и надежды. Серое вещество состоит из бесчисленных нейронов – особых клеток, которые передают нервные импульсы.
Белое вещество – это в сущности коммуникационная сеть между разрозненными участками серого вещества. Его в основном формируют аксоны – плотные участки высокоизолированных волокон, своего рода многослойных, суперсложных кабелей. Белое вещество – белого цвета, поскольку состоит из жира, или миелина, как его чаще называют ученые. Жир служит в качестве электроизоляции. Белое вещество обеспечивает связь между областями серого вещества. Сообщения между нейронами передаются гораздо быстрее, если аксоны изолированы. Без изоляции электрические сигналы буквально просачиваются из «проводов», и сообщение теряется.
У Кейт нарушения в работе белого вещества повлияли на состояние коммуникационной сети мозга. Девушка впала в кому, ее госпитализировали в отделение нейроинтенсивной терапии Адденбрукской больницы. Спустя несколько недель Кейт стало лучше. У нее появились циклы пробуждения и сна, ее глаза открывались и закрывались, и она оглядывала больничную палату. Однако других признаков осмысленной жизни врачи не видели. Кейт не реагировала на раздражители, не отвечала ни родственникам, ни докторам. Предполагалось, что в результате болезни девушка потеряла всякую связь с реальностью, не понимала, кто она и где находится. Врачи объявили, что пациентка впала в вегетативное состояние.
Почему мы с Дэвидом решили просканировать мозг Кейт, пока она была в вегетативном состоянии, – не знаю, хотя не могу отделаться от мысли, что мои воспоминания о Морин имели к этому непосредственное отношение. С тех пор как Морин поставили диагноз «вегетативное состояние», прошло меньше года, и я никак не мог смириться с утратой. Мне хотелось узнать, что же происходит в мозгу Морин и происходит ли там хоть что-нибудь? Что вообще случается с мозгом пациента в вегетативном состоянии? Я надеялся, Кейт поможет мне это выяснить.
Мы с Дэвидом обсудили план сканирования. Решили показать девушке фотографии ее друзей и родственников, пока ПЭТ-сканер будет делать снимки ее мозга. Благодаря множеству исследований, которые мы провели в Монреале, я знал, какие части мозга реагируют на знакомые лица. Мы связались с родителями Кейт – замечательные люди! – и попросили у них десять фотографий ее родных и друзей. Объяснили, что попробуем провести новый тип сканирования, чтобы выяснить, что происходит в мозгу Кейт.
Нам дали десять фотографий совершенно незнакомых мне людей. Я пропустил их через планшетный сканер, загрузил изображения на компьютер, вернулся в свою вечно сырую квартиру и за один вечер написал простую программу в Microsoft QuickBASIC, которая выводит на экран изображения одно за другим и показывает каждое из них пациенту в течение десяти секунд. Мне также нужны были «контрольные» изображения – фотографии, похожие на те, что я уже ввел в программу, только с «размытыми» лицами. Я взял каждое изображение, скопировал его и расфокусировал кадр с помощью одного из ранних редакторов изображений. Совершенно ненаучный эксперимент, вполне, впрочем, подходящий для моих целей (обычно нечеткие фотографии человеческих лиц не используются для контроля эксперимента наряду со снимками хорошего качества). У меня просто не было ни времени, ни оборудования, чтобы создать нечто более сложное.
Мы с Дэвидом сначала показывали Кейт оцифрованные изображения ее друзей и родных, потом расфокусированные версии тех же изображений, и смотрели, какие участки мозга и в какой последовательности начинают работать. Если бы участки в мозге Кейт, отвечающие за распознавание лиц, по-разному отреагировали на четкие и нечеткие фотографии, то мы узнали бы кое-что очень важное: Кейт или, по крайней мере, ее мозг все еще способен распознавать знакомые лица.
Прежде никто не пытался активировать мозг пациента в вегетативном состоянии. Узнает ли Кейт лица тех, кого совсем недавно знала и любила? Вот такой вопрос мы ей и задали – очень простой вопрос. Однако вскоре сообразили, что забыли уточнить, достигает ли визуальная информация, которая отпечатывается на сетчатке глаза, мозга пациентки. Что, если связь между зрительным нервом и корой мозга разорвана или информация, двигающаяся по этому пути, доходит не полностью? И тогда не стоит удивляться, что мозг не отвечает на изображения людей, которых Кейт знала и любила. Она же их не видит!
Мы бросились искать решение. Ведь Кейт может вскоре умереть или, что менее вероятно, выздороветь. В любом случае мы упустим возможность просканировать пациента в вегетативном состоянии. Я посмотрел на экран компьютера, который мы собирались использовать, чтобы показать Кейт фотографии ее друзей, и на моих глазах он переключился в режим экранной заставки. Шел тысяча девятьсот девяносто седьмой год. По экрану двигались разноцветные окна-квадратики. Красные, синие, зеленые и желтые – межгалактические плоды воображения инженеров «Майкрософт» летели на меня и проносились мимо. Мы покажем Кейт компьютерную заставку! Красочная, подвижная картинка на дисплее подходит идеально. По крайней мере, мы узнаем, попадает ли информация от глаз к мозгу.
Мы уложили Кейт в сканер и включили перед ней на экране заставку: разноцветные квадратики ударили по сетчатке девушки, активировали ее зрительный тракт и зрительную кору головного мозга. Потом мы дали Кейт отдохнуть. Выключили заставку, накрыли лицо девушки легкой тканью, чтобы спрятать ее глаза от света, и снова включили сканер. И так несколько раз. Заставка, ткань, заставка экрана, ткань. В конце концов мы получили ответ на наш вопрос. Визуальная кора Кейт оживала всякий раз, когда мы показывали ей экранную заставку, и возвращалась к относительному бездействию, когда ее лицо закрывали тканью. Визуальная информация доходила до мозга Кейт. Ее мозг, по крайней мере, «мог видеть».
Пришло время задать главный вопрос. На мониторе, прикрепленном над ложем сканера, мы высветили два набора изображений: четкие и расплывчатые лица. Кейт отвезли обратно в палату, а мы принялись анализировать данные. Мы не знали, чего ожидать, но полученные результаты нас ошеломили. Веретенообразная извилина в головном мозге Кейт чрезвычайно энергично отреагировала на изображения лиц. Более того, картина активности была поразительно похожа на то, что мы и другие исследователи наблюдали у здоровых и осознающих реальность пациентов.
Мы чувствовали себя астрономами, которые в поисках внеземной жизни посылают сигнал глубоко в космос. Только мы посылали сигнал глубоко во внутренний космос. И получили ответ! Первый контакт состоялся. Однако что это означало? Была ли Кейт в сознании, несмотря на отсутствие всяких внешних его проявлений? Этот вопрос будет мучить нас еще почти десять лет.
Простых ответов мы и не ждали. Сознание обычно делят на два вида: бодрствование и осознание реальности. Когда вас вводят в общий наркоз, вы погружаетесь в состояние, напоминающее сон. То есть вы больше не бодрствуете. В то же время вы перестаете осознавать, кто вы, где находитесь и что с вами происходит. Таким образом, вы теряете осознание реальности.
Компонент бодрствования относительно легко понять и измерить – если глаза открыты, значит, вы бодрствуете. С осознанием реальности дело обстоит гораздо труднее. Как его измерить? Пациенты в серой зоне, как, например, Кейт, прекрасно подходят для иллюстрации этого обстоятельства. Она бодрствовала, в чем у нас не имелось никаких сомнений, потому что ее глаза были открыты. Но осознавала ли она реальность?
Поскольку Кейт не реагировала на свет и звуки, а также на любые многочисленные попытки привлечь ее внимание, доктора решили, что она не осознает реальность. Ее самоощущение было «стерто». Примерно как у пациентов с болезнью Альцгеймера, которые постепенно перестают понимать, кто они и где находятся. Однако положение Кейт виделось нам еще хуже. Пациенты с болезнью Альцгеймера (по крайней мере, до наступления последних стадий заболевания, когда больные порой впадают в некую форму вегетативного состояния) все же сохраняют ощущение, что существуют, даже когда забывают, кто они. У них остается, пусть слабая и искаженная, связь с внешним миром. Мы предполагали, что у Кейт все связи с миром разорваны целиком и полностью. Она себя ничем не ощущала.
Эксперимент дал нам новую информацию. Хоть и несовершенный, опыт помог получить жизненно важные результаты. Когда Кейт показывали фотографии людей, которых она знала, ее мозг реагировал так, будто она бодрствует и осознает происходящее как совершенно здоровый человек. И какой вывод мы могли сделать, имея эти данные? Означает ли это, что активные функции мозга связаны с личностным опытом? Вспоминала ли Кейт тех людей, которых видела на фотографиях? Испытывала ли к ним какие-то чувства? Знала ли она, что лежит в ПЭТ-сканере и смотрит на фотографии родственников и друзей? Или ее мозг реагировал автоматически, на «автопилоте»?
Многие типы стимуляторов – среди них знакомые лица, речь и боль – включают автоматические реакции мозга, отголоски, указывающие на то, что сообщение было получено, хотя и необязательно осознанно прочувствовано. На шумной вечеринке мы, возможно, и не подозреваем о разговоре, который происходит у нас за спиной, пока не услышим знакомое имя. Оно-то и привлекает наше внимание. То, что мы вообще его улавливаем, означает, по-видимому, следующее: несмотря на отсутствие осознанного знания о том, что мы делаем, наш мозг следит за разговором на всякий случай, чтобы не пропустить нечто важное, например наше имя. Однако это не значит, что, поскольку мы воспринимаем наши имена, мозг будет помнить разговоры, в которых они были упомянуты. Память и восприятие – совершенно разные вещи. Восприятие разговора не означает, что вы его запомните. Зачем? Какой смысл? Мозг словно бы «обшаривает» окружающее, разыскивает значимую информацию. Он не пытается запомнить абсолютно все.
То же самое происходит с лицами. Когда мы идем по многолюдному проспекту, знакомые лица наших друзей буквально врываются в наше сознание и отвлекают от текущих мыслей. Получается, мозг рассматривает и принимает во внимание все лица, решая, на каких стоит сосредоточиться, а какие проигнорировать. И делаем мы это бессознательно. Это происходит само собой. Мозг машинально просматривает все лица в толпе и «сообщает» нам только о тех, кого мы хотели бы увидеть, о тех, кто нам знаком. Даже если мы попытаемся контролировать данный процесс, то потерпим неудачу; мы не можем просто взять и решить не узнавать знакомые лица, равно как и не можем решить не слышать свое имя на вечеринке.
Описанное выше явление зависит от того, где мы находимся и что делаем. На улице, переполненной незнакомцами, наше внимание привлекают лица друзей. Однако на празднике, в комнате, полной знакомых, мы немедленно реагируем на лицо неизвестного нам человека. Этот процесс срабатывает по-разному в различных ситуациях и зависит от разных ожиданий, что, вероятно, связано и с эволюционным преимуществом: очень важно из потока информации, постоянно поражающей сетчатки наших глаз, вычленить самое главное. В толпе на улице мы не ожидаем увидеть знакомых – это нарушение прогнозируемой ситуации, что и заставляет мозг перейти в режим готовности. И это весьма хорошо и полезно. Надо всюду искать преимущества. Встретить друзей среди незнакомцев – добрый знак. Вдруг встреча выльется в разговор, а то и свидание? Тогда вы можете влюбиться и найти спутника жизни!
И наоборот, на вечеринке, где полно знакомых, незнакомец интереснее всех. Мы предполагаем увидеть там друзей, а незнакомое лицо нарушает наши ожидания. О друзьях мы и так все знаем. А что же незнакомец? Встреча с ним обещает нечто новое, что может принести пользу, преимущество. В любой ситуации важно отмечать все необычное и неожиданное. Наш мозг очень эффективно выделяет несовпадения и странности, причем большую часть времени – бессознательно.


