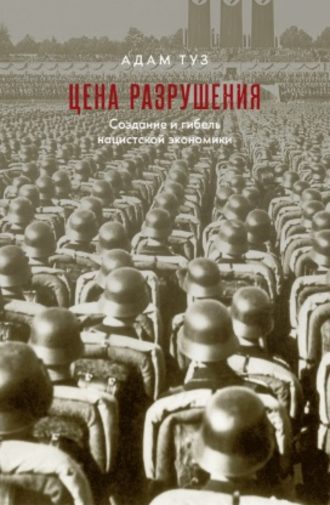
Адам Туз
Цена разрушения. Создание и гибель нацистской экономики
Соответственно, агрессивность гитлеровского режима прочитывается как явная реакция на трения, порожденные неравномерным развитием глобального капитализма, – трения, которые, разумеется, сохраняются по сей день. Но в то же время понимание экономических основ способствует более обостренному осознанию глубокой иррациональности гитлеровских замыслов. Как будет показано в книге, гитлеровский режим после 1933 г. осуществил действительно выдающуюся кампанию экономической мобилизации. Выполнявшаяся Третьим рейхом программа перевооружения представляла собой самое масштабное перемещение ресурсов, когда-либо предпринимавшееся капиталистическим государством в мирное время. Тем не менее Гитлер оказался не в состоянии изменить сложившийся экономический и военный баланс. Экономика Германии оказалась просто недостаточно мощной для того, чтобы создать вооруженные силы, требовавшиеся для победы над всеми ее европейскими соседями, включая и Великобританию, и Советский Союз, не говоря уже о США. Хотя Гитлер в 1936 и 1938 гг. добился блестящих кратковременных успехов, дипломаты Третьего рейха не сумели сколотить антисоветский альянс, предлагавшийся в Mein Kampf. Перед лицом войны с Великобританией и Францией Гитлер в последний момент был вынужден пойти на оппортунистическое соглашение со Сталиным. Ошеломляющая эффективность бронетанковых сил, этого deus ex machina первых лет войны, до лета 1940 г., несомненно, не являлась основой стратегии – она стала сюрпризом даже для германского руководства. И при всей несомненной эффектности побед германской армии 1940 и 1941 гг. они не носили решающего характера. Таким образом, мы приходим к поистине умопомрачительному выводу о том, что Гитлер в сентябре 1939 г. начал войну, не имея сколько-нибудь внятного представления о том, как одержать верх над своим главным противником – Британской империей.
Почему Гитлер решился на такую сверхрискованную ставку? Это, несомненно, ключевой вопрос. Даже если завоевание жизненного пространства можно обосновать как акт империализма, даже если Третий рейх добился поразительных успехов в деле мобилизации своих ресурсов ради достижения победы, даже если немецкие солдаты блестяще сражались, Гитлер воевал настолько рискованно, что это не позволяет обосновать его действия с точки зрения прагматичных, корыстных интересов[3]. И этот вопрос возвращает нас к основным течениям историографии и к тому вниманию, которое они уделяют идеологии. Именно идеология служила для Гитлера объективом, сквозь который он рассматривал международный баланс сил и развитие борьбы, начавшейся в Европе летом 1936 г. вместе с гражданской войной в Испании и приобретавшей все более глобальный размах. В глазах Гитлера угроза для Третьего рейха со стороны США не сводилась к традиционному соперничеству сверхдержав. Эта угроза носила экзистенциальный характер и была тесно связана с не оставлявшим его страхом перед всемирным еврейским заговором, проявления которого он видел в «еврействе Уолл-стрит» и в «еврейских СМИ» США. Именно эта фантастическая интерпретация реального баланса сил и служила причиной неожиданных, рискованных решений Гитлера. Германия просто не могла смириться с ролью богатого сателлита США, на которую, казалось, была в 1920-е гг. обречена Веймарская республика, поскольку это означало бы капитуляцию перед всемирным еврейским заговором и в конечном счете гибель германской расы. В условиях невозможности уберечься от еврейского влияния, выразившегося в нарастании международной напряженности в конце 1930-х гг., будущее процветание в рамках капиталистического партнерства с западными державами было просто невозможно. Война становилась неизбежностью. И вопрос заключался не в том, будет ли она, а в том, когда она разразится.
Книга получилась длинной, а так как ее следует читать от начала к концу, мне бы не хотелось ослаблять напряжение, раскрывая ее главные секреты уже на первых страницах. Достаточно сказать, что хотя основные контуры истории Третьего рейха были четко обозначены благодаря десятилетиям кропотливых исследований, я излагаю эти события с совершенно новой точки зрения. Моя цель – дать читателю более широкое и глубокое понимание того, как Гитлер укрепил свою власть и мобилизовал немецкое общество на войну. Я по-новому описываю динамику процессов, втянувших Германию в войну, и объясняю, почему они способствовали успешному ведению военных действий до 1941 г., а затем достигли неизбежного предела в русских снегах. Помимо этого, в книге поднимается тема, интерпретация которой до сих пор представляет несомненную проблему для любого историка Третьего рейха, но в первую очередь, возможно, для историка экономики: причины холокоста. Опираясь как на архивные материалы, так и на итоги блестящей работы, проделанной целым поколением историков, я выделяю связь между войной с евреями и общими империалистическими замыслами режима, принудительным трудом и специально организованным голодом. По сути, нацистское руководство обосновывало для себя геноцид не одной, а целым рядом различных экономических причин. Наконец, на основе этих ключевых глав, посвященных 1939–1942 гг., я объясняю те исключительные меры принуждения, организованные в первую очередь Альбертом Шпеером, которые позволили Германии выдержать еще три года ожесточенных сражений.
Тем, кто уже сейчас с нетерпением ждет более конкретных выводов, я советую переходить сразу к главе 20, в которой содержится краткое резюме по крайней мере некоторых ключевых моментов. С целью немного сократить и без того немалый объем книги, я не привожу в ней всей собранной библиографии. Полные названия всех цитируемых работ приводятся при их первом упоминании в каждой главе. Полную библиографию, а также прочие ресурсы по экономической истории Третьего рейха можно найти на веб-странице автора по адресу: http:// campuspress.yale.edu/adamtooze/wages-of-destruction-bibliography/. Под «тоннами» в книге понимаются метрические тонны.
1. Введение
При взгляде на XX век трудно избежать вывода о том, что история Германии проходила под знаком двух тем. С одной стороны тяга к экономическому и техническому прогрессу, благодаря чему Германия в течение большей части века наряду с США, а впоследствии— Японией, Китаем и Индией, – являлась одной из крупнейших экономик мира. С другой стороны мы видим стремление к войнам невообразимого прежде размаха[4].
Германия несет основную ответственность за развязывание первой из двух опустошительных мировых войн XX века. И только она ответственна за вторую из них. Более того, в ходе Второй мировой Гитлер и его режим нарушили основные законы войны, организовав полномасштабную кампанию геноцида, беспрецедентного в своей интенсивности, размахе и целенаправленности. После второй катастрофы 1945 г. державы-победительницы приняли меры к тому, чтобы у Германии не осталось выбора между миром или войной. Хотя спорт, техника, наука и культура постепенно были вновь дозволены в качестве сфер национального и личного самовыражения и хотя германская политика с конца 1960-х гг. становилась все более многогранной, после 1945 г. в национальной жизни – по крайней мере, в жизни Западной Германии – доминировало деполитизированное стремление к материальному благосостоянию[5]. Напротив, произошедшая в 1918 г. первая капитуляция Германии была намного менее полной, и выводы, сделанные из нее как немцами, так и их бывшими противниками, соответственно, оказались более двусмысленными. Одной из многих поразительных особенностей немецкой политики после Первой мировой войны было то, что до самого конца Веймарской республики перед германским электоратом стоял выбор между политикой мирного движения к национальному процветанию и воинствующим национализмом, более или менее открыто требовавшим новой войны с Францией, Великобританией и США. Поскольку большая часть настоящей книги посвящена разбору того, как Гитлер подчинял себе германскую экономику в порядке подготовки ко второму из этих вариантов, представляется важным начать с четкого обозначения альтернативы, в противостоянии с которой формировалось его мировоззрение, и с рассказа о том, как эта альтернатива была задвинута в тень катастрофическими событиями, предшествовавшими захвату Гитлером власти.
Разумеется, было бы ошибкой отрицать преемственность, связывавшую всех участников стратегических дискуссий, которые велись в 1920-е и 1930-е гг. в Германии, с империалистическим наследием вильгельмовской эпохи[6]. Враждебность к французам и полякам и империалистические замыслы в отношении соседей Германии и на западе, и на востоке не представляли собой чего-то нового. Однако, делая чрезмерный упор на преемственность, мы рискуем недооценить глубокое влияние, оказанное на германскую политику поражением в ноябре 1918 г. и последующим мучительным кризисом. Агония достигла высшей точки в 1923 г., когда французы оккупировали Рур, промышленное сердце германской экономики. На протяжении следующих месяцев, в течение которых Берлин спонсировал массовую кампанию пассивного неповиновения, страна скатилась в масштабную гиперинфляцию и дошла до такого политического расстройства, что осенью 1923 г. под вопросом оказалось выживание германского национального государства как такового[7]. Дискуссии по стратегическим вопросам в Германии навсегда изменили свой характер. С одной стороны, кризис 1918–1923 гг. породил ультранационализм – в лице радикального крыла НННП (Немецкой националистической народной партии) и гитлеровской Нацистской партии – более апокалипсический по своему накалу, чем что-либо существовавшее до 1914 г. С другой стороны, он дал начало подлинно новому течению в немецкой внешней и экономической политике. Эта альтернатива воинствующему национализму также имела своей целью пересмотр обременительных условий Версальского договора. Но при этом ставка делалась отнюдь не на военную силу. Вместо этого веймарская внешняя политика отдавала приоритет экономике как главной арене, на которой Германия еще могла оказывать влияние на мир. В первую очередь она стремилась обеспечить безопасность Германии и усилить ее роль путем установления финансовых связей с США и более тесной промышленной интеграции с Францией. В некоторых ключевых отношениях такой подход явно предвещал стратегию, осуществлявшуюся Западной Германией после 1945 г. Эту политику поддерживали все партии, входившие в Веймарскую коалицию, – социал-демократы, леволиберальная Немецкая демократическая партия (НДП) и католическая Партия центра. Но воплощение она нашла в лице Густава Штреземана, лидера национал-либералов (НЛП) и германского министра иностранных дел с 1923 по 1929 гг.[8]
После стабилизации 1924 г. весь немецкий электорат получил возможность дать свою оценку достижениям Веймарской республики и внешней политике Штреземана лишь через четыре года, на всеобщих выборах 20 мая 1928 г. Штреземан решил идти на эти выборы в Баварии. Разумеется, Мюнхен в то же время был одной из излюбленных вотчин НСДАП и вождя этой маргинальной партии. Гитлер надеялся привлечь к себе дополнительное внимание, скрестив мечи со Штреземаном. Таким образом, баварским избирателям предлагался драматический выбор между концепцией немецкого будущего по Штреземану, основывавшейся на четырех годах мирного «экономического ревизионизма», и решительным отрицанием основ веймарской внешней и экономической политики, за которым стоял Гитлер. И Гитлер, и Штреземан отнеслись к поединку серьезно. Хотя Штреземану было важно выставлять Гитлера не более чем психом, он признавал, что нашел время прочесть по меньшей мере одну опубликованную речь Гитлера с тем, чтобы иметь представление о тех аргументах, с которыми он может столкнуться[9]. В свою очередь, Гитлер использовал диспут с Штреземаном для того, чтобы уточнить свои внешнеполитические и экономические идеи, впервые сформулированные им в Mein Kampf— его манифесте, сочиненном в 1924 г. в Ландсбергской тюрьме[10].
В итоге на свет появилась рукопись, известная как «Вторая книга» Гитлера, завершенная летом 1928 г. и содержащая обширные фрагменты, заимствованные непосредственно из его предвыборных речей[11].
I
Густав Штреземан впервые высказал свое мнение о том, что «политика <…> сегодня в первую очередь [является] политикой мировой экономики», в качестве активного молодого депутата от Национал-либеральной партии в вильгельмовском рейхстаге[12]. И это была не просто риторика – об этом говорил ему личный опыт[13]. Штреземан родился в 1878 г. в Берлине, в семье мелкого независимого производителя пшеничного пива (и сиропов к нему) – одного из излюбленных напитков столицы. Он видел, как бизнес отца трещит по швам из-за конкуренции с крупными заводами. Будучи единственным из семи отпрысков пивовара, учившимся в университете, он закончил свое обучение диссертацией по исторической экономике и в 1901 г. начал работать уполномоченным по ведению дел для саксонских компаний. Штреземан защищал интересы экспортоориентированных предприятий легкой промышленности от непомерных требований тяжелой индустрии и сельского хозяйства, защищенного протекционистскими барьерами. Как изучение истории экономики, так и практический опыт в сфере торговой политики убеждали Штреземана в том, что главными мировыми силами в XX в. станут три крупные индустриальные державы: Великобритания, Германия и США. Великие экономические державы, конечно, соперничали друг с другом. Но в то же время они были функционально взаимосвязаны, не могли развиваться друг без друга. Германия нуждалась в сырье и продовольствии с заморских рынков, чтобы обеспечить свое население работой и хлебом. Британская империя имела лучшее положение в отношении сырья, но нуждалась в Германии как в экспортном рынке. Более того, Штреземан очень рано проникся убеждением в том, что становление США как доминирующей силы в мировой экономике навсегда изменило характер конкуренции между европейскими державами[14]. Европейский баланс сил в XX в. должен был в значительной мере определяться связью конкурирующих в Европе интересов с США. Разумеется, Штреземан не недооценивал другие факторы силовой политики – военную мощь и волю народа. В том, что касалось «дредноутной гонки», Штреземан последовательно выступал за усиление Императорского флота, питая надежду на то, что когда-нибудь Германия станет соперником британцев в деле защиты своей заморской торговли военно-морскими силами. После 1914 г. он проявил себя в рейхстаге в качестве одного из самых агрессивных сторонников неограниченной подводной войны. Но даже в своих наиболее аннексионистских выступлениях Штреземан в первую очередь мотивировался экономической логикой, завязанной на Соединенные Штаты[15]. Захват Германией Бельгии, французского побережья до Кале, Марокко и обширных территорий на востоке «требовался» для того, чтобы обеспечить Германии адекватную платформу для конкуренции с Америкой. Ни одна экономика, не имевшая гарантированного рынка не менее чем в 150 млн потребителей, не могла рассчитывать на успешную конкуренцию с системой удешевления производства за счет массовости, которую Штреземан лично наблюдал в индустриальном ядре США.
Нет сомнений в том, что неожиданная капитуляция Германии осенью 1918 г. глубоко потрясла Штреземана, едва не ввергнув его в физический и психологический коллапс. Она навсегда лишила его веры в вооруженные силы как в орудие силовой политики – по крайней мере в Германии. Более того, она посеяла в его уме более фундаментальные сомнения в отношении германской социальной и политической системы, оказавшейся менее устойчивой, чем соответствующие британская и французская. Однако это лишь укрепило его убеждение в том, что решающей силой является экономика. Мировая экономика была единственной сферой, в которой Германия оставалась поистине незаменимой. Штреземан уже в апреле 1919 г. заявлял, что с учетом военной слабости Германии основой ее внешней политики должна стать мощь ее крупных корпораций. «Сегодня мы нуждаемся в зарубежных кредитах. Рейх лишился кредитоспособности <…> но частные лица, индивидуальные крупные корпорации по-прежнему имеют доступ к кредиту. Они получают его благодаря неизмеримому уважению мира к достижениям немецкой промышленности и немецкого торговца»[16]. Что самое главное, экономика была той сферой, через которую Германия могла наладить связи с Соединенными Штатами – единственной державой, с чьей помощью Германия была способна противостоять французской агрессии и британскому безразличию. Такая идея трансатлантического партнерства явно стояла за действиями Штреземана во время его короткого, но важного срока пребывания на посту канцлера республики в 1923 г. и министра иностранных дел в 1924–1929 гг. Утихомирив разъяренных националистов и покончив с пагубной кампанией пассивного сопротивления французской оккупации Рура, но в то же время сигнализируя о готовности Германии к выплате репараций, Штреземан проложил путь к установлению особых отношений с США.
Разумеется, за это пришлось платить. Впоследствии Штреземан навсегда стал мишенью для исходивших из правых кругов обвинений в том, что он был «французским ставленником»[17]. Более того, эти обвинения подкреплялись решением Штреземана прибегнуть к тактике кооперации, а не конфронтации, для того чтобы ускорить вывод французских войск, патрулировавших Рейнскую область[18]. Само собой, эти обвинения не имели под собой ни малейших оснований. Штреземан во всех отношениях был законченным германским националистом. Он никогда не открещивался от аннексионистских позиций, занимавшихся им во время Первой мировой войны, потому что не видел оснований для того, чтобы сожалеть о них. Кроме того, он никогда не желал смириться с германо-польской границей, проведенной в 1921 г. в соответствии с плебисцитом и решением Лиги Наций, как с долгосрочным решением. Его стратегия, опиравшаяся на манипулирование взаимно пересекавшимися интересами США, Великобритании и Франции, была просто сложнее конфронтационного подхода, которому отдавали предпочтение ультранационалисты.
Первым достижением Штреземана стал комитет Дауэса, впервые собравшийся в 1924 г. в Париже с целью создать работоспособную систему, которая бы позволила Германии выплачивать репарации, не ставя под удар свою финансовую стабильность[19]. Во главе этого комитета стоял генерал Чарльз Г.Дауэс, чикагский банкир и промышленник, руководивший снабжением американских и союзных войск во время Первой мировой войны. Но реальным творцом этой схемы был Оуэн Янг, председатель General Electric, в качестве такового являвшийся одним из лидеров американской индустрии[20]. Более того, концерн General Electric был тесно связан с Allgemeine Elektrizitaets Gesellschaft (AEG), вторым по величине немецким электротехническим конгломератом. Дауэс и Янг более чем оправдали надежды, возлагавшиеся Штреземаном на США. Текущие репарационные требования в Германии были существенно снижены, и ежегодные выплаты должны были достичь максимального объема в 2,5 млрд довоенных золотых марок лишь в 1928–1929 гг. Свой вклад внес и банк J. Р. Morgan, организовав восторженное изъявление доверия со стороны Уолл-стрит, выразившееся в сильном превышении лимита подписки при выпуске первоначального займа на 100 млн долларов. Восстановление золотой рейхсмарки на условиях довоенного паритета с долларом покончило с нестабильностью германской валюты[21]. Помимо этого, интересы Германии защищал также так называемый агент по репарациям. Эту должность занимал Паркер Гилберт, молодая «звезда» Уолл-стрит, обладавший полномочиями для приостановки репарационных выплат, если они угрожали стабильности германской валюты. Таким образом, удовлетворение требований европейских «репарационных кредиторов» ставилось в зависимость от состояния германских финансов. Это не привело к немедленному наводнению Германии американским капиталом, как иногда утверждается[22]. Однако с учетом большой разницы между процентными ставками в США и Германии, где сбережения сгорели в огне гиперинфляции, условия для получения займов, несомненно, были благоприятными. С октября 1925 г. по конец 1928 г. приток зарубежного капитала был таким большим, что Германия могла производить репарационные выплаты, даже не имея торгового профицита. Это было удобно для британцев и французов, так как позволяло им требовать от немцев выплат, не открывая свои рынки для немецких товаров на сумму в миллиарды золотых марок. Одновременно Вашингтон мог требовать от Франции и Великобритании, чтобы те соблюдали свои долговые обязательства перед Америкой, накопленные ими в результате войны.
Эта карусель, сводившаяся к тому, что немцы брали взаймы у американцев, чтобы расплачиваться с британцами и французами, которые затем платили американцам, вызывала беспокойство у всех сторон[23]. Однако она выполняла свою задачу. Конгресс США требовал максимально возможной выплаты всех кредитов, предоставленных Америкой союзникам[24]. Новые американские кредиторы Германии получали солидную прибыль. А Веймарская республика существовала в условиях значительно более высокого уровня жизни, чем был бы возможен в том случае, если бы ей приходилось выплачивать репарации за счет экспортной выручки. Ялмар Шахт, президент Рейхсбанка, назначенный на эту должность Штреземаном в ноябре 1923 г., выражал глубокую озабоченность нарастанием международного долгового бремени Германии[25]. Но в то же время он разделял стратегические замыслы Штреземана. По мере того как росла задолженность Германии перед Америкой, усиливалась и заинтересованность Вашингтона в том, чтобы чрезмерные репарационные требования Великобритании и Франции не ставили под угрозу американские инвестиции. Говоря попросту и наиболее цинично, стратегия Германии заключалась в том, чтобы, используя защиту, обеспечиваемую агентом по репарациям, набрать у Америки столько займов, чтобы обслуживание этого долга делало невозможным выплату репараций[26]. Выражаясь более тонко, Штреземан и Шахт стремились превратить американские финансовые круги в главную силу, выступающую за пересмотр суммы германских репараций, что позволило бы Берлину нормализовать свои отношения с Лондоном и Парижем. И в конце 1920-х гг. эта стратегия как будто бы работала. В 1928 г. вовсе не немцы, а американцы, и в первую очередь председатель Федерального резерва США Бенджамин Стронг, выдвинули требование пересмотреть германские репарационные обязательства, пока еще размер годовых выплат не достиг максимума в соответствии с планом Дауэса[27].
ТАБЛИЦА 1.
Зарубежные займы: обязательства Германии по внешним долгам на весну 1931 года, млн рейхсмарок

Стронг пошел на это не из-за каких-либо нежных чувств к Германии, а в интересах сохранения колоссальных средств, вложенных Америкой в германскую экономику. Полномасштабный кризис с легкостью привел бы к дестабилизации ряда крупнейших американских банков.
II
Если в случае Штреземана проблемы интерпретации проистекают из того факта, что его политика обнаруживает поразительное сходство с теми мерами, на которых основывалась стабильность Германии после 1945 г., то сложности, связанные с осмыслением идей Гитлера, имеют ровно противоположную причину. Гитлер обитал в мире причудливых представлений, проникнутых духом осажденной крепости, который нам трудно понять или хотя бы воспринимать всерьез.
Заманчиво выводить радикальные различия между мировоззрениями Гитлера и Штреземана из резких различий между их биографиями. Долгий и мучительный поиск Гитлером своего места в мире слишком известен для того, чтобы имелась нужда его пересказывать[28]. Несомненно, он составляет яркий контраст с историей восхождения Штреземана по социальной лестнице. Поворотным пунктом для них обоих стала война. Но если хроническая болезнь Штреземана воспрепятствовала его участию в боевых действиях во время Первой мировой, то Гитлер увидел войну из окопов. В свете этого обстоятельства едва ли удивительно, что Штреземан ухитрился сохранить присущий ему буржуазный оптимизм даже во время кошмара 1918–1923 гг., в то время как Гитлер видел окружающее в намного более мрачном свете. Тем не менее и Штреземан, и Гитлер были порождены одной и той же политической культурой. Оба они были сторонниками широко распространенного представления о том, что Первая мировая война являлась итогом состязания между империями[29]. Говоря более конкретно, оба они считали, что войну развязала Великобритания в сознательной попытке нанести ущерб Германии – ее сопернику в торговле и строительстве военно-морского флота. Однако в случае Штреземана эта «популистская» модель глобальной военно-экономической конкуренции смягчалась свойственным ему пониманием взаимосвязанности мировой экономики и, в первую очередь, тем значением, которое он придавал США, видя в них противовес Великобритании и Франции. Напротив, мировоззрение Гитлера было намного более ожесточенным. Он считал либеральную идеологию прогресса, достижимого путем трудолюбия, упорства и свободной торговли, не более чем ложью, распространяемой еврейскими пропагандистами. По сути, любая попытка немецкого народа достичь избавления посредством трудолюбия и торговли в конце концов обрекла бы его на противостояние с Великобританией. Германии снова пришлось бы столкнуться с раскладом августа 1914 г. – неодолимым континентальным альянсом, организованным и финансируемым еврейскими банкирами из Сити. И всемирный еврейский заговор, властвующий уже не только в Вашингтоне и в Лондоне, но и в стране большевистской диктатуры, снова одержал бы победу над Германией.
В глазах Гитлера решающими факторами в истории человечества были не работа и трудолюбие, а борьба за ограниченные средства существования[30]. Великобритания могла жить за счет свободной торговли, но лишь благодаря тому, что она уже сколотила империю с помощью военной силы. Для поддержания достойного уровня жизни немецкому народу требовалось «жизненное пространство», Lebensraum, а приобрести его можно было лишь путем завоевания. Вильгельмовская Германия с огромным энтузиазмом строила колониальную империю, но в результате драгоценная немецкая кровь распылялась по всему миру. Гитлер вместо этого отдавал предпочтение захвату единого «жизненного пространства» на востоке. В этом отношении можно снова подметить сходство с идеями аннексионистов времен войны. После Брестского мира Штреземан тоже мечтал о германском Grossraum на востоке. Но, как мы видели, основная цель Штреземана состояла в создании достаточно крупного рынка, способного сравняться с американским. Напротив, Гитлеру была нужна земля, но не ее коренные обитатели. Цель завоевания состояла не в том, чтобы добавить к немцам не-немцев. Население завоеванных территорий следовало устранить. Буржуазным властям Германской империи не хватало смелости для столь радикальной расовой политики по отношению к крупному польскому меньшинству, населявшему восточные окраины страны. Но если Германия хотела победить, то у нее не было альтернативы безжалостной политике завоевания и геноцида. Сама судьба обрекла Германию на неизбежную войну. Если говорить о конкретных шагах, Гитлер, по-видимому, представлял себе ряд более-менее систематических действий, начиная с присоединения Австрии, за которым последовало бы подчинение крупных государств, образовавшихся после ее распада в Центральной Европе – в первую очередь Чехословакии, – а кульминацией этого процесса должна была стать расплата с французами[31]. Тем самым был бы расчищен путь для похода на восток. Разумеется, Гитлер не желал повторять расклад Первой мировой войны – и тут ключевую роль играла Великобритания. Гитлер был твердо убежден в том, что в отличие от экспортоориентированной стратегии, неизбежно приводившей к столкновению с глобальным влиянием Британской империи, его стратегия континентальной экспансии не представляла фундаментальной угрозы для Великобритании, чьи основные интересы лежали за пределами Европы. Его стратегическая концепция 1920-х и начала 1930-х гг. основывалась на том, что он рассчитывал обеспечить доминирующие позиции Германии в Европе, не вступая в конфликт с Великобританией. Более того, выворачивая логику Штреземана наоборот, Гитлер полагал, что Великобритания станет рассматривать Германию как союзника в неизбежной конкурентной борьбе с Соединенными Штатами.
В детстве, подобно миллионам германоязычных мальчиков, Гитлер с увлечением читал «немецкие вестерны» Карла Мая[32]. Сразу же после окончания Первой мировой войны его восторг перед США несколько поблек. Прежде всего это затронуло президента Вильсона, который после заключения Версальского договора стал в Германии объектом почти всеобщей ненависти. В 1923 г. Гитлер писал, что лишь приступом временного слабоумия по причине мук голода, вызванного англо-еврейской блокадой, можно объяснить, почему Германия отдалась на милость «такого мошенника, как Вильсон, который прибыл в Париж в сопровождении 117 еврейских банкиров и финансистов…»[33]. Соединенные Штаты практически не фигурируют в стратегических замыслах Гитлера, отразившихся в начерно написанном на следующий год Mein Kampf. Три года спустя, с учетом той роли, которую США играли в германских делах, такая узость кругозора была уже невозможна. Как не мог не заметить Гитлер, США – даже не являясь элементом европейского баланса вооруженных сил – были экономической державой, с которой следовало считаться. Более того, поразительные индустриальные успехи США изменили параметры повседневной жизни на «старом континенте». Как выразился сам Гитлер в одном из несомненных ключевых пассажей своей «Второй книги»,
Сегодня европеец мечтает об уровне жизни, который выводится им не только из возможностей Европы, но и из реального состояния дел в Америке. Благодаря современной технике и тем средствам связи, которые она делает возможными, международные отношения между людьми стали столь тесными, что европеец, даже не вполне осознавая это, делает критерием своей жизни условия жизни в Америке…[34]
При этом неудивительно, что в первую очередь внимание Гитлера привлекало доминирование Америки в автомобильной промышленности. Гитлер, само собой, увлекался автомобилями. Но во «Второй книге» его волнуют стратегические последствия американского лидерства в этой новой ключевой отрасли. В своих фантазиях о будущем американского богатства европейцы склонны забывать «о намного более благоприятном отношении площади американского континента к численности его населения…». Громадные конкурентные преимущества Америки в сфере промышленных технологий в первую очередь были функцией «размеров американского „внутреннего рынка“» и тем, что она «богата не только покупательной способностью, но и сырьем». Именно огромные «гарантированные <…> внутренние продажи» позволили американской автомобильной промышленности освоить такие «методы производства, которые в Европе вследствие отсутствия таких же объемов продаж были бы попросту невозможны»[35]. Иными словами, для фордизма требовалось «жизненное пространство».





