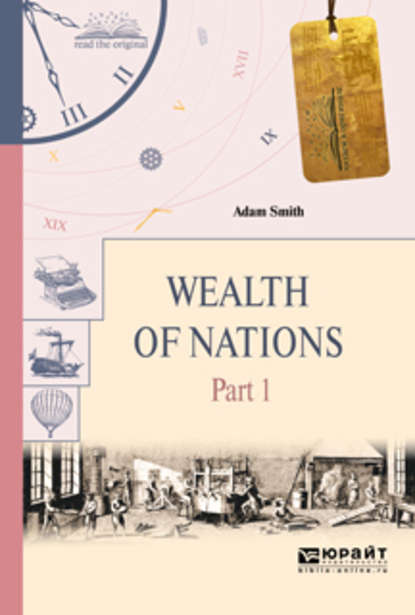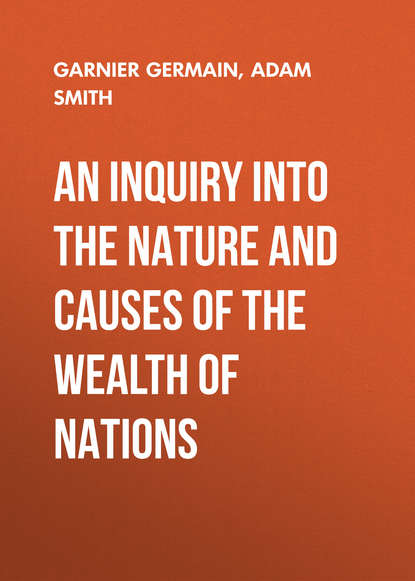Полная версия:
Адам Смит Теория нравственных чувств
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Адам Смит
Теория нравственных чувств
© ООО «Издательство АСТ», 2022
Предуведомление автора
Со времени первого издания «Теории нравственных чувств» в начале 1759 года я увидел необходимость множества исправлений и более подробного развития положений, высказанных в этом сочинении. Но до настоящей минуты я не мог пересмотреть его с той внимательностью и заботливостью, с какой я хотел сделать это, вследствие различных обстоятельств моей жизни. Главные изменения в этом новом издании сделаны мною в последней главе третьего отдела первой части и в четырех первых главах третьей части. Шестая часть, в том виде, в каком она представлена в этом издании, написана мною заново. В седьмой части я соединил почти все о стоической философии, что было разбросано в различных местах первого издания. Я старался также изложить с большей подробностью и подвергнуть более глубокому исследованию некоторые части учения этой знаменитой школы. В последнем отделе седьмой части я собрал многие замечания, относящиеся к обязанности быть правдивым. В остальных частях сочинения читатель найдет немного изменений.
В последнем параграфе первого издания я обещал публике изложение общих оснований законодательства, правительственного управления и исторический взгляд на изменения, сделанные в различные периоды общественного состояния в основаниях как относительно финансов и военных сил, так и относительно управления вообще, и всего, что составляет предмет собственно законодательства. Обещание мое я стараюсь исполнить в «Исследовании о природе и причинах богатства народов», по крайней мере, что касается управления, финансов и военного устройства. Что же касается теории юриспруденции, то до настоящей минуты я не мог исполнить моего обещания по тем же причинам, которые не дозволяли мне пересмотреть и «Теорию нравственных чувств». Хотя, в силу моего преклонного возраста, я имею только слабую надежду на исполнение такой важной работы в том виде, как я задумал ее, тем не менее, так как я не отказался от этого намерения и так как я желаю посвятить все свои силы его исполнению, то я оставил параграф в том виде, в котором я заявил об этом тридцать лет тому назад, когда я нисколько не сомневался, что исполню все обещания, сделанные мною публике.
Часть I. О Приличии, свойственном нашим поступкам
Отдел I. О чувстве приличия
Глава I. О симпатии
Какую бы степень эгоизма мы ни предположили в человеке, природе его, очевидно, свойственно участие к тому, что случается с другими, участие, вследствие которого счастье их необходимо для него, даже если бы оно состояло только в удовольствии быть его свидетелем. Оно-то и служит источником жалости или сострадания и различных ощущений, возбуждаемых в нас несчастьем посторонних, увидим ли мы его собственными глазами или же представим его себе. Нам слишком часто приходится страдать страданиями другого, чтобы такая истина требовала доказательств. Чувство это, подобно прочим страстям, присущим нашей природе, обнаруживается не только в людях, отличающихся особенным человеколюбием и добродетелью, хотя, без всякого сомнения, они и наиболее восприимчивы к нему.
Оно существует, до известной степени, в сердцах самых великих злодеев, людей, дерзким образом нарушивших общественные законы.
Так как никакое непосредственное наблюдение не в силах познакомить нас с тем, что чувствуют другие люди, то мы и не можем составить себе понятия об их ощущениях иначе, как представив себя в их положении. Вообразим, что такой же человек, как и мы, вздернут на дыбу, – чувства наши никогда не доставили бы нам понятия о том, что он страдает, если бы мы не знали ничего другого, кроме своего благого состояния. Чувства наши ни в коем случае не могут представить нам ничего, кроме того, что есть в нас самих, поэтому только посредством воображения мы сможем представить себе ощущения этого страдающего человека. Но и само воображение доставляет нам это понятие только потому, что при его содействии мы представляем себе, что бы мы испытывали на его месте. Оно предупреждает нас в таком случае об ощущениях, которые родились бы в нас, а не о тех, которые испытываются им. Оно переносит нас в его положение: мы чувствуем страдание от его мук, мы как бы ставим себя на его место, мы составляем с ним нечто единое.
Составляя себе понятие о его ощущениях, мы сами испытываем их, и, хотя ощущения эти менее сильны, все же они до некоторой степени сходны с теми, которые испытываются им. Когда его муки станут таким путем свойственны нам, мы сами начинаем ощущать страдания и содрогаемся при одной мысли о том, что он испытывает, ибо, подобно тому как в нас возбуждается тягостное ощущение действительным страданием или несчастьем, таким же точно образом и представление, созданное нашим воображением о каком-нибудь страдании или несчастье, вызывает в нас такое же ощущение, более или менее тягостное в зависимости от живости или слабости нашего воображения.
Очевидно, стало быть, что источник нашей чувствительности к страданиям посторонних людей лежит в нашей способности переноситься воображением на их место, в способности, которая доставляет нам возможность представлять себе то, что они чувствуют, и испытывать те же ощущения. Когда мы видим направленный против кого-нибудь удар, готовый поразить его руку или ногу, мы естественно отдергиваем собственную руку или ногу; а когда удар нанесен, то мы в некотором роде сами ощущаем его и получаем это ощущение одновременно с тем, кто действительно получил его. Когда простой народ смотрит на канатного плясуна, то поворачивает и наклоняет свое тело из стороны в сторону вместе с плясуном, как бы чувствуя, что он должен бы был поступать подобным образом, если бы был вместо него на канате. Впечатлительные люди слабого сложения при взгляде на раны, выставляемые напоказ некоторыми нищими на улице, жалуются, что испытывают болезненное ощущение в части своего тела, соответствующей пораженной части этих несчастных. Сочувствие обнаруживается у них такой отзывчивостью, и это сочувствие возбуждается в них вследствие того, что они мгновенно представляют себе, что они сами испытывали бы на месте этих страдальцев, если бы у них была поражена таким же точно образом та же часть тела. Силы этого впечатления на их нежные органы достаточно для вызова того тягостного ощущения, на которое они жалуются. Самые крепкие люди заметили, что они ощущают весьма чувствительную боль в глазах при взгляде на глаза, пораженные страданием, и это потому, что данный орган отличается более нежным устройством у самых крепких людей, чем самый сильный орган у людей, одаренных самой слабой организацией.
В душе нашей возбуждается сочувствие не одними только обстоятельствами, вызывающими страдание или тягостное ощущение. Какое бы впечатление ни испытывал человек в известном положении, внимательный свидетель при взгляде на него будет возбужден сходным с ним образом.
Герои романа или трагедии вызывают в нас одинаковое участие как успехами, так и неудачами; симпатия наша не менее действенна как к тем, так и к другим. Мы разделяем с ними их благодарность к друзьям, остающимся им верными среди опасностей и несчастий; мы проникаемся негодованием к злодеям, оскорбляющим или обманывающим их. Итак, какие бы ощущения ни испытывал человек, такие же ощущения присутствующего непременно предполагают воображаемое представление о том, что он переносит себя на его место.
Под словами «жалость» и «сострадание» мы разумеем ощущение, возбуждаемое в нас страданием другого человека: хотя слова «сочувствие» или «симпатия» тоже ограничивались первоначально тем же значением, тем не менее можно без неудобства употреблять их для обозначения способности разделять какие бы то ни было чувствования других людей.
Симпатия пробуждается иногда непосредственно при одном только взгляде на ощущения других людей. Нередко страсти передаются мгновенно от одного человека к другому, без всякого предварительного осознания того, что изначально вызвало их. Например, достаточно бывает выразительного проявления во взгляде и во внешнем виде человека печали или радости, чтобы возбудить в нас тягостное или приятное ощущение. Смеющееся лицо вызывает в нас веселое душевное состояние; напротив, угрюмое и грустное лицо рождает в нас печальное и задумчивое настроение.
Впрочем, подобное действие не является безусловно всеобщим и не вызывается любыми страстями: среди последних есть такие, внешние выражения которых не только не вызывают у нас никакой симпатии (если мы не знаем возбудившей их причины), но даже возбуждают в нас отвращение и противодействие. Яростный вид разгневанного человека вызывает в нас предубеждение скорее против него, чем против его противника. Так как нам неизвестно, что вызвало его гнев, то мы не можем ни представить себя на его месте, ни возбудить в себе чувство, сходное с тем, что он испытывает. Но мы ясно видим положение человека, против которого направлено его чувство, и насилие, которому тот подвергается со стороны разгневанного человека. Вот почему мы сочувствуем его страху или его негодованию и готовы принять его сторону против того, кто, по-видимому, поставил его в опасное положение.
Если достаточно даже внешних проявлений печали или радости, чтобы мы сами испытали до некоторой степени то или другое, то это объясняется тем, что они возбуждают в нас общее представление о добре или зле, испытываемом человеком, находящимся перед нашими глазами; одного этого уже хватает, чтобы мы разделяли их в большей или меньшей степени. Выражения печали и радости относятся только к испытывающему эти чувства человеку, они не возбуждают в нас, к примеру, возмущения кем-нибудь другим, чьи интересы находились бы в противоречии с интересами этого человека. Стало быть, общего представления о каком бы то ни было добре или зле уже достаточно для возбуждения в нас известной симпатии к человеку, который испытывает их, между тем как общее представление об обиде не возбуждает в нас никакой симпатии к гневу обиженного. Природа как будто научает нас бежать от этой опасной страсти и возбуждает нас против нее, пока мы не узнаем причины, которая ее вызвала.
Само наше сочувствие к чужому горю или к чужой радости весьма слабо, пока нам неизвестно, чем они вызваны: неопределенные жалобы, выражающие одну только грусть страдающего человека, скорее возбуждают наше любопытство к его положению и смутное расположение к нему, чем действительную симпатию. Первый вопрос, с которым мы обращаемся к нему, бывает обыкновенно: «Что с вами?» И хотя до получения ответа мы и испытываем некоторое тягостное ощущение вследствие неопределенного представления о его несчастье, а еще более вследствие беспокойного желания угадать его причину, но собственно наша симпатия почти незаметна.
Итак, симпатия рождается в нас гораздо менее созерцанием страстей, нежели созерцанием ситуации, их возбуждающей. Нередко даже, переносясь мыслью в положение других, мы испытываем чувства, к которым сами они неспособны: в таком случае эти чувства вызываются скорее нашим воображением, чем какой-нибудь симпатией, основанной на действительности.
Бесстыдство, например, или грубость человека заставляют нас краснеть за него, хотя бы сам он и не был в состоянии чувствовать неприличность своих поступков, потому что мы не в силах удержаться от представления, как стыдно было бы нам, если бы мы поступили подобным же образом.
Потеря рассудка представляется нам самым ужасным из всех бедствий, каким подвергается род человеческий.
Даже бесчувственные люди не могут не испытывать самого глубокого сочувствия при взгляде на это величайшее из человеческих несчастий, но пораженный им человек смеется и поет, он остается бесчувственным к собственной участи. Страдания, испытываемые человеком при взгляде на такого несчастного, стало быть, вовсе не возбуждаются мыслью, что безумный может иметь какое-нибудь сознание о своем положении: сострадание вызывается в таком случае одним только представлением, что почувствовал бы наблюдатель, если бы, очутившись в таком несчастном положении, он в то же самое время мог взглянуть на него тем здравым рассудком, каким обладает в настоящую минуту.
Посмотрите на беспокойство матери, встревоженной криками своего ребенка, который внешними проявлениями страдания не умеет еще выразить того, что он чувствует! К мысли, что ребенок ее страдает, что он находится в беспомощном состоянии, она присоединяет собственное сознание о последнем и собственный страх за неизвестный исход болезни. Из всего этого, в силу собственного беспокойства, она создает самое преувеличенное представление о его беспомощности и страдании. А между тем ребенок ощущает только тягостное состояние настоящей минуты, которое ни в коем случае не может быть особенно велико, а в отсутствие предвидения он находит несомненное средство против страха и опасений, которые чаще всего мучают душу человека, так что против них, быть может, окажутся бессильны доводы здравого рассудка и вся его философия, когда он сделается взрослым человеком.
Мы проникаемся сочувствием даже к мертвым и при этом не обращаем внимания на действительно важную сторону их положения: на страшную вечность, ожидающую их.
Напротив, нас занимают исключительно какие-нибудь особенные обстоятельства, поражающие наши чувства, но не имеющие никакого отношения к мертвым. Мы сожалеем, что они лишены солнечного света, что они не видят людей и не могут уже общаться с ними, что они заключены в холодную могилу и предоставлены в добычу червям и разложению; что они будут забыты людьми и мало-помалу изгладятся из воспоминания даже родных, самых близких и дорогих друзей. Мы сожалеем, что недостаточно интересуемся давно уже умершими людьми, мы считаем себя даже обязанными тем большим сочувствием к ним, чем скорее они могут быть забыты.
Пустыми почестями, воздаваемыми памяти их, мы стремимся пробуждать и, так сказать, поддерживать в самих себе печальное воспоминание об их погибели.
Бессилие нашего сочувствия для их облегчения, кажется нам, должно еще более увеличивать их несчастье, а сознание того, что мы ничего не можем сделать для них, бесполезность всего, что обыкновенно облегчает страдания – утешений, любви, дружеских слез, – еще более возбуждает наше чувство о воображаемом их несчастье. А между тем представления эти, разумеется, не имеют никакого отношения к умершим людям и не в силах нарушить глубокого могильного сна их. Грустные и мрачные мысли о судьбе их, создаваемые нашим воображением, объясняются тем, что к постигшей их участи мы присоединяем их сознание о случившейся с ними перемене. На самом деле мы переносимся мыслью в их положение; одушевив, если можно так выразиться, их бездушное тело собственным нашим духом, мы представляем себе ощущения, какие мы испытали бы в таком положении. Все ужасное, вытекающее из нашего предвидения собственного разрушения, создается таким же точно образом химерами нашего воображения: мы томимся всю нашу жизнь несчастьем, которое обратится в ничто, когда нас не станет. Отсюда рождается одна из самых сильных страстей человеческих – страх смерти, отравляющий наше счастье, но зато и полагающий предел людской несправедливости; страх – если и мучающий каждого отдельного человека, то охраняющий и оберегающий общество.
Глава II. Об удовольствии взаимной симпатии
В чем бы ни состояла причина симпатии и каким бы образом ни вызывалась она, ничто не доставляет нам такого удовольствия, как сочувствие к нам, если мы его встречаем в других людях, и ничто так не оскорбляет нас, когда мы не встречаем его. Люди, принимающие себялюбие и утонченные его видоизменения за единственный источник всех наших чувствований, стараются объяснить себялюбием как это удовольствие, так и это оскорбление. Они говорят: так как человек чувствует собственную слабость и необходимость в посторонней помощи, то он и радуется или негодует, когда другие разделяют или не разделяют его чувство, потому что он надеется тогда на их поддержку или страшится встретить с их стороны противодействие.
Однако же в обоих случаях ощущения удовольствия или неудовольствия возникают в нем до того быстро и вызываются таким ничтожным поводом, что, по-видимому, ни те ни другие не возбуждаются личными выгодами.
Человек испытывает неприятное чувство, если, желая позабавить других, замечает, что он один смеется своей шутке. Напротив, если он возбуждает всеобщую веселость, то принимает это согласие между ощущениями прочих людей и своими собственными за весьма лестное для себя одобрение.
Тем не менее удовольствие или нерасположение других людей, усиливающее или ослабляющее его собственное удовольствие, представляет не единственную причину того очарования, которое доставляет симпатия к нему посторонних людей, или того тягостного чувства, которое возбуждается ее отсутствием. Нередко, прочитав какое-нибудь стихотворение, мы не находим никакого удовлетворения, а между тем мы испытываем большое удовольствие, когда читаем это стихотворение другому.
Если последнего оно интересует только как новость, то мы разделяем возбуждаемое стихами любопытство, хотя сами собой мы и неспособны уже на это чувство. Мы смотрим на произведение преимущественно с тех сторон, с которых оно представляется слушателю, а не с тех, с которых сами смотрели на него, и мы радуемся возбужденным им интересом и этим возбуждаем самих себя. Напротив, если стихотворение не удовлетворяет слушателя, то мы недовольны этим и теряем охоту продолжать чтение. То же самое следует сказать о том случае, когда веселое настроение окружающего нас общества усиливает нашу собственную веселость или когда молчание его давит и на нас. Хотя в таком случае приятное или тягостное чувство вызывается в нас, по-видимому, согласием наших ощущений с ощущениями прочих людей, тем не менее одного этого согласия недостаточно для объяснения того, что мы чувствуем. Сочувствие друга в минуту счастья увеличивает мою радость, но его сочувствие в минуту горя не доставило бы мне никакого утешения, если сочувствие это только усиливало бы мое тягостное чувство. А между тем симпатия увеличивает радость и облегчает горе. Она увеличивает радость, открывая для нее новый источник, она облегчает горе возбуждением в нашем сердце единственного приятного ощущения, к которому она тогда способна.
Вследствие этого можно заметить, что мы всегда охотнее поверяем своим друзьям тягостные чувства, чем наши радости, что сочувствие их к первым доставляет нам больше счастья, чем сочувствие ко вторым, и нам гораздо обиднее, если они не разделяют наши страдания, чем если они не разделяют наши радости. Сколько несчастных получают облегчение, если могут найти кого-нибудь, кому они могли бы поверить свои страдания.
Часть их несчастий как будто исчезает в таком случае, и это отмечено выражением «делить горести». Мы не только испытываем тягостное ощущение страдающего человека, сходное с его чувством, но и облегчаем его, как будто берем на себя часть его. Однако же, облегчая его страдание, мы в некотором роде и возобновляем его.
Мы пробуждаем в нем воспоминание об обстоятельствах, причинивших несчастье; мы вызываем в нем более обильные слезы и самые жестокие выражения страдания.
Но это в то же время служит для него утешением и облегчением. Приятное чувство, доставляемое ему тем, что его страдания разделяют, с избытком вознаграждает его за то, что для достижения сочувствия ему пришлось возобновлять и переносить снова свои мучения. Самая жестокая обида, какую только можно нанести человеку, испытывающему горе, – это отказать ему в сочувствии его страданиям. Мы бываем только невежливы, когда не разделяем радости другого человека, но поступаем негуманно, когда бесстрастно выслушиваем рассказ о его страданиях.
Любовь приятна, ненависть же принадлежит к неприятным страстям, а между тем мы охотнее желаем, чтобы наши друзья разделяли нашу ненависть, чем наше расположение к другим людям. Мы легко прощаем их, если они остаются бесчувственны к оказанному нам благодеянию, но мы не переносим их равнодушия к нанесенным нам обидам. Мы меньше оскорбляемся, когда они не разделяют нашей благодарности, чем когда они не сочувствуют нашему негодованию. Мы не сердимся на них, когда они не любят наших друзей, и не очень жалуемся, когда они находятся в дурных отношениях с ними, но нас возмущает, если они находятся в добром согласии с нашими врагами, если они не разделяют нашей ненависти. Любовь и радость удовлетворяют нас и наполняют наше сердце, не требуя посторонней поддержки, между тем как горестные и раздражающие сердце ощущения ненависти и несчастья нуждаются и ищут утешений в нежном сочувствии.
Как человек, лично заинтересованный в каком-нибудь событии, ощущает удовольствие при нашем сочувствии к нему или неудовольствие в случае его отсутствия, так и мы сами бываем довольны, когда можем ему сочувствовать, или недовольны, в случае если не можем разделить его чувств. Мы спешим с выражением симпатии к тому, кто испытывает удачу, и с утешениями к тому, кого посещает несчастье; а удовольствие, доставляемое нам возможностью разделить горе несчастного человека, вознаграждает нас за тягостное ощущение при виде его страданий. Напротив, нам бывает неприятно, когда мы не можем сочувствовать его горю, а возможность не отзываться на человеческие страдания не только не представляется нам привлекательной, но возбуждает в нас недовольство самим собой. Если мы слышим жалобы на несчастья, которые находим преувеличенными, то, переносясь мыслью в положение жалующегося, мы возмущаемся его страданиями, и так как мы не можем сочувствовать им, то смотрим на них как на слабость и малодушие. Таким же образом чрезмерная чужая удача, безграничное счастье возбуждают в нас презрение; так как сочувствие наше не простирается до столь высокой степени, то мы принимаем за безумие или за самообольщение те блага, которые не возбуждают нашего сочувствия. Ничто не вызывает в нас такого неприятного чувства, как шутка, возбуждающая больший смех, чем она того заслуживает по нашему мнению, и если смеются над ней больше, чем мы сами смеемся.
Глава III. Наше одобрение чувствований прочих людей, в зависимости от согласия или противоречия их с нашими собственными чувствованиями
Когда страсти, возникающие в человеке, находятся в полном согласии с нашими собственными страстями, то нам кажется, что они соответствуют вызвавшему их предмету: мы находим их законными и основательными.
Напротив, если, представив себя в положении другого человека, мы не ощущаем в себе его чувствований, то последние кажутся нам несправедливыми и неуместными.
Стало быть, одобрять или не одобрять страсти других людей, находить их уместными или неуместными – для нас то же, что признавать наше сочувствие к ним или несочувствие. Человек, сочувствующий полученным мной обидам и замечающий, что я чувствую их одинаковым с ним образом, непременно признает справедливым мое негодование, а человек, сочувствующий моему страданию, не может не найти его основательным. Если он любуется вместе со мной картиной и делает это сходным со мною образом, то мое восхищение должно показаться ему совершенно естественным и справедливым; если он смеется, как и я, той же шутке, которая забавляет его так же, как и меня, то мой смех должен ему казаться совершенно естественным. Но человек, в котором при подобных обстоятельствах будут возбуждены иные чувства или в иной степени, не одобрит моих чувствований, и это неодобрение будет пропорционально различию между его и моими чувствами. Если мое негодование, мое страдание, мое восхищение, моя радость превосходят то, что испытывает мой друг, то я могу заключить, что он порицает меня, смотря по большему или меньшему несогласию его ощущений с моими ощущениями, но судить обо мне он будет постоянно на основании своих личных ощущений. Поэтому одобрять мнения других людей – значит принимать их, а принимать их – значит одобрять эти мнения. Если какой-нибудь довод убеждает как вас, так и меня, то я необходимо должен быть одинакового с вами мнения, так как оба явления не могут быть мыслимы и существовать один без другого. Итак, не может подлежать сомнению, что одобрять или не одобрять мнения других людей – значит замечать согласие или несходство их мнений с нашими мнениями. То, что мы сказали о мнениях, должно сказать и о чувствованиях или страстях других.
Впрочем, иногда случается, что мы одобряем людей вовсе не вследствие нашей симпатии к их чувствам. Но при внимательном исследовании подобного случая нетрудно увидеть, что и тогда одобрение наше непременно вызывается каким-нибудь сходством в наших чувствованиях. Я специально приведу в пример обстоятельство, не имеющее важного значения, потому что в нем суждение наше реже искажается ложными представлениями. Итак, случается, что мы одобряем шутку и находим возбуждаемый ею смех естественным, хотя сами мы не смеемся вследствие серьезного в ту минуту расположения нашего духа или вследствие сосредоточения нашего внимания на другом предмете, но мы знаем по опыту, что подобная же шутка часто вызывала в нас смех и что настоящая относится к тому же роду. Если, стало быть, мы находим в таком случае основательным и уместным ощущение, не разделяемое нами по причине нашего временного настроения, то это потому, что мы припоминаем случаи, когда мы без всякого затруднения испытывали его.