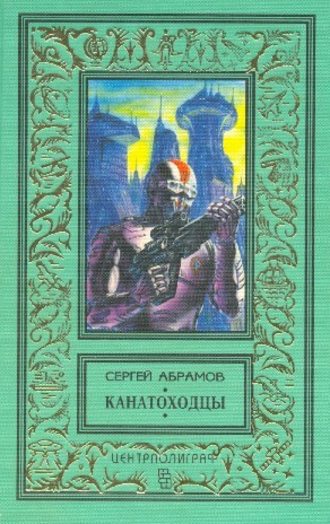
Сергей Абрамов
Волчок для Гулливера
– Почему, кстати, уровне? – спросил он.
– Первая заповедь доминиканца: избегать шаблонов. А ты теперь доминиканец.
– Не понимаю.
– Всех, кто служит Доминику Лабарду на высшем уровне, именуют доминиканцами.
– Моего шефа у Притчардсов звали Тамплем, но тамплиером[1] я не был.
Джонни прикрыл рукой рот Майка и шепнул еле слышно:
– Тсс!.. Ни слова больше, следуй за мной! – и громко добавил: – Все, кто подчинен Доминику Лабарду, влюблен в него безоговорочно. Ты тоже влюбишься.
И, подмигнув Майку, молчи, мол, – увел его в ванную с бассейном из черного мрамора, автоматическим аппаратом для массажа, душами и сушилкой. Он тут же открыл все краны, и ванная наполнилась ревом Ниагары.
– Теперь можно говорить не рискуя, – тихо произнес он, присаживаясь на черный пластиковый табурет. – Кроме шума воды, никто ничего не услышит. А то все и везде здесь прослушивается.
– Микрофоны?
– Микротелепередатчики. И черт знает, где они вмонтированы. Никто не находит. Должно быть, в стенах: те звукосверхпроводимы. Если лет тридцать назад только подслушивали на расстоянии и в любой среде, то теперь научились и подглядывать. Микротелепередатчик зафиксирует каждый твой шаг, слово, жест и даже выражение лица. Тебе, электронщику, лучше знать, как это делается. Даже оставаясь один, ты не можешь быть уверен, что ты в одиночестве, а не под наблюдением парочки скучающих «астрономов».
– Невероятно! – шепотом удивился Майк. – Ведь электронное подслушивание запрещено ООН еще в восьмидесятых годах. Микрофоны и микросъемки исключены даже из методов судебного разбирательства.
– Ты не в ООН и даже не в Штатах. Ты в частном владении. И запомни: рассчитывай каждый свой шаг и взвешивай каждое слово. Ты птичка в роскошной клетке. У тебя работа – не бей лежачего и княжеский гонорар. У тебя ванна – мечта голливудской звезды и лаборатория – рай электронщика, а каждая из сотни кнопочек в столовой и спальне молчаливо взывает: жми, жми, жми! Нажмешь – и приемлешь все дары электронных данайцев, от слизывающей бритвы «Нежность» до ирландского рагу в чесночном соусе. Кстати, учти: с трехсотого этажа и выше – никакой химии. Все натуральное – и виски, и русская икра. А делать, говорить и думать будешь только по мановению указующего перста папы Доминика. Кроме «папы», впрочем, есть еще и «кардинал» с не менее колоритным именем – Лойола. Правда, не Игнаций, а Педро, но служителей его именуют, как и положено, «иезуитами». Их трудно отличить от всех прочих, потому что рясы они не носят, а служебный жетон прячут за лацканом. Но будь уверен, что кто-нибудь сейчас прильнул к экрану и удивляется, что это мы так долго делаем в ванной.
И, подхватив совсем уже растерявшегося Майка под руку, Джонни вывел его в квартиру со словами, рассчитанными не на микрофон, а на рупор:
– Суперкомфорт, милок. Быт цезарей. Не мытье, а нега в магометанском раю, только без гурий. Впрочем, гурии тоже будут – увидишь, а мне пора.
Он тихо выскользнул в коридор, еще раз подмигнув на прощанье, а Майк, обалдевший от полученной информации, растерянный и непонимающий, не потянулся ни к одной кнопочке, а плюхнулся на диван и уже не вслух, а про себя отчаянно выдохнул: «Влип!»
Глава 3. «Я ХОЧУ ЖИТЬ!»
Утром он попробовал кнопки. Все сработало. И выстиранное, отутюженное белье, положенное накануне в белый пластмассовый ящик, и вкусный завтрак, и рюмка коньяку для бодрости. Автоматический механизм сменил и старые полуботинки на новые, более современные и изящные, из натуральной кожи. «Никаких заменителей» – видимо, такова была программа здешней потребительской автоматики. Но Майку вспомнились и слова Джонни о том, что с трехсотых этажей никакой химии. А до трехсотых? Что предлагала автоматика там?
Надо было спешить в диспетчерскую, но Майк не воспользовался «мгновенником» у себя в холле – обычная лифтовая кабина на двух человек, кнопочная панель с цифровым набором, нержавейка и пластик. Он пошел пешком – надо же соблюдать «пешеходную дистанцию». На этот раз она привела по коридору к мраморной лестнице, застланной иранским ковром, спустила на этаж ниже и вывела на диспетчерскую – анфиладу холлов с раздвижными дверями разного цвета. У диспетчерской Майка был голубой с синим номером «36» и фамилией в металлической рамке. Место фамилии было пусто: его предшественник уже снял свою. Кстати, Майк так и не узнал ее и чувствовал себя неловко, пройдя автоматически пропустившую его дверь. Но встретивший его за ней широкоплечий американец с каменно-неподвижным, точно вырубленным из розового туфа лицом, холодно пришел ему на помощь.
– Роджер, – представился он. – Входите не стесняясь, мистер Харди. Давно жду. И нетерпеливо.
– Почему нетерпеливо? – переспросил Харди.
– Долгий разговор, – отмахнулся Роджер. – Может быть, мы и вернемся к нему, а может, и нет. Сейчас же принимайте хозяйство.
Майк осмотрел большой зал, не очень высокий – метра четыре-пять, не больше – с невидимым, но достаточно сильным источником света, дневного, как и всюду. По стенам тянулись блоки компьютеров со входными и выходными каналами, перфорационными лентами, вспыхивающими и потухающими глазками различных цветов, огромными, средними и совсем крохотными экранами с непрекращавшимся движением зубчатых и волнистых, тоже Цветных линий и скользящими вдоль стен платформами управления. Все это было уже знакомо, предстояло лишь разобраться, как говорится, что к чему где видеофонная и телевизионная связи, где лучевая, где блокирующая автоматика и контрольные пункты. Вскоре Майк с помощью Роджера установил все без труда, но и без энтузиазма.
Роджер сразу же это заметил. Его каменное лицо чуть оживилось улыбкой, насмешливой, но все же улыбкой.
– Первый раз вижу новоиспеченного доминиканца с такой кислой рожей.
Майк равнодушно пожал плечами:
– Я конструктор, а не регулировщик.
– Пленились гонораром?
– Отчасти. Да и выхода у меня не было. Они же купили Притчардсов.
– У меня тот же случай. Купили «Чикаго электрониклс», а заодно и меня.
– Пять лет назад?
– Три.
– Платите неустойку? – удивился Майк.
– Получил наследство, вот и плачу. И если бы вы знали, с каким удовольствием! Впрочем, погодите, не спрашивайте. – Он извлек из кармана какой-то микроприбор и взглянул на стрелку крохотного циферблата: она не двигалась. – Не подслушивают, – удовлетворенно заметил он. – Правда, я поставил условие, чтобы убрали все микрофоны из диспетчерской. Но кто их знает? Ухожу почти со скандалом. С неустойкой! Первый случай в их практике. Насилу уговорили, чтоб вас подождал.
– Неужели так плохо?
– Хотите виски? – вместо ответа спросил Роджер, кивнув на бар у стола. – Приют алкоголика, – усмехнулся он, наполняя бокалы. – И вы станете через год таким же. Все зависит…
– От чего?
– От процента человеческого достоинства. Если оно у вас есть.
– Я уже кое-что слышал, и, честно говоря, услышанное не вдохновляет.
– От кого слышали?
– Не важно.
Каменный Роджер снова засветился улыбкой, на этот раз совсем не насмешливой.
– Хвалю. Вы, кажется, стоите того, чтобы вам открыли глаза.
– На что?
– На седьмое чудо уходящего века. С душком чудо. Смердит.
– Чем?
– Всем. А главное – парадокс обеспеченности и унижения. Обеспеченность максимальная, жизненный уровень выше, чем в Штатах, и платят в два раза больше, и в три раза – чем в Европе. Нет ни забастовок, ни трудовых конфликтов, и профсоюзов нет, так что и пожаловаться все равно некому. Развлечения дешевле выпивки – стриптиз-бильярдные, бары и кино на всех этажах. Телевизоры принимают все программы Мегалополиса. А через каждые десять этажей – стадион или ринг, все виды спорта, от коньков на искусственном льду до тенниса на травяных кортах. Хотите билеты на матч века между тяжеловесом Дома Клайдом Биггерсом и чемпионом Восточного побережья Штатов Джимми Мердоком – нажмите кнопку под титром ФД. А здешние ЭВМ подсчитывают не только плату за телесвязь и видеофонную трепотню, но и за каждый ваш жест, подлежащий оплате. За кнопочные завтраки и души Шарко, за свежее мыло в ванной и пьяное изобилие в ресторации за углом. А когда наступит день получки, сумма вычетов может свести ее до нуля. И пойдет жизнь взаймы, в неоплаченном долгу у «Хаус Оушен компани», потому что кнопочные радости стоят не дешево. А цены на квартиры, в особенности на верхних этажах, так высоки, что оплачивать их могут только миллионеры. И представьте – платят. Работают в своих банках, маклерских конторах или адвокатских офисах в Нью-Йорке и Вашингтоне и ездят сюда на уик-энд – еще бы: Хаус, седьмое чудо, океанский простор и парки, повисшие над пенистой пропастью.
– Много платят – дорого берут. Закономерно, – пожал плечами Майк. – Где ж унижение?
– А то, что вы никогда не остаетесь один. То, что каждое ваше слово фиксируется и записывается, потом производится соответствующая селекция и составляется досье, полностью определяющее ваш духовный портрет. С неподходящими контракта не возобновят, критиканов уберут с соответствующим иском, который адвокаты Дома всегда выигрывают. Существуют и местные наказания: «иезуиты» чрезвычайно изобретательны. Кстати, возьмите вот этот приборчик. Когда захотите поговорить откровенно, проверьте: движется стрелка – значит, подслушивают.
– Зачем им это? – недоумевал Майк. – Ведь сюда же приходят добровольно.
– Но добровольно не уходят. Долг погашается отработкой в кредит. В идеальном «обществе потребления» Дома кредит доведен до магии. Он – кнут и пряник. На верхних этажах равняет с миллионерами из Майами, на нижних этажах закабаляет, как бессрочное долговое обязательство.
– Ад и рай, – улыбнулся Майк.
– Не смейтесь. Только рай – как в театре с партером и галеркой. На нижних, «производственных» этажах, где находятся все промышленные предприятия Дома, – то же кнопочное, только уцененное изобилие. Жратва – химия, выпивка – пойло, развлечения – верблюжьи радости.
– А если бунт?
– Какой? Забастовка? Рабочая аристократия не бастует.
– Пассивное сопротивление. Никудышная работа, например. Пусть увольняют.
– Кому выгодно увольнение с судебным иском. К тому же каждый работник Дома – его акционер и заинтересован в росте прибылей. А никудышную работу изобличит машина.
– Можно же найти какую-то форму протеста?
– Нельзя. Вы всегда будете в проигрыше. Почта перлюстрируется. Видеофонная связь только в пределах Дома. Отпуска запрещены – это оговорено в контрактах. Тюб закрыт. Ни один краулер не возьмет на борт работника Дома. А будете надоедать – с вами может случиться несчастье. Здесь есть и крематорий для таких неудачников.
Майк помолчал, подумал и сдался:
– Действительно – магия.
– И самая черная. Со своими «тайнами мадридского двора». Я как-то попробовал вычислить на машине, где и по каким признакам распределяется трехмиллионное население Дома. Оказывается, два миллиона восемьсот тысяч с лишним работают в системе его предприятий, промышленных и торговых. Более полутораста тысяч – в Штатах или вообще нигде, только живут здесь, как на курорте. Что делают остальные несколько тысяч жителей Дома, компьютер не знал: не было входных данных, никакой, по существу, информации. Спрашивается: где же они работают, если не покидают пределов Дома, и куда исчезают с восьми утра до шести вечера?
– А вы не обращались с таким вопросом к шефу «доминиканцев»?
– Я хочу жить.
Либо Роджера давно уже утратило свою неподвижность, губы дергались, зубы то стискивались до судороги в челюстях, то нижняя челюсть бессильно отваливалась. Он выпил, не разбавляя, еще бокал виски и тихо закончил:
– Я потому и удираю отсюда, что проник в эту тайну. Они не тронут меня, если я буду молчать. Поэтому не спрашивайте меня ни о чем. Считайте, что разговора не было.
В наступившей тишине вдруг щелкнула входная дверь, и низкий женский голос спросил больше по привычке, чем по существу: «Можно?» Дверь тут же открылась, пропустив миловидную девушку, больше похожую на итальянку или испанку, чем на американку из северо-восточной группы Штатов – ни безукоризненной прически, ни косметически оформленного лица, ни спортивной спины, как у девушек из колледжа. Стриженная по-мальчишески голова, пряди черных волос заложены за уши, неподкрашенные глаза и губы, и только большие темно-синие, как сливы, глаза заставляли вас обратить внимание на это лицо. Майк не был исключением. Внимание он обратил сразу и замер на полуслове.
– Вы уезжаете, Роджер? Завтра, да? – спросила она, даже не взглянув на Майка, словно его и не было рядом.
– Увы, – вздохнул Роджер.
– Сдались? Еще один струсивший гладиатор.
– Сдался. Красе сильнее. А Спартака у нас нет. Может быть, он? – Роджер искоса и с улыбкой взглянул на Майка и сказал; – Познакомьтесь, Полетта. Мой сменщик Майк Харди, и, кажется, стоящий парень. Я в людях редко ошибаюсь, вы знаете.
– Полетта Лабард, – сказала девушка, глядя неподвижно и строго.
– Лабард? – удивился Майк. – Однофамилица?..
– Не однофамилица, а приемная дочь, – перебил Роджер, – и учтите, Харди: она хотя и личный секретарь своего приемного папочки, но отнюдь не разделяет его взглядов на Дом и, пожалуй, на жизнь. И еще одно учтите: папочка пока не знает, с кем дружит и кому помогает его приемная дочь. Несмотря на все микрофоны.
– Их нет только у отца и Лойолы, – сказала Полетта.
– Гений с причудами, – добавил Роджер. – Зовут его Доминик – он придумал «доминиканцев», нашел Лойолу – создал «иезуитов». А это – четыреста пятьдесят шерифов и тысячи тайных и явных агентов, утверждающих власть магистра. И всех влюбил в себя – от Лойолы до Грэгга с Хенесси.
– Не влюбитесь и вы, – пригрозила Майку Полетта. – У Доминика огромное обаяние ума и таланта. Кстати, вы сегодня же и познакомитесь с ним на проводах Роджера. Официально вас приглашаю. Четырехсотый этаж, внешний парковый ресторан. Любой информарий выведет. Будете?
– Сочту за честь, – сказал Майк.






