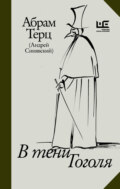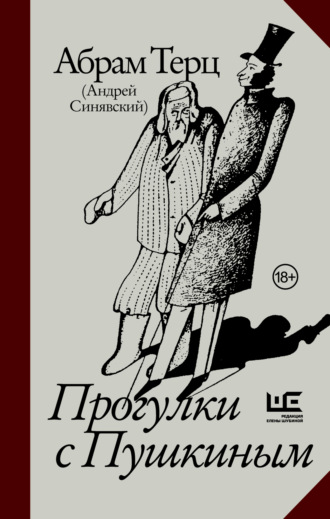
Абрам Терц
Прогулки с Пушкиным
Абрам Терц
Прогулки с Пушкиным
Бывало, часто говорю ему: “Ну, что, брат Пушкин?” – “Да так, брат”, отвечает бывало: “так как-то всё…”. Большой оригинал.
Н.В.Гоголь. Ревизор
При всей любви к Пушкину, граничащей с поклонением, нам как-то затруднительно выразить, в чем его гениальность и почему именно ему, Пушкину, принадлежит пальма первенства в русской литературе. Помимо величия, располагающего к почтительным титулам, за которыми его лицо расплывается в сплошное популярное пятно с бакенбардами, – трудность заключается в том, что весь он абсолютно доступен и непроницаем, загадочен в очевидной доступности истин, им провозглашенных, не содержащих, кажется, ничего такого особенного (жест неопределенности: “да так… так как-то всё…”). Позволительно спросить, усомниться (и многие усомнились): да так ли уж велик ваш Пушкин, и чем, в самом деле, он знаменит, за вычетом десятка-другого ловко скроенных пьес, про которые ничего не скажешь, кроме того, что они ловко сшиты?
……………..Больше ничего
Не выжмешь из рассказа моего, —
резюмировал сам Пушкин это отсутствие в его сочинении чего-то большего, чем изящно и со вкусом рассказанный анекдот, способный нас позабавить. И, быть может, постичь Пушкина нам проще не с парадного входа, заставленного венками и бюстами с выражением неуступчивого благородства на челе, а с помощью анекдотических шаржей, возвращенных поэту улицей словно бы в ответ и в отместку на его громкую славу.
Отбросим не идущую к Пушкину и к делу тяжеловесную сальность этих уличных созданий, восполняющих недостаток грации и ума простодушным плебейским похабством. Забудем на время и самую фривольность сюжетов, к которой уже Пушкин имеет косвенное отношение. Что останется тогда от карикатурного двойника, склонного к шуткам и шалостям и потому более-менее годного сопровождать нас в экскурсии по священным стихам поэта – с тем чтобы они сразу не настроили на возвышенный лад и не привели прямым каналом в Академию наук и художеств имени А.С.Пушкина с упомянутыми венками и бюстами на каждом абзаце? Итак, что останется от расхожих анекдотов о Пушкине, если их немного почистить, освободив от скабрезного хлама? Останутся всё те же неистребимые бакенбарды (от них ему уже никогда не отделаться), тросточка, шляпа, развевающиеся фалды, общительность, легкомыслие, способность попадать в переплеты и не лезть за словом в карман, парировать направо-налево с проворством фокусника – в частом, по-киношному, мелькании бакенбард, тросточки, фрака… Останутся вертлявость и какая-то всепроникаемость Пушкина, умение испаряться и возникать внезапно, застегиваясь на ходу, принимая на себя роль получателя и раздавателя пинков-экспромтов, миссию козла отпущения, всеобщего ходатая и доброхота, всюду сующего нос, неуловимого и вездесущего, универсального человека Никто, которого каждый знает, который всё стерпит, за всех расквитается.
– Кто заплатит? – Пушкин!
– Что я вам – Пушкин – за всё отвечать?
– Пушкиншулер! Пушкинзон!
Да это же наш Чарли Чаплин, современный эрзац-Петрушка, прифрантившийся и насобачившийся хилять в рифму…
– Ну что, брат Пушкин?..
Причастен ли этот лубочный, площадной образ к тому прекрасному подлиннику, которого-то мы и доискиваемся и стремимся узнать покороче в общении с его разбитным и покладистым душеприказчиком? Вероятно, причастен. Вероятно, имелось в Пушкине, в том настоящем Пушкине, нечто, располагающее к позднейшему панибратству и выбросившее его имя на потеху толпе, превратив одинокого гения в любимца публики, завсегдатая танцулек, ресторанов, матчей.
Легкость – вот первое, что мы выносим из его произведений в виде самого общего и мгновенного чувства. Легкость в отношении к жизни была основой миросозерцания Пушкина, чертой характера и биографии. Легкость в стихе стала условием творчества с первых его шагов. Едва он появился, критика заговорила о “чрезвычайной легкости и плавности” его стихов: “кажется, что они не стоили никакой работы”, “кажется, что они выливались у него сами собою” (“Невский Зритель”, 1820, № 7; “Сын Отечества”, 1820, ч. 64, № 36).
До Пушкина почти не было легких стихов. Ну – Батюшков. Ну – Жуковский. И то спотыкаемся. И вдруг, откуда ни возьмись, ни с чем, ни с кем не сравнимые реверансы и повороты, быстрота, натиск, прыгучесть, умение гарцевать, галопировать, брать препятствия, делать шпагат и то стягивать, то растягивать стих по требованию, по примеру курбетов, о которых он рассказывает с таким вхождением в роль, что строфа-балерина становится рекомендацией автора заодно с танцевальным искусством Истоминой:
………………………Она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.
Но прежде чем так плясать, Пушкин должен был пройти лицейскую подготовку – приучиться к развязности, развить гибкость в речах заведомо несерьезных, ни к чему не обязывающих и занимательных главным образом непринужденностью тона, с какою вьется беседа вокруг предметов ничтожных, бессодержательных. Он начал не со стихов – со стишков. Взамен поэтического мастерства, каким оно тогда рисовалось, он учится писать плохо, кое-как, заботясь не о совершенстве своих “летучих посланий”, но единственно о том, чтобы писать их по воздуху – бездумно и быстро, не прилагая стараний. Установка на необработанный стих явилась следствием “небрежной” и “резвой” (любимые эпитеты Пушкина о ту пору) манеры речи, достигаемой путем откровенного небрежения званием и авторитетом поэта. Этот первый в русской литературе (как позднее обнаружилось) сторонник чистой поэзии в бытность свою дебютантом ставил ни в грош искусство и демонстративно отдавал предпочтение бренным дарам жизни.
Не вызывай меня ты боле
К навек оставленным трудам,
Ни к поэтической неволе,
Ни к обработанным стихам.
Что нужды, если и с ошибкой
И слабо иногда пою?
Пускай Нинета лишь улыбкой
Любовь беспечную мою
Воспламенит и успокоит!
А труд и холоден, и пуст;
Поэма никогда не стоит
Улыбки сладострастных уст.
Такое вольничанье со стихом, освобожденным от каких бы то ни было уз и обязательств, от стеснительной необходимости – даже! – именоваться поэзией, грезить о вечности, рваться к славе (“Плоды веселого досуга не для бессмертья рождены”, – заверял молодой автор – не столько по скромности, сколько из желания сохранить независимость от навязываемых ему со всех сторон тяжеловесных заданий), предполагало облегченные условия творчества. Излюбленным местом сочинительства сделалась постель, располагавшая не к работе, а к отдыху, к ленивой праздности и дремоте, в процессе которой поэт между прочим, шаляй-валяй, что-то там такое пописывал, не утомляя себя излишним умственным напряжением.
Постель для Пушкина не просто милая привычка, но наиболее отвечающая его духу творческая среда, мастерская его стиля и метода. В то время как другие по ступенькам высокой традиции влезали на пьедестал и, прицеливаясь к перу, мысленно облачались в мундир или тогу, Пушкин, недолго думая, заваливался на кровать и там – “среди приятного забвенья, склонясь в подушку головой”, “немного сонною рукой” – набрасывал кое-что, не стоящее внимания и не требующее труда. Так вырабатывалась манера, поражающая раскованностью мысли и языка, и наступила свобода слова, неслыханная еще в нашей словесности. Лежа на боку, оказалось, ему было сподручнее становиться Пушкиным, и он радовался находке:
В таком ленивом положенье
Стихи текут и так и сяк.
Его поэзия на той стадии тонула и растворялась в быту. Чураясь важных программ и гордых замыслов, она опускалась до уровня застольных тостов, любовных записочек и прочего вздора житейской прозы. Вместо трудоемкого высиживания “Россиады” она разменивалась на мелочи и расходилась по дешевке в дружеском кругу – в альбомы, в остроты. Впоследствии эти формы поэтического смещения в быт лефовцы назовут “искусством в производстве”. Не руководствуясь никакими теориями, Пушкин начинал с того, чем кончил Маяковский.
Пишу своим я складом ныне
Кой-как стихи на именины.
Ему ничего не стоило сочинить стишок, приглашающий, скажем, на чашку чая. В поводах и заказах недостатка не было. “Я слышу: пишешь ты ко многим, ко мне ж, покамест, ничего”, – упрашивал его тоже в стихах, по тогдашней приятной моде, Я.Н.Толстой, – “Доколе ты не сдержишь слово: безделку трудно ль написать?” И получал в подарок – стансы.
Пушкин был щедр на безделки. Жанр поэтического пустяка привлекал его с малолетства. Научая расхлябанности и мгновенному решению темы, он начисто исключал подозрение в серьезных намерениях, в прилежании и постоянстве. В литературе, как и в жизни, Пушкин ревниво сохранял за собою репутацию лентяя, ветреника и повесы, незнакомого с муками творчества.
Не думай, цензор мой угрюмый,
Что я беснуюсь по ночам,
Объятый стихотворной думой,
Что ленью жертвую стихам…
Все-таки – думают. Позднейшие биографы с вежливой улыбочкой полицейских авгуров, привыкших смотреть сквозь пальцы на проказы большого начальства, разъясняют читателям, что Пушкин, разумеется, не был таким бездельником, каким его почему-то считают. Нашлись доносители, подглядевшие в скважину, как Пушкин дологу пыхтит над черновиками.
Нас эти сплетни не интересуют. Нам дела нет до улик – будь они правдой иль выдумкой ученого педанта, – лежащих за пределами истины, как ее преподносит поэт, тем более – противоречащих версии, придерживаясь которой, он сумел одарить нас целой вселенной. Если Пушкин (допустим!) лишь делал вид, что бездельничает, значит, ему это понадобилось для развязывания языка, пригодилось как сюжетная мотивировка судьбы, и без нее он не смог бы написать ничего хорошего. Нет, не одно лишь кокетство удачливого артиста толкало его к принципиальному шалопайничеству, но рабочая необходимость и с каждым часом крепнущее понимание своего места и жребия. Он не играл, а жил, шутя и играя, и, когда умер, заигравшись чересчур далеко, Баратынский, говорят, вместе с другими комиссарами разбиравший бумаги покойного, среди которых, например, затесался “Медный всадник”, восклицал: “Можешь ты себе представить, что меня больше всего изумляет во всех этих поэмах? Обилие мыслей! Пушкин – мыслитель! Можно ли было это ожидать?” (цитирую по речи И.С.Тургенева на открытии памятника Пушкину в Москве).
Нынешние читатели, с детства обученные тому, что Пушкин – это мыслитель (хотя, по совести говоря, ну какой он мыслитель!), удивляются на Баратынского, не приметившего очевидных глубин. Не ломая голову над глубинами, давайте лучше вместе, согласно удивимся силе внушения, которое до гроба оказывал Пушкин в роли беспечного юноши. Современники удостоверяют чуть ли не хором: “Молодость Пушкина продолжалась во всю его жизнь, и в тридцать лет он казался хоть менее мальчиком, чем был прежде, но все-таки мальчиком, лицейским воспитанником… Ветреность была главным, основным свойством характера Пушкина” (“Русская Старина”, 1874, № 8).
Естественно, эта ветреность не могла обойтись без женщин. Ни у кого, вероятно, в формировании стиля, в закручивании стиха не выполнял такой работы, как у Пушкина, слабый пол. Посвященные прелестницам безделки находили в их слабости оправдание и поднимались в цене, наполнялись воздухом приятного и прибыльного циркулирования. Молодой поэт в амплуа ловеласа становился профессионалом. При даме он вроде как был при деле.
Тем временем беззаботная, небрежная речь получала апробацию: кто ж соблюдает серьезность с барышнями, один звук которых тянет смеяться и вибрировать всеми членами? Сам объект воспевания располагал к легкомыслию и сообщал поэзии бездну движений. В общении с женщинами она упражнялась в искусстве обхаживать и, скользя по поверхности, касаться запретных тем и укромных предметов с такой непринужденной грацией, как если бы ничего особенного, а наша дама вся вздрагивает, и хватается за бока, будто на нее напал щекотунчик, и, трясясь, стукает веером по перстам баловника. (См. послание “Красавице, которая нюхала табак”, который, помнится, просыпался ей прямо за корсаж, где пятнадцатилетний пацан показывает столько энергии и проворства, что мы рот разеваем от зависти: ах, почему я не табак! ах, почему я не Пушкин!)
На тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин в большую поэзию и произвел переполох. Эротика была ему школой – в первую очередь школой верткости, и ей мы обязаны в итоге изгибчивостью строфы в “Онегине” и другими номерами, о которых не без бахвальства сказано:
Порой я стих повертываю круто,
Всё ж, видно, не впервой я им верчу…
Уменье вертеть стихом приобреталось в коллизиях, требующих маневренности необыкновенной, подобных той, в какую, к примеру, попал некогда Дон-Жуан, взявшись ухаживать одновременно за двумя параллельными девушками. В таком положении хочешь – не хочешь, а приходится поворачиваться.
Или – Пушкин бросает фразу, решительность которой вас озадачивает: “Отечество почти я ненавидел” (?!). Не пугайтесь: следует – ап! – и честь Отечества восстановлена:
Отечество почти я ненавидел —
Но я вчера Голицыну увидел
И примирен с отечеством моим.
И маэстро, улыбаясь, раскланивается.
* * *
Но что это? Егозливые прыжки и ужимки, в открытую мотивированные женолюбием юности, внезапно перенимают крылья ангельского парения?.. Словно материя одной страсти на лету преобразовалась в иную, непорочную и прозрачную, с тем, однако, чтобы следом воплотиться в прежнем обличье. Эротическая стихия у Пушкина вольна рассеиваться, истончаться, достигая трепетным эхом отдаленных вершин духа (не уставая попутно производить и докармливать гривуазных тварей низшей породы). Небесное созданье, воскресив для певца “и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь”, способно обернуться распутницей, чьи щедроты обнародованы с обычной шаловливой болтливостью, но и та пусть не теряет надежды вновь при удобном случае пройти по курсу мадонны.
Не потому ли на Пушкина никто не в обиде, а дамы охотно ему прощают нескромные намеки на их репутацию: они – лестны, они – молитвенны…
Пушкину посчастливилось вывести на поэтический стриптиз самое вещество женского пола в его щемящей и соблазнительной святости, фосфоресцирующее каким-то подземным, чтоб не сказать – надзвездным, свечением (тем – какое больше походит на невидимые токи, на спиритические лучи, источаемые вертящимся столиком, нежели на матерьяльную плоть). Не плоть – эфирное тело плоти, ея Психею, нежную ауру поймал Пушкин, пустив в оборот все эти румяные и лилейные ножки, щечки, персики, плечики, отделившиеся от владелиц и закружившиеся в независимом вальсе, “как мимолетное виденье, как гений чистой красоты”.
Пушкинская влюбчивость – именно в силу широты и воспламеняемости этого чувства – принимает размеры жизни, отданной одному занятию, практикуемому круглосуточно, в виде вечного вращения посреди женских прелестей. Но многочисленность собрания и любвеобилие героя не позволяют ему вполне сосредоточиться на объекте и пойти дальше флирта, которым по существу исчерпываются его отношения с волшебницами. Готовность волочиться за каждым шлейфом сообщает поползновениям повесы черты бескорыстия, самозабвения, отрешенности от личных нужд, исправляемых между делом, на бегу, в ежеминутном отключении от цели и зевании по сторонам. Как будто Пушкин задался мыслью всех ублажить и уважить, не обойдя своими хлопотами ни одной мимолетной красотки, и у него глаза разбегаются, и рук не хватает, и нет ни времени, ни денег позаботиться о себе. В созерцании стольких ракурсов, в плену впечатлений, кружащих голову, повергающих в прострацию, он из любовников попадает в любители, в эрудиты амурной науки, лучшие блюда которой, как водится, достаются другим.
Читая Пушкина, чувствуешь, что у него с женщинами союз, что он свой человек у женщин – притом в роли специалиста, вхожего в дом в любые часы, незаменимого, как портниха, парикмахер, массажистка (она же сводня, она же удачно гадает на картах), как модный доктор-невропатолог, ювелир или болонка (такая шустрая, в кудряшках…). С такими не очень-то церемонятся и, случается, поскандалят (такой нахал! такая проныра!), но не выгонят, не выставят, таких ценят, с такими советуются по секрету от свекрови и перед такими, бывает, заискивают.
Ну и, естественно, – таким не отказывают. Еще бы: Пушкин просит!
Он так же проник в дамские спальни и пришелся там ко двору, как тот улан, переодетый в кухарку, обживал домик в Коломне, правда – с меньшим успехом, чем Пушкин, в игривом стиле здесь описавший, безусловно, собственный опыт, свои похождения в мире прекрасного. В своей писательской карьере он тоже исподтишка работал под женщину и сподобился ей угодить, снуя вкруг загадок ея прельстительности. “Она, как дух, проходит мимо”, – молвил Пушкин, и мы робеем как бы в прикосновении тайны…[1]
Задумаемся: почему женщины любят ветреников? Какой в них прок – одно расстройство, векселя, измены, пропажи, но вот, подите же вы, плачут – а любят, воем воют – а любят. Должно быть, ветреники сродни их воздушной организации, которой бессознательно хочется, чтоб и внутри и вокруг нее все летало и развевалось (не отсюда ли, кстати, берут свое происхождение юбка и другие кисейные, газовые зефиры женского туалета?). С ветреником женщине легче нащупать общий язык, попасть в тон. Короче, их сестра невольно чует в ветренике брата по духу.
Опять-таки полеты на венике имеют в своей научной основе ту же летучесть женской природы, воспетую Пушкиным в незабвенном “Гусаре”, который, как и “Домик в Коломне”, во многом автобиографичен. Вспомним, как тамошняя хозяйка, раздевшись донага, улизнула в трубу, подав пример своему сожителю:
Кой чорт! подумал я: теперь
И мы попробуем! и духом
Всю склянку выпил; верь не верь —
Но кверху вдруг взвился я пухом.
Стремглав лечу, лечу, лечу,
Куда, не помню и не знаю;
Лишь встречным звездочкам кричу:
Правей!..
Какой там гусар! – не гусар, а Пушкин взвился пухом вослед за женщинами и удостоился чести первого в русской поэзии авиатора!
Полюбуйтесь: “Руслан и Людмила”, явившись первым ответвлением в эпос эротической лирики Пушкина, вдоль и поперек исписаны фигурами высшего пилотажа. Еле видная поначалу, посланная издали точка-птичка (“там в облаках перед народом через леса, через моря колдун несет богатыря”), приблизившись, размахивается каруселями воздушных сообщений. Как надутые шары, валандаются герои в пространстве и укладывают текст в живописные вензеля. В поэме уйма завитушек, занимающих внимание. Но, заметим, вся эта развесистая клюква – нет! – елка, оплетенная золотой дребеденью (ее прообраз явлен у лукоморья, в прологе, где изображен, конечно, не дуб, а наша добрая, зимняя ель, украшенная лешими и русалками, унизанная всеми бирюльками мира, и ее-то Пушкин воткнул Русланом на месте былинного дуба, где она и стоит поныне – у колыбели каждого из нас, у лукоморья новой словесности, и как это правильно и сказочно, что именно Пушкин елку в игрушках нам подарил на Новый год в первом же большом творении), так вот эта елка, эта пальма, это нарочитое дезабилье романтизма, затейливо перепутанное, завинченное штопором, турниры в турнюрах, кокотки в кокошниках, боярышни в сахаре, рыцари на меду, медведи на велосипеде, охотники на привале – имеют один источник страсти, которым схвачена и воздета на воздух, на манер фейерверка, вся эта великолепная, варварская требуха поэмы.
Тот источник освистан и высмеян в пересказе руслановой фабулы, пересаженной временно – в одной из песен – на почву непристойного фарса. В этой вставной новелле-картинке, служащей заодно и пародией, и аннотацией на “Руслана и Людмилу”, действие из дворцовых палат вынесено в деревенский курятник. (Должно быть, куры – в курином, придворном, куртуазном и авантюрном значениях слова – отвечали идейным устремлениям автора и стилю, избранному в поэме, – старославянскому рококо.) Здесь-то, в радушном и гостеприимном бесстыдстве, берут начало или находят конец экивоки, двойная игра эротических образов Пушкина, уподобившего Людмилу, нежную, надышанную Жуковским Людмилу, пошлой курице, за которой по двору гоняется петух-Руслан, пока появление соперника-коршуна не прерывает эти глупости в самый интересный момент.
…Когда за курицей трусливой
Султан курятника спесивый,
Петух мой по двору бежал
И сладострастными крылами
Уже подругу обнимал…
Запоминающиеся впечатления детства от пребывания на даче сказались на столь откровенной трактовке отношений между полами. Как мальчишка, Пушкин показывает кукиш своим героям-любовникам. Но каким светлым аккордом, какою пропастью мечтательности разрешается эта сцена, едва событие вместе с соперником переносится в воздух – на ветер сердечной тоски, вдохновения!
Напрасно, горестью своей
И хладным страхом пораженный,
Зовет любовницу петух…
Он видит лишь летучий пух,
Летучим ветром занесенный.
К последним строчкам – так они чисты и возвышенны – напрашивается ассонанс: “Редеет облаков летучая гряда…”. Редеет и стирается грань между эротикой и полетом, облаками и женскими формами, фривольностью и свободой, – настолько то и другое у Пушкина не то чтобы равноценные вещи, но доступные друг другу, сообщающиеся сосуды. Склонный в обществе к недозволенным жестам, он ухитряется сохранять ненаигранное целомудрие в самых рискованных порой эпизодах – не потому, что в эти минуты его что-то сдерживает или смущает; напротив, он не знает запретов и готов ради пикантности покуситься на небеса; но как раз эта готовность непоседливой эротики Пушкина притрагиваться ко всему на свете, когда застя этот свет, а когда им ответно светлея, лишает ее четких границ и помогает вылиться в мысли, на взгляд, ни с какого бока ей не приставшие, не свойственные – на самом же деле демонстрирующие ее силу и растяжимость.
Как тот басенный петух, что никого не догнал, но согрелся, Пушкин умеет переключать одну энергию на другую, давая выход необузданной чувственности во все сферы жизнедеятельности. “Блажен кто знает сладострастье высоких мыслей и стихов”, – говорит он в минуту роздыха от неумеренных ухаживаний. Как так “сладострастье мыслей” и вдобавок еще “высоких”?! Да вот так уж! У него все сладострастье: и танцы с рифмами, и скачка под выстрелами, и тихий утренний моцион. “Любовь стихов, любовь моей свободы…” Слышите? Не Нинеты любовь, не Темиры и даже не Параши, а свободы (к тому же моей!). До крайности неопределенно, беспредметно, а между тем сердце екает: любовь!
Эротика Пушкина, коли придет ей такая охота, способна удариться в путешествия, пуститься в историю, заняться политикой. Его юношеский радикализм в немалой степени ей обязан своими нежными очертаньями, воспринявшими вольнодумство как умственную разновидность ветрености. Новейшие идеи века под его расторопным пером нередко принимали форму безотчетного волнения крови, какое испытывают только влюбленные. “Мы ждем с томленьем упованья минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуту верного свиданья”. Вот эквивалент, предложенный Пушкиным. Поэзия, любовь и свобода объединялись в его голове в некое общее – привольное, легкокрылое состояние духа, выступавшее под оболочкой разных слов и настроений, означающих примерно одно и то же одушевление. Главное было не в словах, а в их наклонах и пируэтах.
Понятно, в этом триумвирате первенство принадлежало поэзии. Но если хоть в сотой доле верна сомнительная теория, что художественная одаренность питается излучением эроса, то Пушкин тому прямая и кратчайшая иллюстрация. К предмету своих изображений он подскакивал нетерпеливым вздыхателем, нашептывая затронувшей его струны фигуре: “Тобой, одной тобой…” А он умел уговаривать. “Еllе mе trоuble соmme unе раssion”, – писал он о Марине Мнишек. “Она меня волнует, как страсть”.
Сопутствующая амурная мимика в его растущей любви к искусству привела к тому, что пушкинская Муза давно и прочно ассоциируется с хорошенькой барышней, возбуждающей игривые мысли, если не более глубокое чувство, как это было с его Татьяной. Та, как известно, помимо незадачливой партнерши Онегина и хладнокровной жены генерала, являлась личной Музой Пушкина и исполнила эту роль лучше всех прочих женщин. Я даже думаю, что она для того и не связалась с Онегиным и соблюла верность нелюбимому мужу, чтобы у нее оставалось больше свободного времени перечитывать Пушкина и томиться по нем. Пушкин ее, так сказать, сохранял для себя.
Зияния в ее характере, не сводящем (сколько простора!) концы с концами – русские вкусы с французскими навыками, здравый смысл с туманной мечтательностью, светский блеск с провинциализмом, сбереженным в залог верности чему-то высшему и вечному, – позволяют догадываться, что в Татьяне Пушкин копировал кое-какие черты с портрета своей поэзии, вперемешку с другими милыми его сердцу достоинствами, подобно тому как он приписал ей свою старенькую няню и свою же детскую одинокость в семье. Может быть, в Татьяне Пушкин точнее и шире, чем где-либо, воплотил себя персонально – в склонении над ним всепонимающей женской души, которая единственно может тебя постичь, тебе помочь, и что бы мы делали на свете, скажите, без этих женских склонений?..
Возможно, поэтому он, ревнивец, и не дал ходу нашей бедняжке, лишив ее всех удовольствий, заставив безвыходно любить – не столько Онегина, ее недостойного, напичканного едкой современностью (Татьяне досталась вечная часть), сколько прежнюю любовь-свободу-поэзию, в этом союзе осиявшую ее девичество. Не испытывая к пожилому супругу ничего, кроме почтительности, застраховавшей ее от соблазна поддаться Онегину, во-первых, и не дав ничего, во-вторых, Онегину, кроме горьких признаний, брошенных ему в лицо как вызов померяться с нею силами, она в этой стойкой раздвоенности находит гарантию остаться собою – не изменить ни с кем назначению, что ей приуготовил Пушкин, назвав навсегда своею.
Одинокая со младенчества, среди родных, среди подруг, одинокая среди высшего света, поверженного к ее ногам, одинокая на прогулках, у окна, с любимыми книгами, она – избранница, и в этом качестве проведена за ручку Пушкиным между Сциллой растраченных чувств (принадлежи Татьяна Онегину) и Харибдой семейной пошлости (посчастливься ей брак с генералом). Что же мы видим? – Сцилла с Харибдой встретились и пожрали друг друга, оставив невредимой, девственной ее, избранницу, что, как монахиня, отдана ни тому, ни другому, а только третьему, только Пушкину, умудрившись себя сберечь как сосуд, в котором ни капли не пролилось, не усохло, не состарилось, не закисло, и вот эту чашу чистой женственности она, избранница, подносит своему избраннику и питомцу.
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан Богом,
До гроба ты хранитель мой…
Ты в сновиденьях мне являлся,
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался
Давно…
Боже, как хлещут волны, как ходуном ходит море, и мы слизываем языком слезы со щек, слушая этот горячечный бред, этот беспомощный лепет в письме Татьяны к Онегину, Татьяны к Пушкину или Пушкина к Татьяне, к черному небу, к белому свету…
Я вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Ничего она не может сказать, одним рывком отворяя себя в сбивчивых ламентациях, смысл которых – если подходить к ним с буквальной меркой ее пустого романа с Онегиным – сводится к двум приблизительно, довольно типичным и тривиальным идеям: 1) “теперь ты будешь меня презирать” и 2) “а души ты моей все-таки не познал”. Но как они сказаны!..
Открыв письмо Татьяны, мы – проваливаемся. Проваливаемся в человека, как в реку, которая несет нас вольным, переворачивающим течением, омывая контуры души, всецело выраженной потоком речи. Но с полуслова узнавая Татьяну, настоящую, голубую Татьяну, плещущую впереди, позади и вокруг нас, мы тем не менее ничего толком не понимаем из ее слов, действующих исключительно непринужденным движением сказанного.
Кто ей внушал и эту нежность,
И слов любезную небрежность? —
удивляется Пушкин, сам ведь все это и внушивший по долгу службы (в соответствии с собственным вкусом и слухом к нежной небрежности речений). Но это не мешает ему испытывать от случившегося что-то похожее на смятение, на оторопь… Постой! Кто все-таки кому внушал? Тут явная путаница, подлог. По уверению Пушкина, Татьяна не могла сама сочинить такое, ибо “выражалася с трудом на языке своём родном” и писала письмо по-французски, перевести с которого с грехом пополам взялся автор.
…………………………Вот
Неполный, слабый перевод,
С живой картины список бледный…
Но если бледная копия такова – то каков же прекрасный подлинник, и что может быть полнее и подлиннее приложенного здесь документа?! Читателю предоставлено право думать что угодно, заполняя догадками образовавшиеся пустоты, блуждая в несообразностях. Пушкин упрямо твердит, что его “перевод” внушен “иноплеменными словами” Татьяны, и отводит им место над своим творчеством. Остывающее перед нами письмо – лишь слабый оттиск каких-то давних отношений поэта с Татьяной, оставшихся за пределами текста – там, где хранится недоступный оригинал ее письма, которое Пушкин вечно читает и не может начитаться.