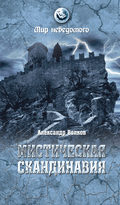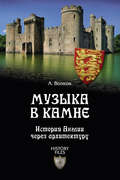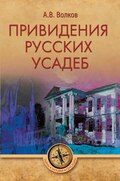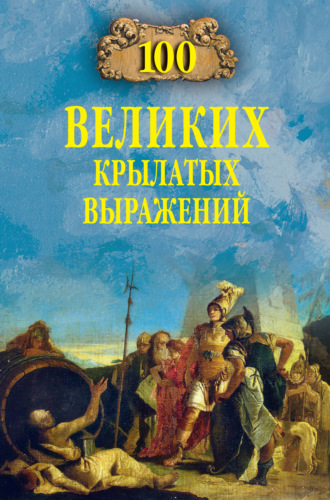
А. В. Волков
100 великих крылатых выражений
И ты, сын мой?
44 г. до н. э.
В 710 г. от основания Рима, в день мартовских ид (15.03.44 г. до н. э.), было совершено предательство, какого не знала история. Еще в предрассветный час простившись с женой, городской претор Марк Юний Брут (85–42 гг. до н. э.), облаченный в свою официальную тогу, спрятал за поясом узкий кинжал и, как герой ложноклассической драмы, сказали бы мы теперь, отправился совершать подвиг.
В тот день намечалось последнее заседание Сената перед тем, как Гай Юлий Цезарь – человек, сокрушивший бриттов в Британии, галлов в Галлии и республиканцев в Риме и ставший пожизненным диктатором (то бишь новым римским царем спустя четыре с половиной столетия после свержения Тарквиния Гордого), намеревался отбыть в долгий-предолгий путь, откуда римские герои до сих пор не возвращались. Он вел легионы в Парфию – страну, где десять лет назад был жестоко убит его друг и соправитель Красс. Цезарь жаждал отмщения, отправляясь в поход за славой себе и новыми землями Риму.
В Риме у него не было равных после коварного убийства Помпея, и, собираясь в поход, который, бесспорно, войдет в историю, новый «царь» мог соотносить свои деяния лишь с тем, что совершил Александр Великий, уже завоевавший однажды земли к югу от Каспийского моря, где теперь простиралось Парфянское царство. Дальнейшие планы были еще темны, но ясно одно: покорив Парфию, Цезарь будет править державой, что, пожалуй, превзойдет своим величием владения македонского царя. Слава того померкнет, звезда Цезаря воссияет над миром еще ослепительнее, разливая свой памятный блеск до границ вечности.

Убийство Цезаря.
Художник К. Т. фон Пилоти. 1865 г.
Цезарь жил великой надеждой, и его друг, верный помощник, а по слухам – и сын, Брут, тоже жил великой надеждой. Их встреча в тот день, сказали бы физики, была подобна взрыву, аннигиляции, встрече материи и антиматерии. И кто из них герой, а кто – антигерой, историки продолжают спорить вот уже 2000 лет.
В тот день Сенат собирался на заседание в портике Помпея – величественной постройке, которую воздвиг Гней Помпей в ознаменование своих побед над пиратами в водах Средиземного моря, а также Митридатом, царем Понта. Тот самый Помпей, соправитель Цезаря, поверженный им в скоротечной гражданской войне и подло убитый в тот час, когда он, униженный и оскорбленный, искал защиты в Египте. Земная слава проходит быстро, когда навстречу герою молниеносно вылетает кинжал.
Там, у портика Помпея Великого, словно рассылавшего из-за гробовой черты несчастья всем мечтателям и гордецам, Брут встретил своего шурина Гая Кассия Лонгина и других заговорщиков. К финалу трагедии собрались все ее действующие лица. Не было лишь главного героя. Обуреваемый мрачными мыслями, сопровождаемый страшными предчувствиями жены, он не торопился выйти на сцену. Казнь заставляла себя ждать.
К нему послали гонцов, взывая к его чувству долга. Наконец плешивая, тощая фигура «любострастника», «развратного подлеца», как называл его давно умерший поэт Гай Валерий Катулл, возникла возле портика Помпея. Толпа просителей ограждала его, словно когорта охраны. Ему настойчиво что-то кричали; его умоляли; в его бессильные руки вкладывали записки. Историки не преминут отметить, что в одной из записок было сказано о том, что сегодня он умрет.
Убийцы не спешили свершать это вещее присловье. Брут, Кассий и другие, словно окаменев, стояли на «царском» пути. Наконец, будто кто-то незримый повернул колесо Фортуны, все люди пришли в движение. Сенаторы направились в зал заседаний.
В принципе заговор был хорошо продуман. В число убийц вошли люди из ближайшего окружения диктатора. Он доверял им, позволил обступить себя, словно для непринужденной беседы. Внимание Цезаря усыпляли монотонные просьбы старых друзей. Их руки стали мягко обвивать его тело, как змеи; они ползли по его рукам и спине. Он устало и бессильно начал стряхивать их – в него со всех сторон вонзились кинжалы. Словно стая орлов слетелась клевать тело Прометея – так тело Цезаря кромсали клинки.
Одним из последних занес кинжал для удара Брут. По рассказам, пестрым до неузнаваемости, Цезарь, завидев, кто наносит удар, либо молча закрыл свое лицо, либо произнес по-гречески: «И ты, сын мой?» После двадцать третьего удара окровавленная фигура римского властелина рухнула наземь, как сбитая с постамента статуя.
Цезарь пал. Заговорщики победили. Диктатор был свергнут. Попранная свобода была восстановлена. Слава вольному Риму? Героям слава?
Но случилось невероятное. Память потомков, это кривое зеркало Истории, навсегда запечатлела восторженное отношение к Цезарю. Его образ стал идеалом для властителей грядущих веков. Его имя сделалось нарицательным, превратилось в титул правителя: «цезарь», «кесарь», «царь». Борец за свободу римского народа Брут, наоборот, стал воплощением подлости и предательства. Стал «языческим Иудой». Отныне не было худшего упрека человеку, нежели брошенная ему хлесткая фраза: «И ты, сын мой?», «И ты, Брут?» («Et tu, Brute?» – в таком виде эта фраза звучит в трагедии У. Шекспира «Юлий Цезарь», III, 1).
Как же это произошло? Как неблагодарная Память развенчала благородного героя? Как мечтательный революционер превратился в мстительного реакционера? Эту жестокую перемену мы наблюдаем уже у Плутарха. В составленной им биографии Брута почти обо всей жизни нашего «негероического героя» говорится бегло, вскользь на первых страницах. Зато остальное место отведено заговору против Цезаря и вспыхнувшей затем гражданской войне – двум последним годам жизни Брута, когда благородные республиканцы (Брут, Кассий, Цицерон) методично истреблялись войсками, которые остались верны павшему диктатору.
Именно так! Победа заговорщиков не стала их триумфом. Оказалось, что Цезарь пришел к власти не потому, что жестоко попрал свободу, а потому, что римляне давно уже не хотели свободы. Они устали от бесконечных гражданских войн. Убив Цезаря, заговорщики лишь положили начало новой смуте, обрекая сограждан на страдания. Они отняли у людей тот «счастливый покой», по которому римляне втайне тосковали. Его вернет полтора десятка лет спустя новый диктатор – Октавиан Август.
Брут был душой заговора, его движителем. Не случайно его жизнь в памяти потомков разделилась на две столь неравные половины: долгую, не интересную всем жизнь римского «чиновника» и короткую жизнь «политического герострата», который ради своих надуманных идеалов «поджег» государство, с таким трудом выстроенное Цезарем. Брут-человек был пренебрежительно описан Плутархом и его последователями. Брут-герой был ими проклят. «Спасенный милостью Цезаря […] считаясь другом Цезаря, который ставил и ценил его выше многих других, он сделался убийцею своего спасителя» (Плутарх. «Брут», 56 (3).
Но мы все-таки заглянем в эту густую тень, что легла на первые 40 лет жизни Брута, чтобы понять мотивы его действий. Ведь это предателем можно стать случайно, в одночасье, не подозревая в себе этого «качества души». Чтобы стать героем, каким и мнил себя Брут, надо было стремиться к этому всю жизнь.
Уже в молодости, за десять с лишним лет до убийства Цезаря, Брут был ярым противником одного из триумвиров – Помпея, считая, что тот приказал убить его отца. Однако карьера его складывалась поначалу спокойно. В 58 г. до н. э. он сопровождал своего дядю – Катона Младшего, когда тот был отправлен на Восток с щекотливым поручением – присоединить к Римской республике остров Кипр, входивший в состав птолемеевского Египта.
Когда два года спустя Брут вернулся в Рим, он успел обзавестись многими нужными связями в Малой Азии и на Ближнем Востоке, а также заметно поправил свои финансовые дела. Он и сам стал важным лицом. Отныне правители и олигархи греческих и азиатских городов, приезжая в Рим, обращались к Бруту, если хотели чего-то добиться. Он помогал. И только мы, строгие цензоры античной демократии, увидели бы в поведении Брута, «апологета свободы», коррупционную составляющую.
Тем временем возможности Брута, равно как и его политические аппетиты, заметно возросли после женитьбы на дочери видного римского аристократа Аппия Клавдия Пульхра. В 53 г. до н. э. Брут стал квестором, а затем отправился на Восток, чтобы управлять финансовыми делами своего тестя, наместника Киликии (римская провинция на юго-востоке Малой Азии).
Когда он снова вернулся в Рим, Рим был на грани гражданской войны. Поговаривали, что Помпей подстрекает банды, хозяйничавшие теперь в городе (как еще недавно – пираты в Средиземном море), чтобы затем явиться римлянам как спаситель. Железной рукой навести порядок (и разве не он очистил от пиратов море?) и царствовать затем в Риме, словно восточный деспот. Помешать ему мог бы лишь Цезарь, но тот увяз в своей Галльской войне, высланный в Галлию, как в почетную ссылку.
Казалось бы, в назревавшей войне между Цезарем и Помпеем, Брут непременно должен был поддержать первого, поскольку для него не было страшнее поворота судьбы, чем скорое торжество врага, растоптавшего его семью. Но это была не его война, а потому с завидным равнодушием он успел побывать на обеих сторонах.
Брут начал войну, к удивлению многих, на стороне Помпея, но, когда тот был разгромлен при Фарсале, бежал от него, «незаметно выскользнув какими-то воротами и укрывшись на болоте, залитом водою и густо поросшем камышами» («Брут», 6), и направился к Цезарю. Так равнодушная змея переползает с одной освещенной солнцем поляны на другую, едва лишь первая погрузится в тень.
Но когда эта «чужая война» окончилась победой Цезаря, Брут в одиночку, с ловкостью и хитроумием, повел свою тайную войну. Не успев прежде свергнуть Помпея, он всю свою нерастраченную ярость, всю политическую ненависть вложил в заговор против Цезаря.
Круг заговорщиков оказался странно широк. Это лишний раз убеждает, что Цезарь захватил власть над Римом, поправ все законы – и нажив очень много врагов и завистников. Диктатор надеялся своими благодеяниями задобрить римскую элиту. Однако его расчеты не оправдались. Римские аристократы презирали его подачки.
Фактически Цезаря убили лишь потому, что он был. Его жестокое убийство было реакцией на его правление. Его убийцы, пишет немецкий историк Ульрих Готтер, автор очерка «Marcus Iunius Brutus – oder die Nemesis des Namens» – «Марк Юний Брут, или Немезида имени» (2000), были «закоренелыми реакционерами».
Все эти староримские патриции, составлявшие круг заговорщиков, в глубине души с пренебрежением относились к любым попыткам Цезаря заручиться их поддержкой, подкупить их, назначая на выгодные «хлебные места». Что при республике было в радость, при диктатуре Цезаря рождало лишь ненависть. Восстановить былые законы, «жить по-старому» – таким было кредо заговорщиков. Единственным средством переустройства римской политической системы осталось для них убийство. Цезарь должен был умереть, чтобы спокойно жили и заговорщики, и он, Брут.
Друг и любимец Цезаря, Брут уже одним своим присутствием ободрял заговорщиков. Они верили в справедливость своей затеи, раз даже люди из ближнего окружения Цезаря теперь на их стороне. Воодушевляли и обнадеживали также связи Брута, хорошо знакомого с римскими политиками из самых разных кругов. Чем прочнее было положение их Брута, тем больше было надежд на то, что даже в случае неудачи голову удастся сохранить.
Исход заговора был совсем не ясен. Цезарь приблизил к себе многих искренне верных ему людей. Скорее всего, его выдвиженцы будут поддерживать и продолжать его дело и постараются истребить заговорщиков.
И вот теперь перед ними лежал окровавленный труп тирана. Был полдень. С оружием, обагренным кровью, убийцы направились на Капитолийский холм. Сделав, как им мнилось, лучшее, к худшему они приготовились.
И предчувствия их не обманули. Освобожденный народ Рима не высыпал в восторге на улицы. Бруту все же удалось собрать небольшую толпу, но холодная, сдержанная манера говорить, присущая ему, оттолкнула слушателей. Среди сенаторов нашлись сторонники заговора, но число их было невелико.
Заговор, начатый так решительно, скоро остановился. Уже к вечеру того же дня, 15 марта, заговорщики полностью потеряли инициативу. Они теперь не устрашали своих врагов, а пугались каждого их действия. Не расправлялись с ними, а убегали от них. Не переустраивали жизнь «на принципах разума», понятных им, а эту неразумную жизнь свою спасали, гонимые бедой и судьбой.
Беда была прежде всего в том, что Брут был добр к римлянам. Он настоял на том, чтобы заговорщики, убив Цезаря, пощадили его ближайших друзей. Так, по милости Брута, сохранил жизнь консул Марк Антоний.
Брут милосердием хотел предотвратить гражданскую войну. А фактически сделал все, чтобы разжечь ее. Теперь отомстить за убийство тирана было кому.
Марк Антоний призвал ветеранов, воевавших под началом Цезаря, прибыть в Рим. Марк Эмилий Лепид, верный цезарианец, командир единственного легиона, расквартированного тогда в Риме, также готовился вступить в бой.
Но пока начались переговоры с убийцами. Брут встретился с Лепидом, Кассий – с Марком Антонием.
Семнадцатого марта убийцы и друзья убитого заключили в Сенате сделку. По сути, она не устроила ни тех, ни других.
Убийцы, немедленно амнистированные Сенатом, теперь должны были претворять в жизнь решения, принятые Цезарем. Тиран был убит. Тень его еще плотнее легла на Рим. Но все же худому миру радовались в тот день почти все, ибо за последние полвека римляне слишком хорошо усвоили, как страшна гражданская война. Сторонники же Цезаря сознавали, что их покойный патрон пришел к власти как тиран и, по римской традиции, заслуживал смерти.
Республика была восстановлена, но вскоре стало ясно, что главным бенефициаром переворота стал не Брут, не Кассий, не кто-либо еще из заговорщиков, а Марк Антоний, уже мнивший себя новым Цезарем. Виртуозный демагог, он прилюдно сокрушался, что война готова вернуться в Рим, и картинно мешал этому, примиряясь с заговорщиками. Но в глубине души думал совсем о другом. Миролюбивый златоуст втайне готовился к войне. Своей неуемной энергией, своей железной хваткой он, будущий «царь Египта», и сломил хребет заговору.
Едва по прошествии трех дней бренное тело Цезаря было предано огню на римском Форуме, как охота на заговорщиков началась. В большинстве своем те этого ждали и успели бежать из Рима. Примирение было попрано. Пламя ненависти теперь могло обжечь каждого. Распаленная толпа перепутала поэта Цинну с одним из заговорщиков и «растерзала в клочья» («Брут», 20).
Стало окончательно ясно, что планы заговорщиков потерпели крах. Цезарь был мертв, но торжествовали цезарианцы. Сторонники республики спешно рассеялись по стране.
Их судьбу предрешило завещание Цезаря. Оказалось, что он усыновил внучатого племянника Гая Октавиана, впоследствии принявшего имя Августа. Завещание внесло раздор в ряды сторонников Цезаря. Теперь за власть в осиротевшем государстве стали ожесточенно бороться два честолюбивых политика: приемный сын Цезаря и его друг. Октавиан и Марк Антоний. И каждый из вождей стремился показать свою силу и власть. Показать в борьбе с заговорщиками. Летом 44 г. до н. э. вожди заговора, Брут и Кассий, покинули Италию, поскольку даже в своих поместьях находиться им было очень опасно.
Брут отправился в Афины. Но ему недолго пришлось разыгрывать роль философа, отрешенного от мирской суеты. Война наконец началась.
К июлю 42 г. до н. э. Брут и Кассий собрали в восточных провинциях Римской державы 19 легионов. В октябре на равнине в окрестности македонского города Филиппы состоялось решающее сражение между сторонниками Цезаря и республиканцами.
Ночью, в канун битвы, Бруту привиделся великан. Брут заговорил с призраком, стремясь отогнать мрачные предчувствия, но услышал от него: «Я твой злой гений, Брут, ты увидишь меня при Филиппах» («Брут», 36).
Сражение, в котором участвовали около 200 тысяч человек (большей частью римляне), шло с переменным успехом. Войска Марка Антония смяли крыло, которым командовал Кассий, зато Брут сумел захватить лагерь триумвиров – Октавиана, Марка Антония и Марка Эмилия Лепида (вожди так называемого второго триумвирата. – А. В.).
Это неустойчивое равновесие сломил один удар, нанесенный по приказу Кассия. Утратив веру в успех, он велел слуге заколоть его, оставив армию республиканцев без руководства. Словно злой гений и впрямь колдовал над Брутом: тот опять упустил победу, которую держал в руках.
Три недели спустя состоялась новая битва. Накануне призрак вновь посетил Брута и молча ушел от него. В день сражения немалая часть его войска бежала, сдавшись на милость противника. Сам Брут последовал путем Кассия – бежал «с помощью рук, а не ног» («Брут», 52), в отчаянии бросившись на меч, который держал в руках его друг.
«И ты, сын мой?» — с горечью сказала ему, наверное, тень Кассия. «И ты, сын мой!» — с торжеством молвила тень Цезаря.
В день смерти Брута окончательно умерла и Римская республика. Ей уже не суждено было возродиться. Отныне все заговорщики в Риме преследовали одну-единственную цель: стать новым императором. Другой власти в Риме уже не мыслили.
Вар, Вар, верни мне мои легионы!
9 г.
Новости из северной провинции были ужасны. Вот уже более полувека, со дня гибели Красса, потерявшего армию в войне с Парфией, римские легионы отправлялись в поход лишь за победой. Но теперь ожидаемый триумф сменился трагедией.
В сентябре 9 г. на правом берегу Рейна, уже осененном крылами римского орла, но еще не замершем замертво в его когтях, три римских легиона в полном составе были истреблены своими союзниками – германцами (для справок: в то время во всей римской армии насчитывалось два с половиной десятка легионов). Коварный мятеж дикого племени залил кровью скрижали римских побед. Командовавший легионами Публий Квинтилий Вар, будучи не в силах снести поражение, «принял смерть от руки вольноотпущенника, которого сам к этому принудил» («Римская история», кн. II, LXXI), сообщал современник тех событий Веллей Патеркул.
В Риме эхом предсмертных криков легионеров отозвались слова старого императора Августа: «Вар, Вар, верни мне мои легионы!» – или, как писал Светоний: «Квинтилий Вар, верни легионы!» («Божественный Август», 23). Такого поворота событий никто не ожидал. Считалось, что римская армия, оккупировавшая правый берег Рейна, была в безопасности, ведь германские племена замирились с римлянами.
Страшно было узнать и имя вождя бунтовщиков, одним движением руки обрекшего на смерть тысячи римских солдат. Это был… римский герой Арминий, вождь германского племени херусков, правивший всеми землями, что лежали между реками Эльба и Везер, а также Гарцем. Под его началом находились 200 тысяч человек, верных Риму. Арминий, родившийся в 17 г. до н. э., был римским гражданином и солдатом империи. Сам император отметил его за доблесть особой почестью – причислил к сословию всадников.
И если этот благородный человек оказался предателем – заманил три легиона в западню и велел перебить таких же, как он, солдат и офицеров, – то, что ожидать от простых германцев? Узнав об измене, всегда осторожный Август велел сменить своих германских телохранителей.
Но он же, император Август, за два года до этого и положил начало грядущей кровавой вражде римлян и северных варваров. В 7 г. он назначил сенатора и полководца Квинтилия Вара наместником над Германией. Прежде тот был известен тем, что жестоко подавил мятеж в Иудее (4 г. до н. э.).

Пленные римские воины под ярмом у германцев.
Художник Марк Глейр. XIX в.
И ведь там же, на Ближнем Востоке, он проявил себя – и далеко не с лучшей стороны. Тот же Веллей Патеркул, вспоминая пору его правления в Сирии, приправил свой отзыв о Варе аттической солью: «Бедным он вступил в богатую страну, а вернулся богатым из бедной» («Римская история», кн. II, CXVII).
Прибыв на берега Рейна, где вот уже два десятка лет стояли римские легионы, он проявил себя столь же беспринципным человеком, вовсе не понимавшим, что манера его правления граничит с безрассудством. К тому времени римские войска осмелели и все настойчивее пытались закрепиться на правом берегу Рейна. В 4 и 5 гг. приемный сын Августа, будущий император Тиберий, со своими легионами совершил поход к Эльбе. Там он соединился с римской флотилией, доплывшей по Северному морю до устья Эльбы, чтобы затем подняться вверх по течению этой реки.
Германцы, жившие на правом берегу Рейна, спокойно отнеслись к появлению римлян. Торговали с ними, снабжая легионеров мясом и пивом, овощами и фруктами, сандалиями и поясами. Радушные хозяева не только пускали к себе на постой оккупантов, но и помогали им заполучать белокурых германок.
Эту мирную, провинциальную идиллию Вар разрушил своими неумными действиями. Его самодовольство не знало границ. Он мнил, что римляне так сильны, что могут не считаться с северными варварами.
Вар обложил германцев налогами, в том числе ввел натуральные подати. Судебную власть над ними он взял на себя. Внезапно германцы увидели, что их права и свободы растоптаны жестокой римской пятой. В самом суде, который вершили захватчики, мнилось что-то колдовское, враждебное вольным детям лесов и полей. Основанное на формальных принципах римское судебное право, в том числе право собственности, было им непонятно. Сухие строки римских законов никак не сочетались с их представлениями о долге и чести, с их принципами кровной мести, с их лихостью и удалью, их любовью к подвигам и грабительским походам. Правила жизни германцев были пропитаны кровью. В римском праве I в. кровь, питательная среда чести и справедливости древних народов, давно высохла. Ее с успехом заменили чиновничьи чернила. Это-то и было в римском праве непонятно и чуждо и рядовым общинникам германцев, и одному из их вождей – Арминию.
Чванливый Вар восстановил против себя херусков еще и тем, что видел в них «варваров и только варваров». Всем своим отношением к ним он выказывал, что в них нет «ничего человеческого, кроме голоса и тела» («Римская история», кн. II, CXVII). Херуски платили ему той же монетой – презрением, мечтая вернуться к старым порядкам.
Выразителем их воли к свободе и стал Арминий. Он лично знал Вара и, будучи вождем, не раз был приглашен к римскому полководцу. Историки I–III вв. сохранили немало колоритных воспоминаний очевидцев, запросто видывавших будущую «грозу Рима». Эти мгновенные портреты «изверга-героя» можно встретить в сочинениях и Веллея Патеркула, и позднейших римских историков – Диона Кассия и Тацита. Последний, к слову, сто лет спустя писал, что «у варварских племен его (Арминия. – А. В.) воспевают и посейчас (Тацит, «Анналы», II, 88).
Однако короткие зарисовки античных авторов все-таки не заменят скрупулезной работы биографов. Приходится признать, что о жизни Арминия, ставшего почти 2000 лет спустя национальным героем Германии, нам ведомо очень мало.
Похоже, он с детства был знаком с римскими порядками, жил в Риме. Вполне возможно, получил воспитание, достойное царского сына, учился в школе для знатных детей на Палатинском холме, неподалеку от резиденции императора Августа. Несомненно, юный Арминий был потрясен увиденным. Он был в крупнейшем городе той эпохи, столице империи, охватывавшей почти весь известный римлянам мир – от Парфии на востоке до Геркулесовых столбов (Гибралтара) на западе и Британии на севере. В этой империи проживали, по современным оценкам, около 50 миллионов человек. Общую же численность германских племен, еще не покоренных римлянами, те же историки оценивают в 3–4 миллиона человек.
В самом Риме было около миллиона жителей. В центре города уже тогда высились громадные здания, волновавшие воображение любого уроженца диких чащоб и долин. Например, театр Марцелла (а Колизей еще не был построен) уходил ввысь на 33 метра, являя собой рукотворную каменную гору. На его трибунах хватало место для 10 с лишним тысяч зрителей.
На месте Пантеона стоял монумент, возведенный в честь Августа, – Алтарь Мира, украшенный рельефами из каррарского мрамора. Мавзолей Августа, достигавший в поперечнике 89 метров, должен был возвестить грядущим поколениям, что империя, созижденная им, нерушимо простоит многие века. Увы, эта и другие постройки давно сметены вихрем времени, не жалующим ни империй, ни царей.
Знатные римляне, в окружении которых рос юный заложник Арминий, проживали в громадных каменных зданиях. Как отличались те от убогих глиняных и деревянных построек в родных германских селениях! Разве молодому варвару не хотелось при виде этих красот стать гражданином Рима, солдатом его легионов? Все, что он видел в Риме, воспринималось как сон. Сказочный сон…
Юный варвар и впрямь поступил на военную службу. Но здесь словно завеса секретности окружила его. Немецкий историк Эрнст Холь, автор очерка «Zur Lebensgeschichte des Siegers im Teutoburger Wald» – «К биографии победителя битвы в Тевтобургском лесу» (1943), предположил, что вместе с римскими легионами будущий вождь херусков побывал в Армении, что и объясняет его необычное имя: Арминий. Однако других доказательств этому нет. Больше похоже на правду, что в 6 г. он участвовал в походе на Паннонию (сегодня – территория Венгрии). Там пять римских легионов вели войну против местных племен. В каждом легионе было по 5500 солдат. Одного из них, возможно, звали Арминий-херуск.
Если будущий вождь антиримского восстания и воевал в Паннонии, то, как предположил американский историк Питер Уэллс, автор книги «Die Schlacht im Teutoburger Wald» – «Битва в Тевтобургском лесу» (Нем. изд. 2005), он мог вынести из этой войны «два важных наблюдения». Во-первых, «римские войска во время похода слишком растягиваются», а, значит, их строй можно рассечь несколькими смелыми ударами и окружить отдельные группы легионеров. Во-вторых, полудикие племена «могут на равных сражаться с римскими легионами».
Известно, что во время той войны варварам удалось заманить римлян в болотистую местность в окрестности современного Белграда и внезапно напасть на них. Если Арминий был очевидцем тех событий, это стало серьезным уроком для него, полагает Уэллс. Может быть, именно тогда верный солдат империи превратился в ее злейшего врага.
В сентябре 9 г. тысячи тайных сторонников Арминия были дислоцированы на правом берегу Рейна, в местности, лежащей между современными городами Падерборн и Оснабрюк. Сам же он все это время, пока шла подготовка к восстанию, был при Варе тем же, кем Брут при Цезаре, – если уж не другом, то ближайшим советником. Он регулярно встречался с римским полководцем, бывал у него дома, образцово выполнял его поручения – делал все, чтобы природная подозрительность, присущая любому военачальнику, в душе Вара рассеялась и угасла. Арминий хотел воевать с римлянином, к войне совсем не готовым.
План удался. Правда, заговорщиков, как водится, в последнюю, решающую минуту пытались предать. Тацит сообщает, что тесть Арминия, Сегест, не раз хотел предупредить Вара о грозящей ему беде. «В последний раз он говорил об этом на пиршестве, после которого германцы взялись за оружие» («Анналы», I, 55). Но римский полководец пренебрегал «этой клеветой». Назвать его ближайшего помощника Арминия «предателем»? Устами доносчика глаголет жалкий завистник.
Вара заинтересовала другая новость. Он узнал, что одно из отдаленных германских племен замышляет отпасть от Рима. Он решил немедленно подавить восстание.
Так Вар принял роковое решение отправить 17-й, 18-й и 19-й легионы, а также вспомогательные части в глубь Правобережной Германии. Около 30 тысяч человек узкими лесными тропами отправились в уготованную им западню. Врагов они вскоре нашли – только не тех, кого ожидали, и не там, где собирались искать.
Легионы растянулись на добрый десяток километров. Сильный ветер и дождь затрудняли движение. Вода размыла дороги, солдаты увязали в грязи. Лес стеной окружил их с обеих сторон. Для уроженцев солнечной Италии все было чуждо в этой стране – и ее природа, и несносный климат.
Но римлян ждало и нечто худшее. В районе Калькризе, близ Оснабрюка, тысячи германских воинов уже ожидали захватчиков. Они прятались за валами из дерновины – тактика, которую германцы подсмотрели у самих римлян. Внезапно в толчею из понуро шедших легионеров полетели сотни копий. Из-за сутолоки, воцарившейся среди римлян, им было трудно даже поднять свои громоздкие щиты, чтоб оборониться от смертельных ударов. Крики боли и отчаяния оглашали неумолимую чащобу.
На стороне Арминия пусть и было почти вдвое меньше воинов (18 тысяч), но неожиданной атакой и быстрым истреблением множества римлян он уравнял силы, а поскольку его находившимся в укрытии, четко организованным воинам противостояли охваченные паникой, беззащитные, израненные люди, превосходство Арминия было неоспоримым. Словно косами траву, германцы выкашивали легионеров.
Сражение, вошедшее в историю как битва в Тевтобургском лесу, было очень долгим и кровавым. Она продолжалась четыре дня (ровно столько шло истребление отставших римских частей, которые, ничего не подозревая, постепенно подтягивались к месту, где днями раньше были убиты их соратники). Многие тысячи римлян пали на поле боя. Некоторые, спасаясь от смерти, выбирали себе смерть более мучительную – бежали к болоту и медленно тонули там.
Римлянам дорого стоили «несообразительность и малодушие вождя» (Т. Моммзен. «История Рима», т. 5). Их легионы были уничтожены подчистую. Немногочисленных пленников отвели в глубь леса. Там под радостные крики германцев всех их казнили, принеся в дар богам, пославшим великую победу.
Место казни было объявлено «священной рощей». Голову Вара, как и боевые значки разгромленных легионов (они заменяли римлянам знамена), германцы взяли с собой. Это был их величайший трофей.
Разумеется, война против римлян лишь начиналась. По всей Правобережной Германии ждали их яростной мести. Слова «Вар, Вар, верни мне мои легионы!» были словами горечи и боли, а не возгласами отчаяния и бессилия. Старый император Август, прежде всегда побеждавший врагов, начал тотальную войну против германцев.
Был объявлен новый набор в римские легионы. Положение казалось настолько тревожным, что в казармы стали загонять даже бедноту, римских люмпенов. Боялись скорого вторжения мятежных германцев в соседнюю Галлию, лишь полвека назад завоеванную Римом. У спешно набранных легионов задача была одна: для начала удержать границу на Рейне.
Лишь через несколько лет римляне, оправившись от разгрома, решились вновь повести войска на другой берег Рейна. Командовал ими один из самых блистательных римских полководцев – 29-летний Германик, приемный сын Тиберия и отец будущего императора Калигулы. Однако и ему было не по силам вновь покорить Германию, хотя в 14 г. 12 тысяч римских легионеров под его началом переправились через Рейн и прошли Германию вплоть до Везера, опустошив всю страну. Однако и эта великая резня, учиненная римлянами, резня, в которой они не щадили ни стариков, ни детей, ни женщин, ни безоружных, не сломила германцев. Вся правобережная часть Германии, уходившая далеко на восток и терявшаяся среди бескрайних лесов, была для империи утрачена навсегда.