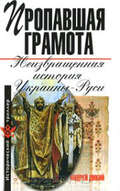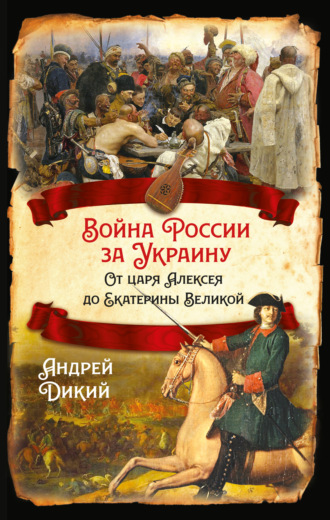
А. И. Дикий
Войны России за Украину. От царя Алексея до Екатерины Великой
Борьба за освобождение Украины
Сигизмунд-Август умер вскоре после Люблинской унии (1572 г.). После его смерти королем Речи Посполитой был избран французский принц Генрих Валуа (1573 г.), но вскоре он бросил Польшу и уехал во Францию, чтобы стать там королем, а оставленная им Речь Посполитая Польская, после двухлетнего междуцарствия, избрала своим королем Стефана Батория (1576–1586). Блестящее для Речи Посполитой десятилетнее правление Батория, победившего Ивана Грозного и отобравшего у Москвы Полоцк, для Украины было временем относительно либеральной политики в религиозном и национальном вопросах. «Я король над людьми, а не над их совестью», – заявил Баторий и старался всемерно проводить в жизнь эти слова.
Другое его мероприятие, проводившееся на Украине, – это всемерная поддержка и организация самотеком возникшего еще в конце XV века украинского казачества.
Возникновение, рост и роль украинского казачества в дальнейшей судьбе Украины настолько огромно и решающе, что на нем надо будет в соответствующем месте остановиться более подробно. Сейчас же ограничимся указанием на исключительно благоприятное отношение Стефана Батория к украинскому казачеству и его содействие в отношении устроения казачества как организованной военной силы.
Со смертью Батория кончились и дни относительного облегчения для Украины и хороших взаимоотношений с украинским казачеством.
Сигизмунд Ваза
Выбранный королем Речи Посполитой шведский королевич Сигизмунд Ваза (1587–1632) по отношению к Украине, под влиянием католиков, повел наступательную политику с целью поскорее окатоличить ее население.
И его почти полувековое правление, которое поляки считают блестящим, было временем далеко не блестящей жизни для его подданных не-католиков и ознаменовалось многочисленными восстаниями последних.
Кроме того, упоминая о Сигизмунде III Вазе, нельзя обойти молчанием упущенную им возможность объединения с Москвой. В годы Смутного времени Москва выбрала своим царем сына Сигизмунда III – Владислава, с одним условием, чтобы он принял православие, и присягнул ему на верность. Но Сигизмунд запретил своему сыну и наследнику переход в православие и тем сорвал дело сближения и, возможно, слияния в будущем Москвы и Речи Посполитой, которое, если бы оно осуществилось, могло изменить всю будущую историю этих двух государств и народов.
По одним источникам, это решение Сигизмунда было вызвано его желанием самому стать царем московским, по другим – оно было принято под давлением фанатически непримиримых к православию католических кругов, рассчитывавших путем унии быстро распространить католичество на востоке. В результате же, независимо от мотивов решения, была упущена посланная историей совершенно исключительная возможность, которая, несомненно, принесла бы благотворные плоды и для русских, и для поляков, если бы она была осуществлена.
Брестская уния
Брестской унией чисто политической руководители политики Речи Посполитой начали подготовку и к унии религиозной, которая, по их замыслам, должна была сначала приблизить православие к католицизму, а потом и окончательно поглотить первое последним. Этим, кроме осуществления вековечного стремления католичества к расширению на восток, они надеялись отвратить все усиливающееся под влиянием польско-католического наступления тяготение Украины к единоверной и единокровной Москве.
Тяготение это особенно усилилось с ростом деятельности братств, ставших центрами борьбы не только с католическим наступлением, но и с православными епископами, тесно связанными своими материальными интересами с магнатско-шляхетской феодальной системой, угнетавшей простой народ.
С согласия и одобрения Сигизмунда III и высшего католического духовенства Речи Посполитой православные епископы Кирилл Терлецкий и Игнатий Поцей отправились в Рим к папе Клименту VIII и договорились с ним об основных принципах унии (объединения) церквей католической и православной.
После этого король Сигизмунд созвал в г. Бресте в 1596 году собор из представителей (высших) католического и православного духовенства и мирян для оформления унии, которая и была, несмотря на протесты православных, провозглашена, и немедленно было приступлено к проведению ее в жизнь.
Униаты признали своим главой папу Римского и приняли основные догматы католической церкви. Но, зная настроения православных масс и их враждебное отношение к католицизму, инициаторы унии прибегли к одному трюку для введения в заблуждение этих масс, слабо разбиравшихся в догматических вопросах, но твердо знавших и свято чтивших и оберегавших обрядовую сторону православия. В новой униатской церкви, католической по существу и догматам, они сохранили присущие православию церковно-славянский язык при богослужениях и все обряды. Униатским епископам были обещаны места в сенате, a все униатское духовенство было освобождено от налогов и податей.
Всех не принявших униатства правительство Речи Посполитой объявило еретиками. Началось преследование православных.
Уния усилила влияние польской шляхты на Украине и вызвала немало переходов православной шляхты в униатство и ее ополячивание. Но она наткнулась на горячий и решительный отпор со стороны широких народных масс.
Католикам не удалось ввести их в заблуждение сохранением православной обрядности в униатстве. Братства, низшее духовенство, а частично и высшее, – разъясняли народу сущность униатства и тем предостерегали от фактического перехода его в католичество, каковым был переход в униатство.
Уклонялись от перехода в униатство и часть православной шляхты и даже несколько крупных магнатов (князь Острожский, Кисиль, князь Корецкий, князь Четвертинский и другие).
В результате, вместо безболезненного захвата католичеством Украины, на что рассчитывали инициаторы унии, началась ожесточенная религиозная борьба.
Униатские епископы, при поддержке польского правительства, захватывали православные церкви и монастыри и препятствовали православным богослужениям и совершению обрядов. На православных мирян производилось всяческое давление, до применения физического воздействия включительно, чтобы заставить их перейти в унию. В городах не принимались в цехи или исключались из них православные ремесленники и тем, фактически, лишались возможности заработка, ибо заниматься ремеслом вне цеха было воспрещено. В селах же и деревнях православные церкви, стоявшие на землях шляхты (а владеть землей могла только шляхта), сдавались в аренду евреям, и арендаторы каждый раз за открытие церкви для совершения богослужений и треб взимали особую плату.
Православных монахов ловили, заковывали в кандалы и сажали в тюрьму. Жаловаться же было некому. Православный митрополит Рогоза, возглавлявший православную церковь на Украине, сам перешел в унию, как и значительная часть епископов. Только епископ Львовский – Балабан, и епископ Перемышльский – Капустинский остались верны православию и мужественно за него боролись.
Правительство же Речи Посполитой не только оставалось глухим ко всем жалобам своих православных граждан на бесчинства униатов, но и всемерно эти бесчинства и беззакония поддерживало и в них участвовало.
Сохранилось много исторических документов и свидетельских показаний того времени, являющихся страшными обвинительными актами против польско-католической агрессии при попытке насаждении унии на Руси-Украине. Например, на польском сейме, в присутствии короля депутат от Волыни, православный шляхтич Древницкий говорит: «В Могилеве, в Орше и Пинске церкви позапечатаны, священники разогнаны, Лещинский монастырь превращен в кабак; дети умирают без крещения; тела умерших вывозятся как падаль, без церковного благословения; народ живет в распутстве, невенчанный; умирает без Св. Таин… А что делается во Львове? Кто не принимает унии, тот не может жить в городе, заниматься торговлею, быть принятым в ремесленные цехи. А в Вильно? – Монахов, непреклонных унии, ловят, бьют и в кандалы заковывают. Тела умерших православных заставляют вывозить только через те ворота, через которые вывозят только нечистоты… Коротко сказать, великие и неслыханные притеснения русский наш народ, как в Короне, так и в Великом Княжестве Литовском, переносит»… Говорит это шляхтич в присутствии короля. А как реагировал на это народ, повествует другой документ – мемуары одного современника, православного шляхтича с Киевщины – Хоревича: «А що еще и найсумнейше (найприскорбнее) было в тых борбах, що православныи Русины, огорченные як наибольше против тых своих же братей Русинов, которые унию приняли, зненавищели и их еще горше, чем наветь тех не-Русинов, що первыи унию выдумали и вводили, называли их гневно «перекинчикам» и в часе народных борьбе грозно над ними за отступство их от давнои русской веры мстились».
И действительно, многочисленные документы свидетельствуют, с какой исключительной жестокостью расправлялось православное население Украины во времена освободительной борьбы со своими же украинцами ренегатами, перешедшими в унию.
Во времена казацких восстаний малейшего подозрения не только в принадлежности к унии, но даже в симпатии и в содействии ей было достаточно, чтобы попасть на кол, быть повешенным или изрубленным казацкими саблями в куски.
Отношение это к униатам настолько глубоко вошло в народное сознание украинцев, что в известной степени сохранилось и до настоящего времени и служит трудно преодолимым препятствием к взаимопониманию между униатами с Западной Украины и основной массой украинского народа, сумевшего отстоять свою православную веру и не поддаться влиянию польской культуры.
Брестская уния не только внесла вражду на почве религиозной и не только содействовала взаимному отчуждению пошедшей за унией незначительной части населения Украины от его основной массы, но и имела последствия в социальной структуре и взаимоотношениях отдельных классов. Разного рода преимущества и привилегии униатам и католикам быстро толкнули подавляющую часть шляхты, магнатов и наиболее зажиточное городское население на путь униатства, католицизма и неразрывно связанных с ними денационализации и ополячивания.
И вскоре весь правящий класс Украины, за редкими исключениями, полностью оторвался от народа, из которого он вышел, и начал окончательно сливаться с поляками.
Так, в результате унии, вместо слияния Украины с Польшей, о котором мечтали инициаторы и проводники унии, произошло окончательное и бесповоротное отмежевание, религиозное, национальное и социальное, не только Украины от Польши, но и от проводников ее колониальной политики на Украине, несмотря на их часто украинское происхождение.
На одной стороне стояли угнетаемые и притесняемые крестьяне, мещане, низшее духовенство и часть сохранившей православие шляхты; на другой – притеснители и угнетатели – поляки, окатоличенная русская, украинская местная шляхта, и католическое духовенство, и в значительной части высшее православное духовенство, которому был выгоден существующий социальный порядок.
Особняком, но определенно не на стороне угнетателей, стояло и большинство украинского казачества, своеобразной, неизвестной в остальных частях Речи Посполитой общественной группы, хорошо и крепко организованной и вооруженной. Оно и сыграло решающую роль в наступившей вскоре после введения унии освободительной борьбе Украины от польско-католического владычества. Поэтому на вопросе об украинском казачестве надо остановиться подробнее, чтобы понять смысл и развитие дальнейших исторических событий.
Украинское казачество
После татарского нашествия и разорения Киевской Руси в XIII в. богатейшие ее области к югу и к юго-востоку от Киева, по обеим сторонам Днепра, почти совершенно опустели. Постоянные набеги на эти области обосновавшихся в Крыму частей растаявшей татарской Орды делали нормальную мирную жизнь на этих землях почти невозможной. Разоренные татарами, цветущие когда-то города Киевской Руси не отстраивались, пустели и приходили в полный упадок. Вне городов лишь кое-где существовали разрозненные поселения под постоянной опасностью татарских набегов.
Земли эти в течение XIV века, как уже упомянуто, перешли под власть Великого Княжества Литовского. Но практически оно не могло освоить и использовать эти богатые, но пустынные земли, потому что не могло обеспечить от татарских набегов и охранять свои юго-восточные границы.
Возможность жить на этих землях охотой, рыбной ловлей и случайными грабежами как русских (украинских), так и татарских скотоводов, редких купцов и вообще мирных жителей, привлекала немало людей как с литовской и русской, так и с татарской стороны. Небольшими группами-отрядами бродили они по этим землям, нередко имея в одном отряде и татар, и славян и делая еще более трудной и опасной и без того нелегкую жизнь редкого и малочисленного населения. Назывались они казаками.
Со второй половины XV века общее положение на этих землях начинается быстро и резко меняться. Польско-католическое национальное, религиозное и социальное давление на православное население Украины вызывает бегство на южные и юго-восточные окраины всех не мирившихся с этим давлением. Были это люди активные, волевые, способные к борьбе.
Уйдя от власти часто целыми семьями, они оседают целыми селениями на тогда еще «вольных землях» и начинают заниматься привычным для них земледелием, охотой, рыболовством, бортничеством (добыванием меда и воска).
Но их мирному труду мешают нападения и набеги как татар, так и бродячих шаек отрядов, так называемых «казаков». Для отражения этих набегов и нападений население вооружается и начинает с ними успешную борьбу.
Организованные по военному, с выборными командирами, они быстро ликвидируют слабо организованные шайки «казаков» и отбрасывают татар на юг, обеспечивая этим относительно мирную жизнь в своих поселениях. Сами себя начинают называть казаками.
К концу XV века это самотеком возникшее казачество уже представляет из себя реальную силу и является центром пока что не организационным, а только идейным национально-религиозно-социальных устремлений населения Украины.
Формально, как и все население Украины, казаки были подданными Великого Князя Литовского, но фактически никаких обязанностей в начале своего существования по отношению к государству, чьими они были подданными, казачество не несло, ограничиваясь защитой своих поселений от набегов и грабежей татар. Но фактически, косвенно, оно было для Литвы весьма полезно, ибо, охраняя себя, охраняло также и границы государства. Поэтому правительство Польско-Литовского государства созданию и усилению казачества не только не препятствовало, но даже и содействовало.
И постепенно казачество росло. Не только количественно, но и качественно.
Соседство с татарами и беспрестанная борьба с ними не только нередко давала казакам богатую военную добычу, но и держала их в постоянном военном напряжении, что делало из них опытных воинов, хорошо знакомых с военным делом вообще и с особенностями войны с татарами в частности. Польско-Литовскому государству это было на пользу. А так как войны с татарами были войны с «нехристями» и с «бусурманами», то борьба с татарами приобретала религиозную окраску, была «богоугодным» делом.
Никем и ничем вначале казаки не стеснялись. Пока феодалы (шляхта, магнаты) не обратили внимания на эти богатые земли и не начали постепенно накладывать на них руку. И казаки устраивали свою жизнь по своему вкусу и усмотрению. Полная личная свобода, неограниченное и не отягощенное никакими налогами владение землей и ее плодами, свободно выбранное самоуправление, суд, полная равноправность всех казаков – вот те принципы, на которых казаки строили свою жизнь в ранний период своего существования.
Но этот период бесклассовой демократии, о которой так много пишут украинские шовинисты-сепаратисты, утверждая, что такой строй был вообще характерен для Украины, продолжался очень короткое время. И вовсе не на всей ее территории, а только в пограничных областях, граничащих с татарами и фактически бывших вне достижения органов правительства Польско-Литовской унии.
Вскоре, уже в начале XVI столетия, началось классовое разделение в рядах самого казачества, а также и попытки феодалов, начавших продвижение на юго-восток, превратить казаков в своих крепостных крестьян.
Создались классы зажиточных казаков, казаков-середняков и казачьей голытьбы. Выборные военные и административные должности все больше и больше захватывали более состоятельные казаки, чьи классовые интересы вовсе не были интересами и всего казачества. К тому же эта казачья верхушка все время пополнялась выходцами из православной шляхты с запада, бежавшей от национально-религиозного давления польско-католической агрессии. Казачьи же низы так же быстро пополнялись бегущими от тяжелого гнета крепостничества крестьянами западных областей Украины.
И к половине XVI века население и социальный строй южных и юго-западных окраин Великого Княжества Литовского уже окончательно теряет характер бесклассово-демократический, каковыми они были в конце XV века, и получает свое разделение на классы, с разными, свойственными каждому классу интересами.
Несмотря на то, что они были «уже заселены, земли на окраинах Великого Княжества Литовского формально считались «пустопорожними», и ими распоряжалось государство. От его имени Великий Князь щедро раздавал эти земли в вечное владение магнатам, шляхте и монастырям. Найдя на этих «пустопорожних» землях население, новые владельцы начали постепенно накладывать на них разные обязательства, стремясь ввести тот крепостнический гнет, который был в Польше, Галиции, Западной Волыни и Подолии.
Так создавался высший класс – магнаты, шляхта, католические и православные монастыри.
Горожане – мещане и ремесленники – начали облагаться разными повинностями, преимущественно денежными, в пользу тех, в сферу чьих владений попадали их городки и местечки. А кроме того, на них не был наложен ряд обязательств, подлежащих непосредственно государству. Посредниками при взыскании всяких повинностей все чаще и чаще начали выступать евреи, прибывшие вслед за магнатами и шляхтой. Желая и удовлетворить владельцев, и выделять побольше для себя за свою посредническую деятельность, они изощрялись в изыскании способов увеличить свои доходы, чем озлобляли городское население. К тому же они еще успешно конкурировали с городскими торговцами и ремесленниками, и также и по этой причине вызывали их недовольство.
Крестьян-землевладельцев, тех, которые еще не были крепко организованы в казачестве, новые владельцы попросту обращали в крепостных, сначала накладывали на них разные натуральные повинности: поставку владельцу-помещику разных продуктов крестьянского хозяйства (птица, мясо, зерно, сено, полотно). А потом, постепенно, начали вводить барщину («панщину») – обязательный труд в хозяйстве помещика. С ростом этих хозяйств, вызванных ростом спроса на сельскохозяйственные продукты, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, росло и количество дней барщины; начиналось оно с нескольких дней в году и, возрастая постепенно, к концу XVI и к началу XVII века в некоторых помещичьих усадьбах доходило до двухсот и больше.
Если прибавить к этому то обстоятельство, что крестьянин «находился в юрисдикции» магната, шляхтича или монастыря, то есть они творили над ним суд и расправу (до смертной казни включительно), то легко представить себе то положение, в котором очутилось православное крестьянское население Украины в результате национальной, религиозной и социальной польско-католической агрессии.
Казачество уже с начала XVI века представляло собой организованную военную силу, к тому же полезную и нужную государству для защиты границ. Поэтому полностью наложить на него свою руку и превратить в крепостных для магнатов и шляхты не было возможным, а для государства нецелесообразным. Да и казачество, как указано выше, вовсе не было однородной массой. Наряду с казачьей беднотой были и казаки, происходящие из православной шляхты, которые владели сравнительно крупными имениями, селами, хуторами, хозяйство в которых мало чем отличалось от хозяйств остальных помещиков. Кроме того, беднейшие и средние казаки имели разные обязательства по отношению к тем казакам, которые занимали разные должности – «ранги». Они должны были нести разные повинности «на ранг» (полковников, сотников, есаулов), причем граница, отделявшая повинности «на ранг» от повинностей по отношению к носителям «ранга» лично, были очень неопределенны и туманны.
Это вело к тому, что и среди казаков было немало недовольных существующим социальным порядком, в то время как казачья верхушка в основном была им удовлетворена и стремилась только к уравнению своих прав с правами католической (униатской) шляхты.
Положение же крестьян на монастырских владениях как католических, так и православных монастырей мало чем отличалось от положения остальных крестьян. Единственно, что монастыри не имели своими посредниками при реализации повинностей с крестьян евреев, в то время как очень многие помещики или сдавали в аренду (или на откуп) евреям свои права по отношению к крестьянам, или в деловых сношениях с крестьянами прибегали к евреям как к помощникам.
В результате таких сложившихся социальных и национально-религиозных взаимоотношений на Украине появляется стремление сначала от них освободиться, а потом против них и бороться.
Стремление освободиться привело к бегству за пределы достижения ненавистного строя и создания Запорожского казачества; а желание этот строй изменить на всей Украине – к освободительной борьбе, начавшейся в конце XVI века.
Бежавшие с Украины начали группироваться на нижнем течении Днепра, за порогами, и вскоре оформились в своеобразную военную организацию – «Запорожская Сечь». В отличие от казаков, живших в пределах Литовско-Польского государства, их называли «запорожскими казаками» или «запорожцами», а все войско – «Малороссийским Запорожским».
Сечь, по существу, была рядом укреплений («засек») с центром на одном из островов Днепра. В 80-х годах XVI века центр этот был на острове Томаковке; в 90-х годах он был перенесен на остров Базавлук.
Вся Сечь представляла собой некого рода вооруженный лагерь («Кош»), с выборным «кошевым атаманом». Кош делился на «курени» с выборными «куренными атаманами»; еще ниже шли «сотни» с выборными сотниками. Иногда же, в некоторые периоды, подразделений ниже «куреня» не было, и куренный атаман единолично руководил всем куренем непосредственно.
Дисциплина во время походов была строжайшая и подчинение своему выборному начальству беспрекословное. Женщины в Сечь не допускались совершенно.
Источниками существования запорожцев были война, охота и рыбная ловля, скотоводство и только отчасти земледелие.
Запорожцы нападали на татарские кочевья, грабили их и уводили скот, лошадей и пленных. Нередко на своих судах-«чайках» они спускались по Днепру в море и разоряли не только татарские города в Крыму, но и города турецкие на берегах Черного моря, доходя иногда до самого Константинополя.
В мирные периоды они занимались мирными промыслами в окрестностях Сечи (близких и более отдаленных). Начали возникать сначала временные поселения запорожских казаков, а потом и постоянные, в которых уже появились женщины, и казаки жили там семейной жизнью, не теряя, однако, связи с Сечью.
«Постепенно становилось прибежищем и центром для каждого, кому была невыносима жизнь на родине, для всех обиженных, которые переселялись туда с жаждой мести за себя и своих братьев на родине», – пишет летописец того времени.
Ничьей власти над собою Сечь не признавала, хотя Польско-Литовское государство и считало их своей территорией, и запорожцы считали себя борцами и защитниками «веры православной» против всех, кто на нее покушался. Поэтому их врагами были и «бусурмане» – татары и турки, и поляки-католики, стремившиеся ополячить и окатоличить их народ, население Украины.
Формально все запорожцы были совершенно равноправны, и на основании этого чисто формального признака украинские шовинисты-сепаратисты изображают Сечь как идеальное бесклассовое общество. Они приписывают ему не только идеальные стремления бороться «за веру православную» и справедливый, в их понимании, социальный порядок (что действительно было), но также и конкретные планы создания независимого «Украинского» государства (о чем никаких исторических доказательств в богатейшей литературе и в исторических памятниках нет никакого следа).
Что же касается утверждения о «бесклассовом» обществе в Сечи, то это утверждение шовинистов-сепаратистов опровергают многочисленные исторические документы, неопровержимо доказывающие, что отдельные запорожские казаки были владельцами немалых имений вне пределов Сечи. Так, например, сохранилась грамота польского короля, который в 1574 году отдал в вечное и потомственное владение запорожскому «шляхетному» (т. е. дворянского происхождения) казаку Ивану Омеляновичу большие земельные владения в районе Черкасс. Сохранились и документы о больших земельных владениях, которыми владели и запорожские казаки нешляхетского происхождения. Например, Григорий Лобода, купивший целое село, казак Волевач, имевший земли на Левобережьи, и много других.
Сохранились доказательства, что зажиточные казаки имели и зависимых крестьян. Так, в 1568 году шляхтич Белозор обязался вернуть казаку Богдану Звенигородскому, владельцу села Куриловки, его беглых людей «кметов Ивашка и Иванка,» как стоит в обязательстве.
Сам состав Сечи не был постоянным, а, в значительной своей части, текучий. Не только казаки, но и православная шляхта шли на более или менее продолжительные сроки в Сечь, учились там военному делу, принимали участие в набегах и походах, а потом возвращались к мирной семейной жизни.
Литературные образы Гоголя в его повести «Тарас Бульба» дает правдивую картину того, что представляла собою Сечь. И богатый владелец хутора Тарас Бульба, и пропивший все последний запорожец были равноправны в решении внутренних дел Сечи, но нельзя из этого делать выводы, что они были единодушны и в их взглядах на то, как надо решать вопросы социальных взаимоотношений. Вряд ли бы «владелец села» запорожец Григорий Лобода, или запорожец Волевач – собственники многих «местностей», согласились, чтобы кто-либо посягнул на их имущественные интересы.
Очевидно, что при наличии приведенных выше неопровержимых фактах (а их есть множество) утверждение о «бесклассовости» Сечи не отображает подлинной картины и нуждается во многих поправках.
Но в вопросах настроений и устремлений национально-религиозных Сечь действительно была единодушна, ненавидела поляков, татар и католиков и глубоко презирала своих ренегатов – униатов.
Ведя свою собственную политику, запорожцы принимали участие в войнах с татарами на стороне поляков; но, не спрашивая ничьего разрешения, сотрудничали и с врагом Польши – Москвой, когда последняя воевала с татарами.
Так, в 1556 году московское войско под начальством Ржевского пришло на реку Псел (на Левобережьи), построило суда и совершило на них поход по Пселу к Днепру против крымских татар. В этом походе к Ржевскому присоединилось два отряда казаков из окрестностей Канева и Черкасс под начальством атаманов Млинского и Еськовича.
В 1558 году российскими войсками был совершен новый удачный поход против крымских татар, опять с участием казаков. В этом походе всем войском командовал князь Вишневецкий, магнат с Украины, который несколько лет провел в Москве, занимая там (как видно из факта командования им всем войском) крупные должности. Позднее, вернувшись на Украину, Вишневецкий продолжал борьбу против татар и турок, попал к последним в плен и был казнен мучительной смертью: подвешен за ребро на железный крюк.
В украинском народе сохранилось немало легенд о его геройских подвигах и не менее геройской смерти. Вися на крюке, в ответ на предложение помилования, если он примет магометанство, Вишневецкий (Байда) продолжал славить веру православную и ругать Магомета.
Впоследствии его потомки приняли католичество, ополячились и стали жесточайшими гонителями православия и русского населения Украины.
В 1559 году русское войско под начальством Даниила Адашева (опять с участием украинских казаков) спустилось на челноках по Днепру, напало на многие татарские города в Крыму и освободило многочисленных пленных, как русских (великороссов), так и уроженцев Украины, Польской колонии.
В дальнейшем военные действия Москвы против татар были прекращены вследствие Ливонской войны, которую Москва вела с Польшей. Характерно, что в этой войне в составе русского войска находились также и украинские казаки. Так, например, в героической обороне Пскова (в 1581 г.) принимал участие и отряд казаков под командой Миколы Черкасского, который погиб во время этой обороны.
Появление русских войск на территории Украины произвело огромное впечатление на ее население. Оно напоминало ему о единстве происхождения, об общем враге – польско-католической агрессии и наметило пути для политических устремлений Украины в будущем.
К тому же и социальные взаимоотношения в Московском государстве и в Речи Посполитой привлекали симпатии широких масс Украины к Москве.
В централизованной Москве крупное боярство и князья все больше и больше ограничивались в своих правах. Мелкое дворянство, купечество, ремесленники, даже крестьянство были теми силами, на которых начинали опираться московские цари. Земские соборы, в которых принимали участие почти все слои населения, резко отличались от польских сеймов, где голос имела только шляхта. Крепостное право в Московском государстве было неизмеримо легче того полного бесправия, в котором находились крестьяне Украины. Польский шляхтич, даже его арендатор имел право предания смертной казни крестьян, как об этом свидетельствуют сохранившиеся арендные договоры XVI века.
И в то же время в Московском государстве каждый крестьянин имел право оставить своего помещика и переселиться на землю другого. При этом помещик не имел права не только его наказывать, но даже ему и препятствовать. Как известно, эти переселения обычно приурочивались к Юрьеву дню, который был отменен только на рубеже XVI и XVII веков в царствование Бориса Годунова в целях обеспечения рабочей силой одной из главных основ государства того времени – помещичьих хозяйств. Даже в самые жестокие периоды крепостного права русский помещик не имел права распоряжаться жизнью своих крестьян.
Обстоятельства эти, конечно, не были неизвестны крестьянским массам – основному населению Украины, – и пробуждало их симпатии к единоверной и единоплеменной Москве.