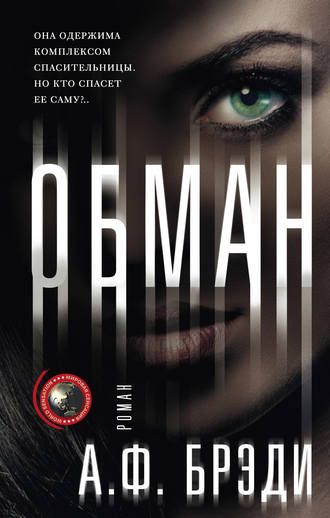
А. Ф. Брэди
Обман
Между нами и общими знакомыми не более чем четверть фута, но из-за того, что все посетители бара сжаты, словно сардины в банке, никто этого не замечает. Как и того, что Он просовывает руку и сжимает мою грудь. Я просто умираю, и Он это знает, и мне так нравится, как Он это делает… все, чего я хочу, – это стоять вот так, и пусть кто-то фотографирует, а Он шарит ладонями по моему телу, везде, везде, и потом увезет отсюда и сделает меня другим человеком, который будет гораздо лучше и никогда-никогда в жизни не оставит.
Потом все почему-то прекращается, и вот, не заметив как, я уже на улице и иду домой. Когда мы прощались, Он поцеловал меня в губы. Но мы все вечно целуемся в губы при встрече или когда говорим «до свидания», так что для того, кто заметил, это ничего не значит. Но раньше мы с Ним никогда так не целовались, и теперь мои губы горят огнем, и я ощущаю всепоглощающий вкус Мужчины и тащусь домой к Лукасу, но хочу развернуться и броситься к Нему в объятия, но тогда Лукас оставит меня, а я так не могу. И все-таки мне необходимо увидеться с этим парнем еще раз. Когда мы сможем это сделать? Для меня это уже миссия, я должна ее выполнить, и не важно, чего это будет стоить. Кстати, зовут Его Эй Джей. Даже не знаю, что это означает.
18 ноября, 12:03
Мы с Дэвидом сидим в его кабинете, едим ланч и прячемся от мира. Обычно он приносит что-нибудь из дома, и заканчивается все тем, что я краду у него половину. Или – иногда – мы идем в один из сэндвич-баров, которых так много на нашей улице. На углу всегда стоит фургончик с едой «халяль», и сегодня мы оба взяли себе рис с курицей. Как правило, мы обедаем в то же время, что и пациенты, и не важно, голодны мы или нет; просто так меньше шансов, что кто-то может заглянуть или припахать к какому-нибудь делу.
– Ты сегодня видел Джули на утреннем совещании? – спрашиваю я, ковыряя в зубах пластиковой вилкой.
– Да, видел. А что такое? Что она сделала?
– Она сидела и красилась прямо за сраным столом. И смотрелась при этом в зеркальце в пудренице «Шанель».
– Это имеет какое-то огромное значение?
– Она работает в психбольнице! Почему ее так заботит, как она выглядит? Это же просто смешно. Смешно и жалко.
Дэвид смеется.
– А ты кроме шуток ее ненавидишь, а?
– Я никого не ненавижу. Просто я думаю, что она глупая и ей здесь не место. Ей надо работать в «Блумингдейлз»[8].
– Ты никогда не бывала на ее групповых сеансах?
– Ни на одном. А ты?
Дэвид редко участвует в наших с Джули «беседах» – то есть идиотской болтовне и сплетнях, потому что он взрослый, зрелый мужчина и выше всего этого. Поэтому мне нравится, когда он снисходит до моего уровня.
– Я был. На том самом, где твой пациент выскочил из комнаты как ошпаренный. Ну, новый парень. Здоровенный такой.
– Ричард? Тема свеклы?
– Ха-ха! – Дэвид хохочет, и зернышко риса вылетает из его рта и прилипает к оконному стеклу. – Именно, – подтверждает он и вытирает губы. – Она очень деликатно пыталась объяснить, что некоторые виды пищи могут изменить цвет какашек и писулек, а он аж подпрыгнул и рванул к двери. Я думаю, собственно, смысл ее речи был в том, что некоторые люди начинают паниковать, когда видят, что их дерьмо вдруг покраснело, думают, что это кровь. Ну и таким образом она пыталась заранее предупредить их, чтобы они в случае чего не тревожились.
– Конечно-конечно. Это имело бы смысл, если бы здесь хоть когда-нибудь давали свеклу. Вот же дура! Такая вся из себя принцесса. Говорю тебе, ее тут быть не должно.
– Да, Рэйчел попросила меня присматривать за Джули, потому что на нее поступают жалобы.
– Правда? Как замечательно! Может быть, «Туфлос» решит сделать мне подарок на Рождество заранее и уволит ее? – Я радостно запихиваю в рот кусок курицы.
– Ага. Только не жди, затаив дыхание, а то задохнешься. Кстати, как вообще этот новый парень? В прошлый раз, когда мы о нем говорили, ты сказала, что дело не движется.
– Ничего нового. Я так ни хрена и не добилась. Это здорово сбивает меня с толку. Он вполне дееспособный и кажется абсолютно нормальным человеком… что он здесь делает? Почему его нужно лечить?
– Какой у него диагноз?
– Ага, хороший вопрос. Можно подумать, в его истории болезни есть диагноз. Тогда все было бы слишком легко.
– Думаешь, ему вообще можно поставить диагноз?
– Если бы мне нужно было кровь из носу это сделать, допустим, для страховки или вроде того, я бы поставила расстройство приспособительных реакций[9]. Но это с большой натяжкой. Тут должно быть нечто очень важное, что совершенно от меня ускользает. Слишком странно, что его приняли в психбольницу. Не считая того, что он не желает общаться и отвечать на вопросы, и еще дикого упрямства, я не вижу в нем ничего ненормального.
– Хочешь, я с ним встречусь? Посмотрим, может, мне придет в голову какая-нибудь светлая мысль.
Дэвид всегда готов прийти на помощь. Так сказать, пробежать за меня лишнюю милю. Это удивительно.
– Нет, спасибо. Но приглядывай и за ним тоже, если можно, – вдруг заметишь что-то полезное.
Дэвид улыбается – у него очень милая, хотя и немного покровительственная улыбка – и неловко треплет меня по колену. Он отворачивается к окну, а я пытаюсь проникнуть в его мысли. И посмотреть, нет ли внутри его местечка, где могла бы уместиться и я.
22 ноября, 11:06
Несмотря на то что мы так никуда и не продвинулись с историей болезни, Ричард, кажется, чувствует себя наедине со мной вполне комфортно. Может быть, он даже начинает мне понемногу доверять. Теперь он даже разговаривает со мной – правда, не о том, что было бы для меня полезно, то есть не о том, что касается его психического здоровья, – однако, по крайней мере, произносит слова вслух. Он рассказывает мне о книгах, что прочитал, или о тех, о которых много слышал, но пока еще до них не добрался. Я, в свою очередь, просвещаю его насчет того, что нового произошло в музыкальной индустрии, и перемены ему страшно не нравятся. Сегодня у нас очередной сеанс, и мы постепенно оттаиваем, настраиваемся друг на друга.
– У вас есть сотовый телефон? – интересуется Ричард. Этим утром он не побрился, и я вижу светлые волоски бороды, пробивающиеся сквозь расширенные поры.
– Да, у меня есть телефон. А почему вы спрашиваете? – Мои ноги скрещены, а кресло развернуто к Ричарду. Так мы обычно сидим, даже если сеансы проходят в молчании. Это известный терапевтический метод. Людям неудобно сидеть в полной тишине, так что, если психолог устраивается так, чтобы смотреть в лицо пациенту, как будто они разговаривают, очень часто тот чувствует себя обязанным что-то сказать.
– Вот это стало для меня настоящим шоком. Меня ведь не было, когда появились эти штуковины. А теперь они есть у всех, даже у бездомных.
– Вы были в тюрьме, когда мобильные телефоны стали популярны?
В первый раз за все время он упомянул свое заключение, и я, разумеется, хочу вытянуть из него побольше информации.
– У нас не было даже персональных компьютеров. А сейчас у каждого в кармане суперкомпьютер.
– А в тюрьме у вас был доступ к компьютерам?
– Телефоны теперь даже более продвинутые, чем компьютеры.
Так. Эту тему разговора он развивать не желает.
– Это правда. С ними людям стало гораздо проще общаться. – Намек.
– Не только общаться. Все стало проще. В современных телефонах есть камера, Интернет, почта. Можно даже читать в них книги! Раньше все эти вещи, если их сложить, заняли бы целый чемодан. А сейчас все умещается в одном телефоне. А он всего-то вот такой. – Ричард раскрывает свою широкую ладонь, чтобы показать, какого размера нынешние мобильные телефоны. – Чудо современной технологии.
Ричард с изумлением качает головой и возвращает свое внимание газетам. Может быть, мне удастся вытащить его из норы, если я расскажу о Девоне и деле с дерьмовой курткой?
– Прежде чем вы отключитесь окончательно, я бы хотела вам сообщить, что постаралась разобраться с вопросами, которые возникли у вас с Девоном.
– Да? – Ричард выжидающе приподнимает брови.
– Я попросила его психолога заняться проблемами, которые вы мне обозначили, включая гигиену и неподобающее поведение на сеансах групповой терапии. Все было передано лично Девону. Он понял. Я, в свою очередь, надеюсь, что вы проявите понимание и терпение, пока он будет привыкать к новым правилам.
– Ну… спасибо.
– Это обещание на время оставить парня в покое?
– Не совсем.
– Что же тогда?
– Это спасибо. Я никому не говорил спасибо уж и не знаю, сколько времени. Я оценил, что вы отнеслись к моим просьбам всерьез и помогли. – Ричард слегка кланяется.
– Может быть, в ответ на то, что я отнеслась к вашим просьбам всерьез, вы сделаете то же самое? Уважение за уважение. Поработаем над вашей историей болезни? – Последняя попытка на сегодня.
Его взгляд снова фокусируется на газетах. Ричард стряхивает что-то со щеки тыльной стороной руки, как будто отмахивается от моей практически мольбы.
В груди у меня становится тесно, и я еле выдавливаю из себя очередной разочарованный вздох. Прошел почти месяц, а все, что у меня есть, – это базовые данные. И я уже не знаю, какой еще придумать способ пробить эту броню. Моя фантазия иссякла.
23 ноября, 14:14
Джули разыскивает меня с помощью интеркома. От ее тоненького, пронзительного голоска мои барабанные перепонки вот-вот взорвутся – так мне, во всяком случае, кажется, – и я как можно скорее беру трубку и держу ее на расстоянии не меньше фута от уха.
– Да, Джули? – невнятно произношу я со своей безопасной дистанции. – Тебе что-то нужно?
– Привет, Сэм! – Я боюсь, что ее голос, словно приторный сироп, сейчас выльется из трубки и протечет мне прямо в горло. Она делает паузу, ожидая, что я отвечу таким же жизнерадостным приветствием, но я молчу. – Э-э-э… я хотела спросить, не найдется ли у тебя минутка заглянуть ко мне в кабинет? У меня сейчас сидит одна твоя пациентка. Во время группового сеанса у нас случилось маленькое происшествие.
Слова «маленькое происшествие» Джули произносит так, словно речь идет о девочке из ясельной группы, которая во время полуденного перерыва на сон намочила штанишки.
– Какая пациентка?
– Ташондра. – Она медленно, едва ли не по слогам выговаривает сложное имя. Боится, что, если исказит его, ее обвинят в расизме или в том, что она не знает имен пациентов или не умеет устанавливать контакт с людьми.
– Хорошо, буду через минуту. – Я даю отбой до того, как она обольет меня еще ведром своих сиропных «приятностей», и медленно направляюсь к ее кабинету.
Я громко стучу в дверь и внезапно осознаю, что, хотя мы с Джули работаем уже несколько лет, мне ни разу не приходилось бывать у нее в кабинете. Дверь распахивается, и я вижу Ташондру. Она сидит на голубом пластмассовом стуле, какие мы используем в залах для групповых сеансов (похоже, в заведении не нашлось нормальных офисных кресел для Джули), и выражение лица у нее пристыженное. Джули жестом приглашает меня внутрь, я вхожу и осматриваюсь.
Здесь нет ни книг, ни папок с файлами – словом, ничего, что говорило бы: это кабинет врача. По крайней мере, на виду. Зато на книжной полке сидит большой медвежонок в зеленом свитере от «Ральф Лорен». И стоят фотографии родных Джули в белых деревянных рамках, с вырезанными на них дурацкими слащавыми цитатами о сестринской дружбе и любви. Она закрывает за мной дверь, я слышу звон колокольчиков и оборачиваюсь посмотреть, что это такое. На двери два крючка: на одном висит светло-бежевое шерстяное пальто Джули с розовым клетчатым шарфом, а на другом – пухлый веночек из ткани, украшенный кружевами и бубенчиками. Последней каплей становится искусственно состаренная деревянная пластина в рамке, разрисованная цветами, со «старинным» шрифтом. «Живи, Смейся, Люби», – выгравировано на ней. К горлу у меня подступает комок; это непереваренный ланч грозит вырваться наружу. Сдерживая тошноту, я несколько колеблюсь: может, все-таки сблевать Джули на голову? Прямо на идеальную укладку. Должно быть, выражение отвращения на моем лице слишком очевидно – Джули берет меня за руку и спрашивает, все ли со мной в порядке.
– Сэм? Все нормально?
Я выдергиваю руку, протискиваюсь мимо и сажусь за ее стол. Где-то прячется электрический ароматизатор воздуха, и в кабинете пахнет детской присыпкой.
– Ташондра? – Ташондра наклоняет голову, и я тоже, пытаясь поймать ее взгляд. – Не хочешь рассказать мне, что произошло?
– А мисс Джули не может вам сказать? – Она закрывает лицо ладонями. Ее волосы где-то заплетены в косички, а где-то спутаны в дреды. Все они разной длины и толщины. Некоторые торчат вверх, некоторые падают прямо на глаза. Когда Ташондра нервничает, она крутит и дергает их, а если у нее хорошее настроение – перевязывает концы разноцветными ленточками и шнурками. Сейчас она потягивает косичку возле левого виска, с вплетенной в нее желтой шерстяной ниткой.
– Мне бы хотелось услышать это от тебя, если ты готова об этом поговорить. Узнать твое мнение о том, что случилось.
Ташондра в конце концов выдергивает нитку из косички и шумно выдыхает, как бык, готовый броситься в бой.
– Я сижу на групповом сеансе у мисс Джули, никого не трогаю и вдруг ни с того ни с сего поднимаю голову и вижу, что Барри пялится на мисс Джули, и не просто так пялится. Я точно знала, о чем он думает.
– И о чем он думал? – спрашиваю я.
Джули маячит рядом и краснеет, услышав свое имя.
– Он думал, что… он хотел впиться зубами в ее ляжки! Вот какие у него были мысли! – Она показывает на обтянутые колготками с лайкрой ноги Джули, еле прикрытые юбкой. Этот предмет одежды только с натяжкой можно назвать подходящим для работы. Джули невольно наклоняется и прикрывает колени руками.
Я не могу удержаться от улыбки.
– И что ты тогда сделала?
– Кинула в него кофейной чашкой. – Ташондра откидывается назад и скрещивает руки на груди. Лифчика на ней, как обычно, нет, и она запихивает свои отвисшие груди под мышки.
– А в чашке был кофе? – Я уже почти смеюсь.
– Нет! Она была пустая. Надо было подойти и врезать ему по морде.
– А что у вас с Барри? Отношения?
– Ну, теперь уже ничего! Но до того, как он повел себя неподобающе с нашим психологом, мы типа встречались. Ну там, пару недель. На той неделе он притащил мне цветы – спер со столика из столовой. А еще до этого отдал мне свои сигареты – что в пачке оставалось. Говорил, что я вроде самая красивая девушка, каких он только видел. Мы вместе обедали и вместе курили на балконе. Но все. Теперь все кончено, и точка.
– А еще что-нибудь между вами было?
В «Туфлосе» сексуальные контакты между пациентами строго запрещены, хотя контролировать соблюдение этого правила практически невозможно. При постоянно растущем числе больных трудно даже отследить, где кто находится, не говоря уже о том, кто что в данный момент делает. Пациенты занимаются сексом ночью со своими соседями по комнатам – и не важно, гомосексуалисты они или нет, в душевых кабинках и даже на балконе для курения, прямо среди бела дня. Уже много раз Ташондру изолировали и помещали в отдельную палату за неположенный секс, но Барри никогда не был ее партнером.
– Не. Я знаю, что нам нельзя ни с кем трахаться, пока мы тут лечимся. – Она крутит в пальцах желтую нитку, и я верю, что у них действительно не было секса. Кажется, он ей дорог, а Ташондра редко занимается этим с теми, кто ей дорог.
– Очень хорошо. Рада, что в этой области мы достигли некоторого прогресса. И ты ведь знаешь, что нельзя бросаться предметами в человека, даже если он смотрит на другую девушку, так?
– Да, знаю. – Она вдруг с силой швыряет нитку на пол. – Он еще принес мне эти нитки, вплетать в волосы.
Я подбираю нитку и сжимаю в кулаке.
– Ташондра. Я знаю, как это больно, когда человек, который тебе нравится, смотрит на кого-то другого. Но очень важно реагировать на это правильно и адекватно. Ты ничего не хочешь сказать Джули?
Все это время Джули нависала над нами, как мальчик, разносящий воду, над разомлевшим рабочим в часы сиесты. Слушая наш разговор, она даже приоткрыла рот, но теперь, когда было упомянуто ее имя, она резко выпрямляется и берет себя в руки.
– Извините, что на меня напала ревность во время вашего сеанса, мисс Джули. Понятно, люди на вас смотрят, потому что вы красивая, и я знаю, что не должна из-за этого бросаться чашками или еще чем-нибудь. – Ташондра дергает свои дреды.
– Спасибо, Ташондра. И я считаю, что ты тоже очень красивая.
Ташондра смущенно улыбается, краснеет и прикрывает плечом рот.
– Поговоришь об этом с Барри? – интересуюсь я.
– Ну да. Наверное, можно его и простить.
– Приятно это слышать.
Я отдаю ей желтую нитку, и она наматывает ее на кончик дреда, который закрывает ей один глаз. Мы вместе выходим из кабинета, и я глубоко вдыхаю кажущийся невероятно свежим коридорный воздух, чтобы избавиться от навязчивого запаха ароматизатора Джули. В дни вроде этого я реально чувствую себя смотрителем зоопарка и одновременно восхищаюсь и ужасаюсь себе – сколько же дерьма я могу вытерпеть?
26 ноября, 0.45
И вот я снова в «Никс-баре». Жду, когда появится Дэвид. Вообще-то мы пришли сюда вместе с Лукасом, но он так напился, что не может функционировать, как нормальная личность, и, приземлясь где-то в конце барной стойки, пялится в телефон, пока я болтаю со знакомыми. Все в баре считают нас с Лукасом идеальной парой, и мы вынуждены танцевать сложный и изящный танец под эту музыку всеобщего мнения. Мы никогда не говорили на эту тему, но оба в курсе и молча дружно делаем все, чтобы соответствовать образу. И даже если я боюсь, что когда-нибудь, когда мы останемся наедине, он все же меня убьет, перед остальными мы разыгрываем великолепное и очень правдивое представление. Оно нужно нам, чтобы притворяться перед самими собой, будто у нас все хорошо и что вдвоем мы – совершенство; маяк семейного счастья и благополучия, что сияет над обломками чужих неудач в личной жизни. Это дает некоторую надежду на лучшее, а моя работа как раз и состоит в том, чтобы давать надежду на лучшее.
Если бы я сказала нашим приятелям, что Лукас бьет меня, или что сегодня днем он трахался с безымянной проституткой, лица которой даже не запомнил, в комнате за порномагазином, или что сейчас он жадно заглатывает оксикодон[10] в туалете, это испортило бы им настроение на весь вечер, а я конечно же этого не хочу. То, что нас с Лукасом воспринимают как идеальную пару, помогает мне верить, что так оно и есть. И это одна из последних ниточек, которая связывает мою жизнь, не давая ей развалиться на куски.
Дэвид только что вошел в бар. Он осматривает помещение, пытаясь найти меня. Я машу ему рукой – в другой у меня стакан с виски-колой. Наверное, Дэвид – единственный человек, который знает правду обо мне, правду о Лукасе и часть правды о нас с Лукасом как о паре. Наши кабинеты разделяет тонкая стена, и он, конечно, слышит все, что у меня происходит. Когда меня рвет в корзину для бумаг или я рыдаю над кофе, Дэвид, как правило, задает вопросы. И все эти годы, вместо того чтобы лгать ему, как остальным, я постепенно впустила его в свою жизнь. И он ни разу не использовал это против меня.
Дэвид – мой лучший друг. Не просто лучший друг по работе, а самое большое приближение к тому, что другие люди в реальности называют лучшим другом. Я никогда не спала с ним, хотя, может быть, и следовало бы. Он неравнодушен ко мне, я это чувствую и флиртую с ним, а иногда подшучиваю над ним – ровно настолько, чтобы поддерживать его в этом состоянии. Чтобы влюбленность не пропала. Но я осторожна и никогда не позволю его чувствам перерасти в нечто такое, что потребует от меня взаимности. Сейчас все именно так, как мне нравится. Дэвид подходит, мы обмениваемся взглядами, и, не говоря ни слова, он отпивает у меня виски с колой через мою соломинку. Я делаю жест Сиду, бармену, чтобы он повторил.
Мы с Дэвидом стоим слишком близко друг к другу и сплетничаем. Мы словно заключены в большой пузырь, в нем безопасно, и мы используем наше ощущение безопасности, чтобы срывать маски с других. Дэвид делает вид, будто не замечает Лукаса; мне непонятно, из вежливости или это оборонительная позиция.
Лукас же сейчас представляет собой обворожительное зрелище. Его галстук наполовину развязан, одна из средних пуговиц на рубашке расстегнута, пиджак он засунул в какую-то из кабинок, а заляпанные очки сдвинул на лоб, как солнечные. Он уже не держится на ногах и потому вынужден опираться о барную стойку. Несмотря на это, все в баре, кажется, очарованы им и любят его еще больше. Официантки, разносящие коктейли, сгрудились в углу и говорят о нем, а рука Лукаса прочно прилепилась к колену чьей-то девушки. И никто, по всей видимости, не возражает.
Когда я подхожу к нему, он убирает руку с девичьей ноги и кладет ее на свое колено.
– Делай вид, что любишь меня, говнюк, – улыбаюсь я.
– Я и на самом деле тебя люблю, грязная шлюха, – отвечает Лукас, и еще неизвестно, шутит он или нет. – Но я устал, впереди длинная неделя, и поэтому я иду домой. – Он берет в охапку пальто и устраивает настоящий цирк из поисков пиджака. Естественно, он его не находит. – Слушай, если увидишь мой пиджак, захвати его домой, ладно? У меня сейчас нет времени все тут обшаривать.
– Нет проблем, – легко обещаю я и прячу в кулаке зажигалку и сигарету, как будто вовсе и не собиралась тоже выйти на улицу. Если я дам ему спокойно уйти, то уберегу себя от очередной пьяной ссоры с рукоприкладством.
– Тебе не обязательно идти со мной. Я и сам нормально доберусь, – бормочет Лукас, и я искоса бросаю взгляд на девушку, чьи коленки он лапал. Мы тепло прощаемся, с крепкими объятиями и нежными поцелуями напоказ, и Лукас, не позаботившись о том, чтобы оплатить счет, вываливается наружу. Я прикидываюсь, что не замечаю, как «коленки» выходят вслед за ним.
– Ничего, если я тоже пойду? – говорит Дэвид. Он тоже прикидывается, будто ничего не видел.
– Да, конечно. Я и сама скоро отсюда отчалю, наверное. Выпью еще рюмку-другую, и все.
Он натягивает пальто, оставляет на стойке пятьдесят долларов и обнимает меня на прощание.
– Увидимся в понедельник. Но если вдруг случится какая-нибудь неприятность, обязательно мне звони, ладно?
– Спасибо, Дэвид. Да, увидимся в понедельник. Счастливо тебе доехать.
Теперь, когда и Дэвид, и Лукас ушли, я могу всецело обратить свое внимание на Эй Джея. Он сидит в кабинке с какими-то людьми, которые мне не знакомы, но по взглядам, что он на меня кидает, я понимаю, что мы оба ждем этого момента – когда можно будет без опасений сбежать в другую комнату, в другой мир, в другую вселенную, где мы обнимемся, обовьемся друг вокруг друга, и нас не будет беспокоить, что думают другие, что они видят… и в то же время нам обоим известно, что такой момент никогда не наступит. Так что мы вынуждены жить как бы между строчками. Нам нужно оказаться где-то… где можно идти рядом при свете дня и не слышать чужих голосов. Он это знает, я это знаю, однако мы оба молчим, потому что сказать здесь нечего.
Это все тот же бар, куда мы постоянно ходим, но почему-то стены кажутся мне новыми. Все вокруг нас как будто бы ярче. Дерзкие и забавные высказывания, написанные мелом на черной доске над баром, смешнее. Музыка свежее – словно это не те самые песни, что я регулярно слушаю последние два месяца. Есть что-то волшебное в том, как он смотрит на меня. Это разрушает все стены, что я так старательно возводила много лет, чтобы отгородиться от людей.
Теперь он стоит возле будки диджея и о чем-то его просит. И показывает на меня. Я – в другом конце бара; стараюсь держаться как можно дальше от него. Он замечает это и видит меня, и диджей ставит мою любимую песню, а он произносит одними губами: «Это для тебя». Я киваю, как будто в этом нет ничего особенного, но вся моя жизнь взрывается, и единственное, о чем я в состоянии думать, – это как я хочу провалиться в кроличью нору вместе с парнем, даже имени которого я не знаю. Полного имени.
Никто не обращает на нас внимания, и он приближается ко мне и прижимает к себе, и я утыкаюсь лицом ему в шею – это самое надежное и самое опасное место на свете, и он говорит: «Ты мне нравишься… это больше, чем секс». Я смеюсь, хохочу во все горло, потому что все, что я могу, – смеяться над этим, а потом снова зарываюсь лицом в его шею. Он пахнет мужчиной и шепчет, что хочет увести меня отсюда, и снова спрашивает, почему я встречаюсь с кем-то другим, а я шепчу в ответ: «Разве я встречаюсь с кем-то другим?» Он говорит, что знает – у меня есть бойфренд, и я отвечаю: «Это потому, что я не встретила тебя первым», и теперь смеется уже он и еще теснее прижимает меня к своей груди.
Когда я вдыхаю его запах, новая жизнь проносится у меня перед глазами, но он вдруг отстранятся и идет в туалет. Я оглядываюсь – не видит ли кто, – но ни один человек не замечает, что бар пронзила молния, и выхожу вслед за ним. Он в туалетной кабинке. Я останавливаюсь у раковины, мою руки и жду, когда он выйдет, но делаю вид, что это не так.
Он появляется. Кажется, он не ожидал увидеть меня здесь. Как ни в чем не бывало он тоже подходит к раковине и ополаскивает руки, искоса посматривая на меня. Я веду себя совершенно естественно, как будто не притащилась в туалет ради него, и он направляется к двери впереди меня. Все, шанс потерян, думаю я и тоже направлюсь к двери. И в тот самый момент, когда я уже почти вышла, он вдруг поворачивает назад, хватает меня за руку и втягивает обратно. В туалете горит свет, но он поворачивает выключатель и целует меня, и в моей жизни начинается пожар.
Он обнимает меня одной рукой, а другой придерживает дверь, чтобы никто не вошел. Я запускаю пальцы в его волосы, а потом глажу его по спине, спускаясь все ниже, к ягодицам, и чувствую, как его твердый член утыкается мне в ремень. И мечтаю о том, чтобы мир тоже выключился, как свет, и я могла бы зависнуть здесь до тех пор, пока моя вечная боль не прекратится.
Он отрывается от моих губ, берет за подбородок и говорит:
– Посмотри на меня.
Я окунаюсь в серую бездну его глаз. Атмосфера так накалена, что мне кажется – сейчас я растаю и растекусь прямо у его ног лужицей чистого секса.
– Ты такая красивая, – выдыхает он и целует меня снова, и я все-таки растекаюсь.
Мне плевать на Лукаса, постройте передо мной ряд мужчин – и я не смогла бы узнать его среди прочих. Мы яростно занимаемся сексом, и я хочу остаться, остаться, остаться…
А потом все заканчивается.
Он выглядывает наружу и, когда берег наконец чист, посылает меня вперед. Никто так ничего и не заметил, а я собираюсь хранить эту тайну, словно код от ядерного чемоданчика. Он прощается с нашими общими знакомыми, потом целует меня на глазах у всех, но опять же никому нет до этого дела. После этого он уходит в ночь.
29 ноября, 9:11
Я еще не успеваю как следует усесться в кресло и откопать в сумке болеутоляющее, как раздается негромкий, размеренный, но крайне настойчивый стук в дверь. Очень характерный звук; он хорошо мне знаком. Это может быть только Эдди. Только он так стучит. Мне и еще Дэвиду. Я слышу, как он шаркает ногами, переходя от моей двери к его, и стучит то туда, то сюда. Обычно он ждет нас у выхода из конференц-зала после утренних совещаний, а потом увязывается за мной или Дэвидом и задает вопросы. Если он почему-то упускает эту возможность, то занимает пост у наших дверей и стучится к нам по очереди, до тех пор, пока кто-то из нас не выходит по делам или открывает дверь, чтобы впустить кого-то еще. Или иногда мы не выдерживаем и все же открываем ему.
– Сэээээээээм, Дээээээвиииид. – Речь Эдди звучит как одно длинное слово без пауз. В конце каждого предложения он повышает интонацию, так что оно всегда кажется вопросом, а еще он умудряется бубнить, как пьяный, заплетающимся языком, но при этом все абсолютно четко различимо. Эдди – не мой пациент, и не Дэвида тоже. С ним работает Гэри, но он очень привязался ко мне и к Дэвиду. Почему именно к нам – я не знаю. Может быть, причина совсем проста – наши офисы рядом и расположены близко к компьютерной комнате, например. Шаркающие шаги за дверью продолжаются.
– Сээээээм… Я-знаю-что-ты-там… пожалуйста-открой-это-я-Эдди…
Его голос похож на свист воздуха, выходящего из сдувающейся шины. Я беру трубку офисного телефона, подношу ее к уху и очень деловым тоном начинаю говорить что-то вроде «да-да» и «конечно». Нацепив очки, чуть приоткрываю дверь и выглядываю наружу, как будто только сейчас услышала Эдди. Эдди принимает это за приглашение и уже просовывает в щель ногу, обутую в грязную кроссовку без шнурков.
– Я разговариваю по телефону, давай позже, – произношу я одними губами в надежде, что этого будет достаточно. Но я ошибаюсь.
– Неееееееет, Ссссээээээээмммм… я-пришел-поговорить – с-тобой-мне-надо… – Он упирается ладонями в дверь и толкает ее, но не очень сильно.
Я нарочито прикрываю трубку рукой и говорю:
– Я знаю, Эдди, и тоже хочу с тобой поговорить, но это очень важный звонок. Нам придется побеседовать позже.
– Ооо’ккккеееей… через-час?
Я киваю и закрываю дверь. Когда Эдди вернется через час, я ему не открою. Мне очень хотелось бы найти в себе силы и энергию, чтобы дать Эдди то, что ему нужно, но сегодня это просто невозможно. Сегодня утром я не стала заморачиваться и мыть голову, к тому же проснулась я с окровавленным пластырем в виде бабочки в волосах, так что мне пришлось скрутить их в аккуратный пучок, чтобы прикрыть его. Я снимаю очки, кладу телефон на стол и думаю, сколько еще я смогу все это выдерживать.
Эдди живет в «Туфлосе» уже бог знает сколько лет. За те шесть, что я здесь работаю, его, кажется, раза три забирали от нас и помещали в отделение скорой психиатрической помощи. Каждый раз – из-за попытки или угрозы суицида. Это одна из самых трудных вещей в нашей профессии; предполагается, что мы должны уметь отличить серьезную угрозу самоубийства (или соответствующее поведение, или даже замечание) от несерьезного и действовать соответствующим образом. Но когда твои пациенты часами пилят запястья скрепками, пока не появятся крошечные красные капельки крови, и почти каждый заявляет нечто вроде «Если мне не дадут апельсиновый сок, я покончу с собой», сделать это довольно сложно.
После того как Эдди увезли в третий раз, месяца четыре назад, наше утреннее совещание Рэйчел решила посвятить его случаю. Я помню, как обильно потел Гэри все время, пока мы сидели в конференц-зале. Он то и дело прикладывался к банке с вишневым «Гаторейдом», и над его верхней губой алел мокрый полукруг. Гэри дико боялся, что кто-нибудь подаст на него в суд, если Эдди удачно завершит очередную попытку самоубийства. Стараясь как-то защитить себя, он тщательнейшим образом прошерстил все планы лечения, достигнутые результаты, оценки психологического состояния и проверил, не совершил ли где ошибку. Он даже проверил все бумаги на предмет опечаток и оставленных кофейных пятен и несколько раз отксерил все документы, пока наконец история болезни Эдди не показалась ему идеальной – то есть такой, что никто, прочитав ее, не сумел бы ни в чем обвинить лечащего врача, а именно Гэри. Но у Эдди не было семьи, так что сама мысль, что кто-то решит засудить Гэри в случае суицида Эдди, представлялась просто смешной.


