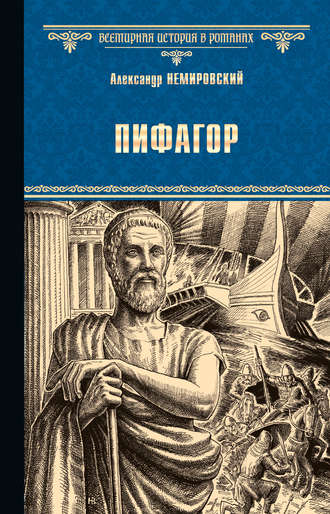
Александр Немировский
Пифагор
Отец и сын медленно поднялись по ступеням и через проход, образованный двумя пахнувшими кедровой смолой столбами (видимо, дверь еще не была готова), вступили в храм. Взгляд Пифагора нащупал поодаль грандиозный квадрат алтаря пепельного цвета и в центре его зеленеющую иву.
Пифагор приблизился к алтарю и положил на его край, рядом с кучей медовых лепешек, три розы. Затем, спустившись, он подошел к отцу, стоявшему среди богомольцев с чашами в руках. В их глазах Пифагор прочел удивление. Конечно же им никогда не приходилось наблюдать за таким жертвоприношением.
Обойдя алтарь, отец и сын прошли к главной святыне храма – ксоану[19].
– Взгляни! – воскликнул Мнесарх. – Огонь не тронул Геры.
– Но ксоан почернел, – отозвался Пифагор. – И вот трещина. Раньше я ее не видел.
Пифагор не мог отвести от ксоана взгляда. И на мгновение ему показалось, что из трещины вырвалось пламя и он уже не видит ничего, кроме пламени. Оно съело все вокруг. Исчез отец. Скрылось солнце. Над горизонтом угрожающе навис серп месяца. Пифагор ощутил сильный порыв ветра. Что-то больно ударило его по голове. В легкой дымке перед ним возник старец, прижавшийся спиною к могучему стволу дуба. От нового порыва ветра на землю градом посыпались желуди, загудели привязанные к ветвям рога.
– Тебе повезло, Эвфорб, ты избежал этой бури, – издалека послышался голос Анкея. – Смотри, в каком исступлении нынче море. Опоздай ты на день, твой корабль разнесло бы в щепки. Не иначе, тебя оберегала святыня. Передай царю, что его дар станет знаком вечной дружбы нашей Кипарисии с Троей и что мы, лелеги островов, не оставим братьев в беде.
– Ахейцы уже удалились, – проговорил Эвфорб не сразу, – Трое ничто не грозит. Беда обрушилась на нас с тобою. Это было перед той ночью, когда лик Селены покрылся копотью, как щит, повешенный над очагом в мегароне[20]. Парфенопа со служанками была на берегу. Она похищена…
Рев бури прекратился так же внезапно, как и возник. Наступила тишина. Рядом по-прежнему стоял отец. Пифагор уловил в его взгляде беспокойство.
– Да ты меня не слышишь? Что с тобой?
Пифагор встряхнул головой:
– Теперь слышу. Идем.
Они остановились перед раскрашенной деревянной статуей египетского стиля.
– А это чей дар? – удивился Пифагор.
– Не знаю. Его доставила Родопея, любимая наложница Амасиса. Девочкой была она на Самосе рабыней, а теперь – почетная гостья Поликрата. Вот до чего мы дожили.
– Взгляни, отец. В руках идола жезл и плеть. Это священное изображение фараона. Такого за пределами Египта еще не было.
– Но ведь Амасис – союзник Поликрата.
– Однако что его могло заставить пойти на такой шаг? Кажется, фараон уже не доверяет своим богам или опасается, что его священные изображения будут разбиты? Боюсь, что Поликрат вскоре окажется лицом к лицу с царем царей.
У выхода Пифагор оглянулся и обвел взглядом храм. Отыскав ксоан Геры, он зашевелил губами. Понимающий речь губ услышал бы его беззвучный пеан:
Радуйся, Гера Самосская, трижды священная,
Дар мой принявшая за возвращение!
Радуйся, радуйся, вечно живущая!
Агора
Видения обрушивались на Пифагора как ураган. Тогда ему начинало казаться, что все его поиски и занятия не имеют никакого смысла, и что-то безудержно тянуло в ту жизнь, где он был не мыслителем, а воином. Если каждое мгновение последней жизни, начиная едва ли не с младенческих лет, он мог вспомнить по дням и часам, то та, самая древняя, состояла из обрывков, и никто не мог ему помочь восстановить последовательность событий, участником которых он себя постоянно ощущал.
Взгляд, брошенный на ксоан, напомнил Пифагору давнее, еще в той, первой жизни посещение Самоса и встречу с Анкеем, о том, что он должен был посетить царя Мурсили. Но над каким народом тот царствовал? Где находилось его царство? Какова цель посольства? Об этом не было сведений ни у Гомера, ни у Гесиода, ни у Асия. Отыскать бы хоть какой-нибудь предмет из той жизни и сделать его своим проводником в прошлое! И он отправился на агору.
Агору охватывала каменная стена. У ворот взгляду открывался гелиотропий[21]. Люди равнодушно проходили мимо, не осознавая, что перед ними лик вечности. Пифагор вспомнил, как тридцать лет назад, еще мальчиком, он вместе с отцом, находясь в толпе, наблюдал, как рабы, которыми руководил седобородый муж, устанавливали эту причудливо расчерченную плиту. Отец шепнул: «Запомни – это мудрец Анаксимандр. Гелиотропий – копия того, что он установил у себя на родине, в Милете».
На всю жизнь врезался в память облик этого человека – с окладистой бородой, лбом, испещренным морщинами, размеренными неторопливыми движениями, и он ему показался тенью самого времени. Позднее, во время своих странствий, Пифагор увидел такие же часы в Вавилоне и узнал, что там они появились на столетие раньше. Но все равно, был ли Анаксимандр изобретателем или подражателем вавилонян, гелиотропий стал для юноши подлинным чудом света, первой моделью космоса. Пространство и время на этой каменной доске находились в полном соответствии – ведь ее деление на двенадцать частей выражало соотношение времени и пространства. Передвижение гномона от одного деления к другому зимой указывало на одну величину, летом – на другую.
Позднее, уже на Спросе, Пифагор услышал от первого своего учителя Ферекида о величайшем из открытий, сделанном тем же Анаксимандром, – о том, что Луна – потухшее тело, отбрасывающее заемный свет Гелиоса. Тогда он сразу написал Анаксимандру, но получил ответ от его ученика Анаксимена о кончине учителя.
Миновав ворота, Пифагор окинул взглядом агору, столь не похожую на шумные финикийские базары. Не слышалось обычных выкриков. Господствовал установленный смотрителями порядок. Вскоре он оказался у столика менялы с разложенными на нем монетами разных городов, в просторечье именовавшимися по выбитым на них изображениям дельфинами, пчелками, львами, колосками. Столик словно бы охватывал весь эллинский мир – не только ближайшие полуострова и острова, но самые отдаленные области, куда уже проникла эта новинка, видимо, не случайно изобретенная одновременно с гелиотропием.
Заметив внимание к своему товару, меняла подошел к Пифагору и стал его убеждать, что дешевле он нигде не совершит обмена.
Пифагор поспешил отойти, понимая, что здесь ничто не напомнит о жизни в Илионе, которую он силился восстановить, но меняла не унимался:
– Я могу перевести твои деньги в Эфес, Милет, Афины, куда тебе угодно, даже в Сиракузы, и всего за пять на сотню.
Пифагор ускорил шаг.
– За три на сотню! – крикнул меняла вдогонку.
Больше всего народа толпилось в рыбном ряду. Здесь был выставлен только что вытащенный улов, и самосцы, обступив корзины, перебирали скользких, бьющих хвостами и шевелящих клешнями обитателей морских глубин.
Заглядевшись, Пифагор едва не столкнулся с критским наемником в доспехах, несшим в шлеме яйца и зелень.
– Не скажешь ли, приятель, где тут лавка оружейника? – обратился он к воину.
– Вон там, за скотными рядами, – отозвался тот на ходу.
Лавка оружейника была пуста, и хозяин ее полудремал.
При виде Пифагора он вскочил и стал нараспев расхваливать свой товар.
– Вот мечи из лаконской стали! Вот копья! Щиты коринфской работы, дешевле, чем в самом Коринфе! Поножи с Кипра! Фиванские шлемы! Превосходный критский лук и самшитовые стрелы! Вооружу на любую войну!
Пифагор взял в руки меч.
– Оружие прекрасное. Но оно для современного боя. А нет ли у тебя в продаже старинных пекторалей и боевых топоров?
– Старья не держим. Но если для забавы, а не для боя… Видишь, вон там, в конце ряда, лавка. Там скупают металл для переплавки. Может, что отыщешь.
Лавка старьевщика в полной мере соответствовала своему названию. За каждым из многочисленных предметов, разбросанных на полу и развешанных по стенам, была своя долгая жизнь, теперь уже никому не интересная и не нужная. Это было кладбище быта, по которому можно представить, как изменялась жизнь на острове за двести, если не более, лет. Котлы, топоры, сломанные ободы. Поначалу ни один из этих предметов не вызвал у Пифагора никаких воспоминаний о прошлой жизни. Но вдруг его взгляд остановился на валявшихся за прилавком слитках, напоминавших по форме бычьи шкуры.
Заметив взгляд Пифагора, торговец поднял один из слитков и положил на прилавок.
– Сегодня утром приволокли ловцы губок. Никто не знает, что это такое, но вещи явно древние. У Паруса в старину, как и ныне, разбивалось много кораблей. Металл хороший, чистая медь. Можешь вделать в дверь и отчеканить свое имя…
Старьевщик продолжал говорить, явно не догадываясь, что перед ним древнейшие деньги и что на одну из таких плиток в старину можно было бы приобрести полное воинское снаряжение.
Голос его постепенно стал затихать, пока совсем не исчез, и Пифагор перенесся в милый ему мир.
– Не рискуй, Эвфорб! – явственно услышал он голос Анкея. – Видишь, как кипит море. Корабль вот-вот расколется. Тебя смоют волны.
– Но мне нужны крепкие мечи. Алашия вновь не расщедрится. Кетейский царь в долг ничего не даст. Конечно же всех бычков мне не увезти, но хотя бы часть.
– Так что же ты молчишь? – донесся голос старьевщика. – Вещь-то стоящая.
– Я возьму одного бычка, – проговорил Пифагор, протягивая торговцу драхму.
Клисфен
По пути к дому Пифагора остановил муж лет двадцати пяти. Мягкий петас с загнутыми наверх краями открывал высокий лоб и темные волосы, стянутые сзади в тугой узел.
– Скажи, как добраться до Герайона?
Пифагор повернулся к городской стене.
– Видишь эти ворота? За ними начинается Священная дорога. Она прямиком приведет в храм. Он на островке в устье реки.
– А мне говорили, что храм на агоре, – удивился чужеземец.
– В старину располагали храмы подальше от обмана не только у нас, но и у тебя в Афинах.
– Как ты догадался, что я из Афин?
– По выговору.
– Да, ты не ошибся. Будем знакомы. Меня зовут Клисфеном.
– Какое великое имя! – воскликнул Пифагор. – Еще в юности я восторгался Клисфеном, властителем Сикиона, узнав, что им запрещено публичное чтение Гомера. Конечно же у меня и у твоего тезки разные причины возмущения Гомером. Сикионец ненавидел Гомера за то, что городская знать считала его героев своими предками и требовала на этом основании почетных привилегий, я же не прощаю Гомеру того, что он навязал нам Трою, войну, какой не было.
– Мне приятно твое суждение о Клисфене, – произнес афинянин. – Это мой дед по матери. Должен тебе, однако, заметить, что отец мой, будучи ненавистником Писистрата, отнявшего власть у порядочных людей, одобрял его распоряжение о записи песен Гомера, и не только потому, что слепец воспел нашего прародителя Нестора, – с Гомера началась эллинская поэзия. И еще он хвалил Писистрата за открытие библиотеки.
– О библиотеке слышу впервые! – перебил Пифагор. – Интересно, много ли в ней свитков и как они достались Писистрату?
– Этого не знаю. Писистрат отправил нашу семью в изгнание еще до открытия библиотеки. Я из рода Алкмеонидов.
– Я это понял из твоих слов о Несторе. Наш Поликрат также изгнал знатных самосцев.
– Ты не назвал своего имени.
– Пифагор, сын Мнесарха.
– Меня, Пифагор, заинтересовало твое столь необычное суждение о Гомере. Ты говоришь, что его описание Трои ложно. Какой же, по-твоему, была подлинная Троя, которую осаждали ахейцы?
– Осаждали! И ты веришь этой басне?! – воскликнул Пифагор. – Откуда бы у варваров взялись силы для осады великого города? Они лишь совершали набеги на Троаду.
– Так ты считаешь, что не было войны? – растерянно проговорил Клисфен.
– Поразмысли сам: откуда Гомеру могло быть известно об осаде и взятии Трои? Ведь он муж настолько незнатного происхождения, что даже постыдился назвать своих родителей.
– А ты, я вижу, из геоморов! – обрадовался Клисфен.
– Нет, я не из геоморов. Но по матери мой род восходит к кормчему «Арго» Анкею. По возвращении из Колхиды Анкей возблагодарил Геру за помощь в плавании и воздвиг владычице храм из стволов кипариса. Остров тогда назывался Кипарисией. Если ты хочешь узнать об Анкее, прочти поэму Асия. Не знаю, имеется ли она в библиотеке Писистрата, но у нас ты ее легко найдешь.
– У меня мало времени. Видишь ли, после кончины моего отца Гиппий и Гиппарх, сочтя, что я им неопасен, разрешили мне вернуться в Афины. Но кто знает, что на уме у тиранов и не придется ли мне снова бежать из Афин, бросив все. Вот почему я решил оставить деньги на приданое дочерям здесь, где часть своего состояния хранил отец моей матери.
– Как! У тебя уже дочери на выданье?! – удивился Пифагор.
– О нет. Старшей – пять, младшей – три, но дети, как цветы, растут быстро, и, если не позаботиться о них сейчас, дочери могут остаться бесприданницами. Если у тебя будет время, а я удержусь в Афинах, давай встретимся и продолжим нашу беседу там.
– С удовольствием. И как тебя найти?
– Сначала дома нашего рода были на акрополе. Теперь же тебе придется идти в Керамик, и там любой скажет, где мое пристанище.
Ливень
Такого ливня на Самосе не помнили старожилы. И от отцов своих о подобном не слыхивали. Удивительнее же всего было то, что дождь захватил только один остров, а на ближайшем к нему материке и на соседней Икарии не выпало ни капли Зевсовой влаги.
Ливень внезапно начался на рассвете и безжалостно хлестал весь день прямыми струями. По улицам к гавани неслись грозовые потоки, и каждый дом превращался в островок. С кровельных черепиц и уличных камней смывалась вековая пыль. На валунах, каких на Самосе великое множество, обнажались невидимые трещинки, и эти громады, казавшиеся ранее безликими, обретали человеческий или звериный облик. Это было врезавшееся в память самосцев великое очищение, и долго после него можно было слышать: «За год до ливня» или: «Через год после ливня, предвестника слез». Поэтому и возвращение Пифагора многие самосцы впоследствии связали с этим событием. Не зная о том, что он появился незадолго до него, говорили: «Он пришел вместе с ливнем».
Под шум капель Пифагор перечитывал единственный сохранившийся в доме свиток – трактат Феодора об архитектуре. Его привлек раздел о соразмерности. Феодор, пользуясь законами геометрии, открытыми вавилонянами, перенес в строение храма пропорции человеческого тела. Так же как вавилоняне, он считал совершенным числом шестерку, исходя из того, что ступня составляет шестую часть тела. Ему была совершенно незнакома десятичная система, открытая индийцами и позволяющая пойти в познании устройства мира куда дальше, чем при счете дюжинами. «Десятка! – думал Пифагор. – Великое, совершенное и все производящее число в божественной и небесной, равно как и в человеческой, жизни. Без него все беспредельно, неосязаемо и невидимо. В нем – гармония космоса. Оно несовместимо с завистью и обманом».
– Подойди ко мне! – послышался голос отца, и сразу же звякнул увеличительный хрусталь. Заскрипел отодвигаемый стул. Мнесарх встал.
Пифагор отложил свиток и подошел к столу:
– Можно взглянуть?
– Сейчас.
Отец погрузил кольцо в чашу с водой и обтер его полой хитона.
– Вот, взгляни!
К своему удивлению, Пифагор увидел на камне, как ему показалось, мифологическую сцену. Обнаженные тела, слившиеся в экстазе, были совершенны.
– Ты превзошел себя, отец! – воскликнул он, продолжая вглядываться. – Но скажи, кто эта красавица, привлекшая Пана?
– Эго не Пан. И не сатир. Видишь, голова без рожек? Перед тобой гетера с заказчиком, предложившим мне свой сюжет.
– Интересно, кому же захотелось иметь такой перстень? Конечно же не купцу, не мореходу, не…
– Не ломай голову. Подобный каприз мог возникнуть только у поэта.
Пифагор положил перстень на край стола.
– Тебе известны его стихи?
– Нет, но он представился поэтом, и в этом нет сомнения, поскольку он гость Поликрата. Тиран все время приглашает к себе знаменитостей. На его содержании в Летипалее живут многие. Незадолго до твоего прибытия Самос покинул поэт Ивик, кажется региец. Наш Асий, как понимаешь, не заказал бы такого перстня.
Пифагор улыбнулся:
– А если бы это и пришло ему в голову, кто бы мог в его время выполнить такой заказ? Резьба по камню, процветавшая в древности, возродилась лишь недавно.
Мнесарх вложил перстень в футляр.
– А заказчик лесбосец? – спросил Пифагор.
– Нет, беглец из ионийского Теоса, захваченного персами. Если он тебя интересует, можешь отнести ему его заказ. Старец каждое утро проводит в гимнасии.
– Старец? – удивился Пифагор.
– Он моих лет. Зовут его Анакреонтом. Он расхаживает по городу в сопровождении рыжеволосого юноши-красавца, тоже гостя Поликрата. Разное о них говорят.
В гимнасии
Дорогу к новому гимнасию не надо было спрашивать. Его пропилеи[22] издалека блистали мрамором колонн, выделяясь на фоне зеленой горы, которую Пифагор помнил с детства. Сквозь нее проходил теперь водный поток, охватывая гимнасий двумя рукавами и превращая его прямоугольник в полуостров.
Огороженное поле, полого спускавшееся к Имбрасу, занимали не более десятка атлетов, упражнявшихся в прыжках, беге и метании диска. Пифагор мгновенно определил того, кто ему был нужен, обратив внимание на юношу и старца, перебрасывавших друг другу мяч. Если он отлетал далеко, за ним вдогонку бежал мальчик лет четырнадцати. Тогда слышалось непривычное имя – Залмоксис.
Прошло немало времени, пока играющие обратили на Пифагора внимание, и старец, передав мяч юноше, приблизился.
Судя по седине и морщинам, ему было лет шестьдесят, но блестящие, коричневатого оттенка глаза придавали лицу юношескую живость.
– Не желаешь ли занять мое место? Эта игра, как и любовь, на троих не рассчитана. Мне же давно пора передохнуть.
Речь у него была чисто ионийской.
– Благодарю тебя, Анакреонт, – ответил Пифагор. – Но, право, ни в той, ни в другой игре у меня нет твоего опыта.
– Так ты знаешь меня? Откуда? Ты самосец?
Прочтя на губах собеседника непроизнесенные слова: «И где твои сандалии?», Пифагор улыбнулся.
– Мой отец Мнесарх посылает твой заказ.
– Триерарх![23] Я о тебе слышал! – воскликнул Анакреонт, меняя тон.
– Нет, не триерарх. Триерарх – мой младший брат Эвном. Я – Пифагор и покинул остров задолго до того, как ты здесь появился, еще до прихода к власти Поликрата. Вот твой перстень.
Анакреонт поднес перстень к глазам и радостно закричал:
– Метеох!
Юноша поспешно последовал на зов, и Пифагор оказался лицом к лицу с самим совершенством. Увлажненные недавним напряжением волосы, разделенные спереди пробором, ниспадая, подчеркивали матовую белизну щек и округлость подбородка.
– Взгляни! – обратился поэт к юноше. – Как раскинулась молодая кобылица на лугу Эроса!
Юноша скользнул по перстню рассеянным взглядом. Видимо, его мысли были заняты другим.
– Да посмотри же! Каков изгиб поясницы! Какая дымка страсти в глазах! Вот этим перстнем я буду запечатывать послания к тебе, если ты не раздумаешь уехать.
– Но ведь я должен навестить отца, – неуверенно проговорил юноша. – И вскоре вернусь.
– Должно быть, твой отец знатного рода? – вступил в разговор Пифагор.
– Его отец Мильтиад, владыка Херсонеса, страж проливов, в прошлом друг царя Креза, – ответил за юношу Анакреонт.
Пифагор, припоминая, наморщил лоб.
Метеох улыбнулся:
– Мне кажется, Пифагору должен быть известен афинянин Мильтиад, сын Кипсела, оказавший гостеприимство варварам, растерянно бродившим по городу в поисках своего будущего правителя.
– Вот именно! – обрадовался Пифагор. – За свое долгое отсутствие я стал почти чужестранцем. Удивительную же историю о юноше, сидевшем у порога и окликнувшем чужеземцев в странных одеяниях с копьями в руках и открывшем им двери своего дома, я услышал на Спросе от учителя Ферекида.
– О том, что долонки передали моему отцу изречение пифии, согласно которому они должны избрать своим вождем первого, кто окажет им гостеприимство, тебе известно, – проговорил Метеох с гордостью. – Так вот, тяготясь владычеством Писистрата, отец отправился вместе со своими новыми подданными и частью афинян на Херсонес и отделил перешеек стеною, чтобы защитить его обитателей от набегов непокоренных фракийцев.
– У этой стены мы и познакомились, – вставил Анакреонт. – И когда Мильтиад отправил Метеоха с дружеским посланием к Поликрату, я взялся его сопровождать.
– Залмоксис! – крикнул Метеох. – Собери мячи.
– Какое странное имя… – заметил Пифагор. – Если я не ошибаюсь, оно означает на языке крестонеев – есть во Фракии такое древнее племя – «затихший», «заснувший». Это слово имеет тот же смысл, что наш «медведь», поскольку животное уходит в долгую зимнюю спячку. Не правда ли, Залмоксис?
Мальчик оживился:
– Да-да, на нашем языке «залмоксис» означает «медведь». Лучше не называть его настоящего имени, чтобы он не явился.
– Вот так, друзья мои! В те годы, когда предки ионийцев бродили по горам в звериных шкурах и жили в шатрах, родичи Залмоксиса – это были пеласги – населяли города, частично до сих пор сохранившие пеласгийские названия. Да и Эллада называлась Пеласгией. Пеласги обучили охотников и скотоводов земледелию, ремеслам и письму. Нет, не тому, которым эллины пользуются сейчас, а письму пеласгийскому, кое в чем напоминающему египетские иероглифы.
– Убедительно, – с едва заметной улыбкой проговорил Анакреонт. – Но почему же исчез такой великий народ, столь превосходящий эллинов? Ведь от него должно бы было остаться что-то посущественнее, чем названия.
– И осталось, – сказал Пифагор. – Во многих местах Эллады можно увидеть полуразрушенные стены, искусно сложенные из огромных камней. Эллины называют их киклопическими, сочинив басню, будто это дело рук одноглазых великанов-киклопов. Эти стены возведены пеласгами, и кое-где этого не забыли: афиняне, сохранившие город с пеласгийских времен, до сих пор называют акрополь Пеласгиконом. Есть такие руины и у нас на Самосе. Когда вы будете входить в Астипалею, обратите внимание на лелегскую кладку с обеих сторон ворот.
– Лелегскую?
– Или пеласгийскую. Как тебе больше нравится, – продолжил Пифагор. – Ибо лелеги – одна из ветвей пеласгов, у нас на Самосе от них кроме части стены осталось пещерное святилище и дуб Анкея в горах.
Глаза Метеоха загорелись.
– А это далеко отсюда? Как туда попасть? – спросил он.
– Очень просто. Завтра можем отправиться туда вместе. И не забудьте захватить факел.
Пещера чисел
Явь – это круговращенье.
Все остальное – сны.
Жизнь – это возвращенье
По правилам кривизны.
Дряхлое вровень юному.
Свет возникает из тьмы.
И незримыми струнами
В мире связаны мы.
Кажется, только здесь да еще на поросших лесом кручах Керкетия, самой высокой горной гряды, не было слышно собачьего лая и блеянья овец. Но именно овцам эта долина была обязана своей прозрачной чистотой. Узнав, что животные любят сильфий и мясо их приобретает от него удивительный аромат, Поликрат, еще в то время, когда у него гостил изгнанный из Кирены тиран Аркесилай, приказал засадить долину этим знаменитым растением и огородить огромную плантацию забором, чтобы дать ему разрастись.
Берег ручья, вдоль которого вилась тропинка, зарос ирисом и асфоделью. Над цветами кружились шмели и осы, наполняя долину гудением.
Лощина пошла на подъем. Посадки сильфия оборвались. Тропа вывела на каменную осыпь, белизну которой подчеркивали склоны красноватого оттенка с редкими невысокими кустиками колючих растений. Тропинка становилась все круче. И вот путники – на площадке под кроной дуба-великана, рядом со скалой, зияющей неровным черным отверстием.
– Священный дуб Тина, – проговорил Пифагор, подходя к стволу, – Тином лелеги называли Зевса. Здесь они вопрошали его волю, тряся в горшке вместо жребиев желуди, здесь они принимали посланцев от других племен. А соседняя пещера не только укрывала от непогоды, но и была святилищем задолго до того, как у моря появился Герайон.
Узорные тени листьев пробегали по лицу Пифагора, придавая ему необыкновенную подвижность и одухотворенность. Его голос звучал глубоко и уверенно.
– Какой ты счастливец, Пифагор! – внезапно воскликнул Анакреонт. – Ты избежал страха.
Пифагор удивленно вскинул брови:
– Какого страха?
– Липкого, обволакивающего. Тебе не пришлось, спасаясь бегством, оставлять родной город, родные могилы. Сколько раз я вспоминал Бианта, советовавшего ионийцам переселиться на огромный западный остров Ихнуссу[24]. Только здесь, на Самосе, благодаря гостеприимству Поликрата мне удалось обрести спокойствие. Я стал под звуки кифары славить вино и любовь. Самос вернул мне способность радоваться. Это было подобно второму рождению.
– Могу тебя понять, – сказал Пифагор. – Поликрат сделал Самос скалою спасения для эллинов, обитавших в Азии. Но скала дает приют немногим, и, может быть, пора вернуться к совету Бианта?
Под холмом появился Залмоксис. Запрокинув голову, он смотрел вверх.
– Взгляни, как этот юный варвар похож на Диониса, – проговорил Пифагор.
– Да! – согласился Анакреонт. – В руке тирс[25]. И в поведении есть нечто сверхъестественное. Прошлой зимой этот юный раб проспал полмесяца, и мог бы больше, если бы его не разбудил Метеох. И, представь себе, в спячке он слышал все наши разговоры и сумел передать их слово в слово.
Раскачиваясь на ходу и, кажется, насвистывая и напевая, Залмоксис поднимался по тропинке, змеившейся среди редких пучков высохшей травы и колючего кустарника. Когда он остановился, блеснули глаза цвета лазурита. Его можно было бы принять за эллина, если бы не вздернутый нос и слегка утолщенные губы, которыми он сжимал стебелек сильфия.
– Кто твои родители, Залмоксис? – спросил Пифагор. – Расскажи о себе.
– Родителей я не помню. Меня подобрал младенцем охотник в лесу, точнее, в медвежьей берлоге. Я стал приемным сыном своего спасителя, крестонея.
Мальчик приподнял хитон, и открылась грудь с синими линиями рисунка: медведь на задних лапах с грозно разинутой пастью.
– Это его работа, – с гордостью произнес он. – Он был жрецом Бендис[26] и никому не доверял священных изображений угодных ей зверей. После гибели крестонея во время набега на херсонесских эллинов я оказался рабом.
Залмоксис отломил верхушку своей палки, оказавшейся полой, и принялся раздувать спрятанный там уголек.
– Оставайся здесь, – сказал Пифагор, когда мальчик зажег факел. – Придешь по моему зову.
Пифагор первым шагнул во мрак, за ним – Анакреонт и Метеох.
Мальчику было слышно все, что говорил Пифагор. Его голос, усиливаемый пустотой, приобрел необыкновенное, почти божественное звучание.
– «Почему я вас привел в пещеру?» – спросите вы меня. Во мраке вы лишены всего того, что потворствует обману его разума и служит источником заблуждения. Сюда не проникают лучи Гелиоса, катящегося по небу, подобно огненному колесу. На огромном расстоянии он видится окружностью, а на самом деле это колоссальный огненный шар, во много раз превышающий размеры Земли. Здесь не видно и звезд, которые кому-то кажутся гвоздями, прибитыми к небесной сфере, а это рассеянные в пространстве числа.
По шороху перекатывающихся камешков Залмоксис понял, что Пифагор перешел в дальнюю часть пещеры. Оттуда послышалось:
– Зрением и слухом обладают все населяющие землю существа. Каждое из них видит и воспринимает окружающий мир по-своему. Но только у человека есть некое мерило, позволяющее ему сопоставить наблюдения и ощущения, и ему для установления истины полезно порой оставаться во мраке и безмолвии.
Голос постепенно стихал, удаляясь, но через некоторое время он зазвучал явственнее.
– Небо подчинено всеобщему закону. В нем нет ничего оттого, что поэты именуют хаосом. Все небесные явления, отражающиеся в земной жизни, следуют с такой математической точностью, что мы в состоянии их предсказывать. Поэтому я называю мир космосом. Мне кажется, я знал об этом уже тогда, когда был Эвфорбом и сражался под стенами Микен с Менелаем.
Раздался шум перебивающих друг друга голосов. Пифагор и Анакреонт вступили в спор. Через некоторое время Пифагор позвал Залмоксиса.
Мальчик вошел в пещеру. Факел осветил земляной пол и неровные стены с потеками.
Отделившись от спутников, Пифагор сделал несколько шагов в сторону и поднес факел к стене.
На гладком участке стены проступили какие-то знаки.
– Так писали лелеги и фригийцы во времена моих предков, – торжественно произнес Пифагор, – Гомер как-то упомянул эти письмена, назвав их роковыми.
Анакреонт подошел поближе и провел пальцем по углублениям, оставленным резцом.
– О чем писали в те дремучие времена? Для меня это лишенные смысла палочки, крестики, кружочки.
– Это числа – единицы, десятки. Все нами видимое есть выражение числа, невидимого и вечного. Все сущее – воздух, вода, земля – вторично по отношению к числу. Исследуя числа, мы в состоянии понять не только расстояния, отделяющие нас от видимых и невидимых миров, но уяснить законы их возникновения и гибели. Что касается данного числа, то оно записано Анкеем. Под ним имеется плита – вы можете ее нащупать. На ней стоял ксоан Аполлона, находящийся ныне в Герайоне.
– Но откуда тебе, Пифагор, известно, что это надпись тех времен? – усомнился Анакреонт.
– Из видений, раскрывающих мои прошлые жизни. Иногда я вижу себя Эвфорбом, иногда – делосским рыбаком Пирром.
– Мало ли что может привидеться? – улыбнулся Анакреонт. – И я нередко себя вижу, задремав, в объятиях юной красавицы, покрывающей мою грудь страстными поцелуями.
– И ты, проснувшись, находишь их следы? Ведь нет? А вы видите на стене древние письмена. И вот еще…
Пифагор засунул руку под полу хитона и извлек оттуда небольшой слиток. Поднимая его, он проговорил:
– Этот предмет искатели губок вытащили со дна бухты близ скалы, которую называют Парусом. Вглядитесь. Это кусок меди, напоминающий бычью шкуру. Сравните – на нем те же знаки, что и на стене. Это не что иное, как деньги, какими пользовались во времена Приама и Анкея.
Пифагор торжествующе взглянул на собеседников.
– А между тем Гомер не знает о том, что в те времена были деньги. Помните, как у него ахейцы покупают вино?
Все остальные ахейцы вино с кораблей получали.
Эти медью платя, другие – блестящим железом,
Шкуры волов приносили, коров на обмен приводили
Или же пленных людей…
Что это, как не клевета на моих, да и на ваших предков? Представьте себе обрисованную Гомером картину – и куда бы продавцы вина могли деть, например, коров? Как бы они их разместили на своих беспалубных суденышках? Нет, не коровами и шкурами быков, не железом, имевшим тогда еще цену золота, а вот такими медными слитками, изображавшими шкуры, расплачивались в старину наши предки. И подобных нелепиц у Гомера хоть отбавляй!
Анакреонт протянул руку и, взвесив слиток на ладони, сказал:
– Увесистое доказательство.
Вращающийся калаф
На Самосе да и повсюду в местах обитания ионийцев, эолийцев, но не дорийцев можно было слышать забавные истории, героями которых выступали софосы (мудрецы). Если мореход следил за волнами, чтобы определить направление и силу ветра, то софос, сидя на скале над прибоем, считал набегающие волны и, сбиваясь со счета, рвал на себе космы. Если земледелец обращал взгляд на ночное небо для определения срока посева и сбора урожая, то софос наблюдал звезды целыми ночами, чтобы дать им название. Днем же он находил у себя под ногами нечто такое, на что другой не обращал внимания, и уверял, будто бы на месте луга или пашни некогда простиралось море. Вместо того чтобы скрываться в жаркое время в тени, он измерял тень деревьев и высоких домов, вызывая на себя гнев Гелиоса. Он появлялся в людных местах и, выбрав себе жертву, засыпал ее вопросами и потом сам же на них отвечал.





