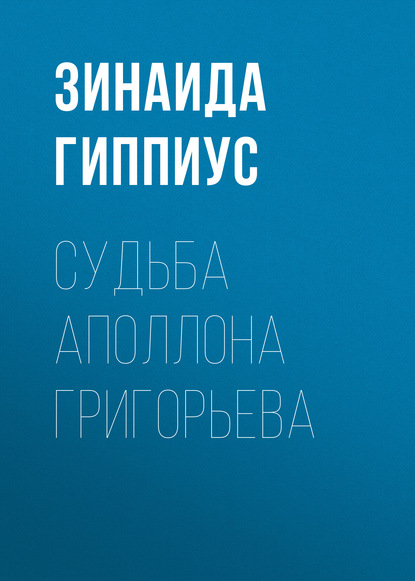Полная версия
Полная версияПолная версия:
Зинаида Николаевна Гиппиус Неподходящая
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Зинаида Гиппиус
Неподходящая
Валя сама хорошенько не знала, как это случилось, как она сказала «да» и сделалась невестой студента Шатицкого.
Они познакомились в каком-то кружке молодежи, где Валя зимой бывала. Валина мама находила, что русская девушка должна быть «à la page»[1] и в русском отношении, т. е. общаться с русской молодежью, притом не на одних теннисных площадках, но идейно тоже. Валя не противилась, – она вообще редко чему противилась, – но на собраниях не то что скучала, а была рассеянна. Молодые ораторы говорили горячо, но не совсем понятно; громили капитализм, партийную политику, – политика же Вале плохо давалась; так, на веру больше, возьмет, что услышит, а потом забудет.
России она не знала, а потому особенно ее обожала. Какую Россию, какой образ ей представлялся, – она не могла бы сказать. Что-то туманное, прекрасное и – цельное: самые разные эпохи, – царствование Екатерины, время «Войны и мира» Толстого, и дальше, – все у нее смешивалось и сливалось в одном горячем чувстве. Иногда ей снилась Россия в виде старой, – а больше, сказочной, конечно, – Москвы: колокола, солнце, и кругом все на солнце блестит. Никому об этих снах не рассказывала: какие-то «несовременные».
Впрочем, мама и так находит, что Валя «несовременна». Даже лицом «вся в бабушку», взгляд даже томный, как на бабушкином портрете, где она написана белокурой красавицей. Но бабушка – институтка, а Валя в парижском лицее училась и спортом занимается. Спорт, – а рядом стихи, которые она для чего-то переписывает в тайный альбом. Особенно любит она Жуковского. Ей кажется, что там (где?) все особенное, и люди – не как все…
Лева Шатицкий был решительно как все. Ходил без шляпы, с приклеенными на голове волосами, в легком макинтоше: шагал крупно, подрагивая на каждой ноге; в кружках громил старую, засохшую в партиях, эмигрантщину; кончал с большим огнем и приблизительно так: «Нет, не отжившие отцы наши, а мы, только мы, непосредственным чувством воспринявшие национальную Россию и мессианское ее призвание…».
«Россия – Мессия» – это Валю, от привычки, может быть, не трогало. Но мама находила, что хорошо, и когда со студентом они познакомились, и Валя увидала, что мамочка очень ему понравилась, то и Валя стала находить его «милым». Валя обожала свою маму и гордилась, что она такая красивая.
Может быть, Шатицкий за Валей и ухаживал, – она не знала, не могла бы сказать, никогда об этом не думала, – ну, и не заметила. Вдруг, – именно вдруг, – случилось, что он сделал ей предложение. Это было при маме. Оба они смотрели на нее, улыбаясь, и мама так, очевидно, не сомневалась в Валином «да», что ей ничего другого и нельзя было сказать. Сказала, расплакалась и убежала. «Совсем, как бабушка!» – говорила потом, смеясь, мама.
Но Валя заплакала не совсем, как бабушки плакали; те – от стыдливой радости; Валя, в этот первый момент, просто от неожиданности. Ночью же, одна, пустилась в новые слезы; хоть и не горькие, а все же и утром подушка была сырая.
Дело в том, что уже давно Валя была тайно влюблена. Но любовь эта – такая невозможная, такая безнадежная, такая, ну, совсем другое, чем свадьба с Шатицким; и хоть проплакала Валя всю ночь, – свадьба эта казалась ей вещью простой. Лучше бы, конечно, если б ее не было, но что ж, раз вышло! А это не измена. Никто, ведь, и ничто не может помешать Вале любить «его», как она любит; никто во всем мире не знает и узнать не может об этой любви. Уж много месяцев прошло с тех пор, как Валя видела «его», неизвестного, проходящего мимо, видела почти каждое утро. А он и сейчас перед ней, как живой. Небо над южным морем, белые камни набережной… и он. Раз он проходил, держа шляпу в руке; Валя видела темные, с серебром, волнистые волосы. Как всегда, глаза его встретились с Валиными на мгновенье. И, как всегда, – он прошел.
Ни кто он, ни имени его Валя не знает и не хочет знать. Ей довольно того, что нужно знать: она его любит. Лева Шатицкий? Он, кажется, славный. Валя будет ему верной женой. Все пойдет, как надо, это… и другое, ее никому неведомая, навечная любовь.
И Валя была даже весела. Только рассеянна стала не в меру. Раз поехали они в Версаль, втроем (всегда втроем гуляли и катались), и Валя, хотя за рулем сидеть ей было привычно и машину свою она знала, – вдруг, без нужды, чуть на грузовик не наехала.
– Нет, – сказала удивленная мама. – Влюбленным девочкам такого дела поручать нельзя. Да не красней, пожалуйста!
– А влюбленным мальчикам можно? – засмеялся Лева и сел на Валино место, за руль.
Валя, от маминого замечания, действительно покраснела: если б мама знала, какая это правда, о влюбленной девочке!
В конце марта Лева объявил, что едет «домой». Всегда в это время ездит. «Традиция! Мой старик ждет. А теперь и надо его повидать».
Вскоре собралась на юг и Валина мама.
Накануне отъезда, вечером, в неурочный час, Валя вошла в мамин кабинет. Мама, за бюро, проверяла какие-то счета, звенела ключами. Вскинула темные ресницы.
– Что тебе, девочка?
Красивой мамой своей Валя недаром гордилась: совсем еще молодая, и так на Валю не похожа: смуглая, с теплым румянцем, с быстрыми движениями.
– Я, мама… – начала Валя и остановилась, будто задохнулась. – Я не хочу… не хотела бы ехать.
– Не хочешь ехать? Да почему? Что с тобой?
Валя опустилась в кресло и заплакала. Плакала смешно: лицо не изменялось, только из открытых глаз крупными горошинками падали светлые слезы.
– Пойдем, деточка, ляг в постель, – сказала мама, покачав головой. – Изнервничалась, сама себя не понимаешь.
Валя и вправду себя не понимала. Чего она боится? Разве не все уже обдумано, решено на вечные времена? Ну, увидит опять «его», встретятся они глазами, и пройдет он, неизвестно куда, неизвестно кто, вечно и тайно любимый… Что изменилось?
Однако в первый день приезда, Валя, чтобы не выйти на Променаду, пожаловалась на усталость и легла в постель. А было такое яркое солнце! Спать не хотелось, но лежала с закрытыми глазами. Мама что-то говорила ей, – о Леве, кажется; не слушала.
На другое утро надо же, наконец, выйти. Да Валя уж ни о чем не думает, так лучше. Вот оне сидят на скамейке, на широкой Набережной. Море, в сверкании, круглится очень что-то большое, пустое, голое. Пустота и сверканье успокаивают, усыпляют Валю. Тени людей скользят мимо, но Валя не смотрит, ей сегодня безтревожно. Нежное лицо с остреньким подбородком кажется розовым от кружева воздушной шляпки.
Маме хочется пройтись; но Валя еще слаба, пусть отдохнет. И Лева сказал, они сюда…
– Ах, да вот же они! Валя, Валя, посмотри, кто идет!
Валя подняла глаза. Увидела, в двух шагах от себя, очень высокую, тонкую, по военному прямую фигуру человека в светло-сером. Увидела, – когда он, кланяясь, снял шляпу, волнистые, темные с серебром, волосы. Увидела знакомые, навсегда милые, глаза… и больше ничего не увидела.
– Боже мой, ей дурно! – закричала мама. – Это солнце! Ради бога, простите! Левочка, вы мне поможете довести ее домой, отель на-Ротив. Но как несчастливо, Петр Львович, для первого знакомства…
Валя слышала голос, но глаз так и не открыла. Может быть, и в самом деле тут было действие солнца. Долго она металась и бредила. Мама, переменяя холодные компрессы, прислушивалась к бреду, но ничего не понимала.
Шатицкие пообедали этим вечером в Казино, а потом пошли по крутой дороге вверх, где ютилась, среди зелени, маленькая вилла Петра Львовича. Вечер был свежий, воздушный. Лева, после обеда, находился в самом приятном настроении. Любил иногда и покутить, и поболтать со своим «стариком», – ведь, в сущности, они приятели! А приятельские эти отношения даже помогали Петру Львовичу всматриваться в сына ближе: славный мальчик, неглупый, только находят на него какие-то легкомысленные фантазии; допытаться – и сам он не знает, что, почему и зачем.
Допытываться, обходными путями разузнавать, Петр Львович умел. И, когда они, придя домой, сели еще покурить на сумеречной веранде, Петр Львович уже много знал насчет Левиного жениховства. Знал, что это «как-то само собою вышло», что «обе оне – прелесть», хотя «абсолютно разные».
– Да, мамаша побойчее, – сказал Петр Львович. – Я их еще в прошлом году здесь видал. Вот не думал породниться! Да и о тебе не думал, что на двадцать втором году в брак вступишь. Ничего, ранний брак – хорошее дело.
– Ну, положим… – протянул Лева, расхаживая по веранде. – Ведь не сейчас же… Спешить некуда.
– Конечно. Ближе узнаете друг друга. Вот ты говоришь, она молчаливая такая. И в кружках ваших особой деятельности не проявляет. Может ведь статься, – она тебе и не подходит.
Лева неожиданно вспыхнул.
– Как это не подходит? Уж ты не родительский ли протест заявляешь? Благословения, что ли, лишишь?
– Не лишу, мой друг, не лишу. Женись хоть завтра. Я так, к слову сказал. И раз ты ее любишь, и она тебя любит…
Остановился, ожидая реплики, но Лева не сказал ничего.
– Я готов даже совсем в твои дела не мешаться, – продолжал Петр Львович. – Извинись завтра перед ними, скажи, что я нездоров, очень сожалею…
– Нет, нет! – торопливо перебил Лева. – Мы, напротив, хотели… То есть, она хотела… то есть, я о матери говорю. В ней много еще от традиций. Познакомьте, да познакомьте нас с вашим отцом… Ты брось эти свои манеры, не обижайся, сделай милость. Завтра же пойдем. Вот увидишь: замечательный между ними контраст! Конечно, и мать чужда актуальности. Да ты этого не поймешь. Это вопрос поколений.
Лева долго еще разглагольствовал: то о поколениях и парижских кружках, то о прелестной семье, которую они завтра увидят, то опять о кружках… Петр Львович молчал, а скоро перестал слушать. Он уже знал все, что ему нужно было знать. Если б Лева не был так увлечен собственным красноречием, он заметил бы, когда вспыхивала папироска, что отец улыбается своей лукаво-ласковой улыбкой, которая неизменно предвещала какую-нибудь неожиданность.
* * *Вот уже скоро два года, как Валя замужем за Петром Львовичем Шатицким. Они живут постоянно в той же вилле, наверху, над блестящим южным городом. Молодая «генеральша», – как все ее зовут, – расцвела, пополнела и много занимается благотворительностью. Недавно ее заботами открылся новый приют для русских детей. Мама, все такая же веселая, приезжает из Парижа и, в сезон, подолгу гостит.
Приезжает, в свои сроки, к «старикам» и Лева. Целуя ручки у юной belle-mère[2], думает, чуть-чуть снисходительно: «Очень мила!». Она же, без всякой снисходительности, искренно: «Право, он славный!».
Сноски
1
«как паж» (фр.).
2
мачеха (фр.).