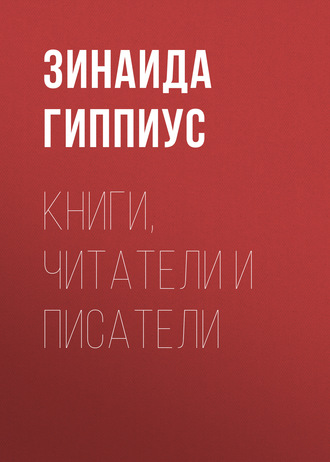
Зинаида Гиппиус
Книги, читатели и писатели
Начало этому литературному безволию, безличности положил, конечно, Чехов. Он первый взглянул на человека издали, со стороны, с той нежной и равнодушно-неподвижной грустью, с какой, вероятно, тени умерших следят за нашей муравьиной жизнью. Что милее, что важнее – дом с мезонином или живущая в нем Мисюсь? Равны, одинаковы для моего потустороннего холода, для моей «вечной» любви. В дом с мезонином, внутрь, мне так же легко и так же ненужно входить, как в душу Мисюсь. Я вижу их, я описываю то, что вижу, – не довольно ли?
В Чехове эта его описательная черта была не единственной, вряд ли даже преобладающей; по писатели, о которых сейчас говорю, несомненно поставили такую бесчеловечность, безличность, а следовательно и безволие – во главу угла. Они все, как Петр Кожевников, описатели более, чем писатели. Хорошо ли это, дурно ли – другой вопрос, но оно так. Напрасно и Л. Андреев думает, что у него есть «человек» и что этот человек с чем-то борется. Каждый «герой» его – опять то же дерево, про которое автор неестественно выдумывает, что оно борется с дровосеками.
Гусевы-Оренбургские не желают еще сойти на описательство, тянутся к «герою», к человеку, – тут их отличие от «модерна», тут их собственная правда. Что «воля» эта нет-нет да и сорвется в тенденцию, оскорбляя художественность – грех, конечно; но такой же грех делают и «современны», совершенно такой же: срываются в свою тенденцию. А тенденция, идет ли она от воли, идет ли от безволия, будет ли она «левой», надоевшей, или «беспартийной» (не менее надоевшей: искусство для искусства!), – одинаково портит художественность произведения.
Издают «описатели» свои произведения так же, как пишут: более или менее красиво, культурно и мало индивидуально: схожие одежды – схожий стиль. Повторяю: все-таки они – дурной первый сорт, и если подойти к Петру Кожевникову или к Борису Зайцеву с литературной программой maximum – от них так же мало останется, как и от Гусева-Оренбургского. Но справедливо ли это? И жаль, что к некоторым писателям нас вынуждают подходить именно с программой maximum: вынуждают безумие их друзей, публики, собственное их поведение. Таков, например, Л. Андреев. Он, по существу, мог бы быть недурной третьестепенный беллетрист; но так неловко, так безрассудно потащили его на первое место, что он, упав, разбился на мелкие куски.
Говоря о двух типичных литературных уклонах, о красивой безвольности, безличности, бесчеловечности и о менее красивой доброй воле, стремлении к героизму (оба уклона взяты, конечно, в схеме, без переходностей и оттенков), я назвал эти явления, при их разности, – равноценными. В самом деле, как решить, что лучше: хороший ли второй сорт или дурной первый? Свежий ли кочан капусты или тронувшийся персик? Капуста притом из неважных; персик великолепный, но подгнил, – чуть-чуть. Среднее кушанье. Должно, однако, признать следующее: если есть у нас теперь несколько писателей настоящего первого сорта, если есть у нас такой роман, как «Мелкий бес» Федора Сологуба, роман отнюдь не бесчеловечный, безвольный, притом современно-красивый и стильный, – то ведь автор его стоит гораздо ближе к Ал. Толстым, к Ремизовым и даже к Петру Кожевникову, нежели к тихой, доброй середине Гусевых-Оренбургских. Увы, почему-то «воля» последних еще не дала нам ни одного настоящего писателя, нашего, сегодняшнего. Может быть, даст? Посмотрим…
В заключение несколько вынужденных слов о критиках.
Лет пятнадцать тому назад самым острым литературным фельетонистом был нововремеиский Буренин. Из сказки слова не выкинешь, надо это признать. Судьба его – печальная судьба непонятного неудачника. Кажется, он обладал поэтическими способностями, большим литературным вкусом и пониманием. Но почему-то осекся (еще в незапамятные времена), и навеки озлобился. Все свои способности он употребил на выработку яда, все литературное остроумие – на высмеивание, на грубый памфлет. Зная сам, что писать иначе уже не может, он того, над кем и над чем смеяться запрещало ему внутреннее чутье, – не касался вовсе. Он замолкал. Так замолк о Чехове, да и о некоторых других. При первых звуках первого декадентства – он улавливал смешное и слабое в молодых голосах и указывал на него грубо, но верно. Большая публика его никогда не любила и не читала, но для писателей он был «забавной полезностью». Давно… Времена эти прошли. Вот уже лет десять, как Буренин потерял глаза и зубы. Он уже никого и ничего не различает, имена и лица для него смешались в один хаос, которого он бессильно испугался; он так «отстал» от литературы, даже внешне, что вместо прежних остроумных пародий царапает что-то наивно-невежественное и к делу не относящееся. Он более ни забавен, ни полезен. Злобная «критика» его свелась окончательно к двум словам: «жид» и «баба». Вся литература для него разделилась на две части: с одной стороны, жиды, а с другой – бабы. Тяжело, думаю, существовать с таким убеждением. Но не менее тяжело нам, – смотреть на бесславные седины талантливого человека.







