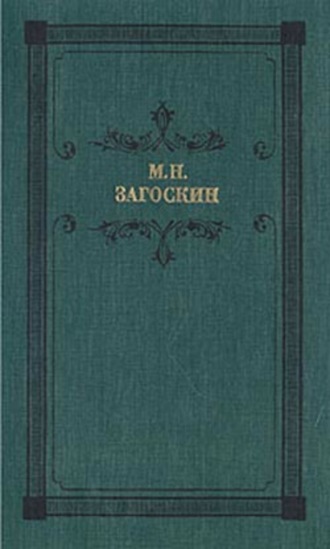
Михаил Загоскин
Вечер на Хопре
Рассказы и повести, которые я слышал в последний вечер, проведенный мною у Ивана Алексеевича, показались мне столь любопытными, что я с величайшей точностию записал их в моем дорожном журнале. Боясь прослыть суевером, невеждою и человеком отсталым, я до сих пор не смог напечатать моих записок; но когда увидел, что с не которого времени истории о колдунах и похождениях мертвецов сделались любимым чтением нашей публики, то ре шился наконец выдать их в свет. Не смею обещать моим читателям, что они прочтут их с удовольствием или хотя бы без скуки, но твердо и непоколебимо стою за истину моих рассказов. Да, почтенные читатели! Решительно повторяю, что есть русские истории, которые несравненно более походят на сказки, чем эти были и предания, основанные на верных не подлежащих никакому сомнению фактах.
Ветер бушевал по лесу, мелкий дождь, как сквозь частое сито, лился на размокшую землю. Еще на деревянной каланче не пробило и шести часов, а на дворе уже было так темно, что хоть глаз выколи. Мы все собрались в кабинет. Хозяин, Кольчугин, исправник и я сидели вокруг пылающего камелька, а Заруцкий и Черемухин расположились преспокойно на широком диване и, куря молча свои трубки, наслаждались в полном смысле сим моральным и физическим бездействием, которое итальянцы называют: far niente[23].
– Ну, погодка! – сказал наконец Кольчугин, прислушиваясь к вою ветра. – Хоть кого тоска возьмет.
– И, полно, братец! – прервал Иван Алексеевич. – Да это– то и весело. Что может быть приятнее, как сидеть в ненастный осенний вечер с хорошими приятелями против камелька, курить спокойно свою трубку и, поглядывая на плотно затворенные окна, думать: Вой себе, ветер, лейся, дождь! Бушуй, непогода! А мне и горюшки мало! Что и говорить! Умен тот был, кто первый вздумал строить дома.
– И делать в них камины, – прибавил исправник, подвигаясь к камельку.
– Не равен дом, господа, – сказал Кольчугин, вытряхивая свою пенковую трубку, – и не в такую погоду не усидишь в ином доме. Я сам однажды в сильную грозу и проливной дождик решился лучше провести ночь под открытым небом, чем в комнате, в которой было так же тепло и просторно, как в этом покое.
– А что? – спросил исправник. – Видно, хозяева были тебе не очень рады?
– Ну нет! Один хозяин обошелся со мною довольно ласково, да от другого-то мне туго пришлось; хоть и он также хотел меня угощать, только угощенье-то его было мне вовсе не по сердцу!
– Вот что! – сказал Иван Алексеевич. – Да это, видно, брат, целая история.
– Да, любезный, такая история, – продолжал Кольчугин, набивая снова свою трубку, – что у меня и теперь, лишь только вспомню об этом, так волос дыбом и становится.
– Что вы это говорите! – вскричал Заруцкий. – Антон Федорович! Помилуйте! Вы человек военный, служили с Суворовым, а признаетесь, что чего-то струсили.
– Да, батюшка, не прогневайтесь! Посмотрели бы мы вашей удали. Нет, Алексей Михайлович! Ведь это нечто другое; поставь меня хоть теперь против неприятельской батареи, видит бог, не струшу! А вот как где замешается нечистая сила, так уж тут, воля ваша, и вы, батюшка, немного нахрабритесь: сатана не пушка, на него не полезешь.
– Ого! – сказал Черемухин, перемигнувшись с Заруцким. – Так в вашей истории черти водятся?
– Смейтесь, батюшка, смейтесь! – продолжал Кольчугой. – Я знаю, что человек вы начитанный, ничему не верите…
– Кто? Я? – прервал Черемухин. – Что вы, батюшка Литой Федорович, перекреститесь!
– Добро, добро! Прикидывайтесь! Вот мы так люди неученые; чему верили отцы наши, деды, тому и мы верим.
– Да как же, братец, – сказал хозяин, – ты мне никогда об этом не рассказывал?
– А так, к слову не пришлось. Пожалуй, теперь расскажу. Дай-ка, батюшка Иван Алексеевич, огоньку!.. Спасибо, любезный!
Все придвинулись поближе к рассказчику, и даже Заруцкий с Черемухиным встали с дивана и уселись подле на стульях. Антон Федорович Кольчугин раскурил трубку, затянулся, выпустил из-под своих седых усов целую тучу табачного дыму и начал:
ПАН ТВАРДОВСКИЙ
В рассказе использован материал распространенной в Польше легенды о гордом шляхтиче Твардовском, занявшимся чернокнижием и ради удовлетворения своих прихотей продавшим душу дьяволу. В польской классической литературе о нем писали А. Мицкевич и И. Крашевский.
– Это было в 1772 году, вскоре по взятии Краковского замка[24], который, сказать мимоходом, вовсе не так здесь намалеван, – промолвил рассказчик, указывая на одну из стен кабинета. – Ну, да дело не о том. Хотя Суворов не был еще тогда ни графом, ни князем, но об нем уж начинали шибко поговаривать во всей армии. Он стоял с своим небольшим корпусом лагерем близ Кракова, наблюдая издали за Тиницем и Ландскроном[25]. Астраханский гренадерский полк, в котором я имел честь служить полковым адъютантом, принадлежал к этому обсервационному корпусу. Наш полковой командир был человек добрый, отлично храбрый и настоящий русский хлебосол. Почти все штаб– и обер-офицеры каждый день у него обедали, и кому надобны были деньги, тот шел к нему прямо, как в Опекунский совет. Но вот что было худо: наш полковой командир был женат, и это бы еще не беда, да жена-то у него была такая нравная, что и боже упаси!
– Так что ж, – прервал Заруцкий, – тем хуже для мужа, а офицерам-то какое до этого дело?
– Какое дело! – повторил Кольчугин. – Эх, сударь! Время на время не приходит. Нынче после полкового начальника первый в полку человек старший баталионный командир; а у нас бывало, коли полковник женат, так второй человек в полку полковница, а если она бойка да хоть мало-мальски маракует в военном деле, так и всем полком заправляет. То– то и есть, батюшка! Нынче век, а то был другой. Я уж вам докладывал, что наш полковник был человек храбрый, не боялся ни пуль, ни ядер, а перед женой своей трусил. Она была женщина дородная, видная, белолицая, румяная… а удаль-то какая… голосина какой!.. Ах ты господи боже мой!.. Что и говорить: город-барыня! Не знаю, потому ли, что она любила своего мужа, или потому, что была очень ревнива, только никогда от него не отставала: мы в поход – и она в поход. В то время, как наш полк стоял лагерем, она жила в Кракове и хоть могла часто видеться с своим мужем, но решилась наконец совсем к нему переехать. Нашему полковому командиру это не вовсе было по сердцу – да ведь делать-то нечего: хоть не рад, да будь готов. Палатку перегородили, наделали в ней клетушек, а из самого-то большого отделения, где, бывало, мы все бражничали с нашим командиром, сделали спальню и поставили широкую кровать с розовым атласным пологом. Я думаю, господа, вы все знаете, что Суворов не очень жаловал барынь, а особливо когда они жили в лагере и мешались не в свои дела, да он был еще тогда только что генерал-майор, связей никаких не имел, а наша полковница происходила из знатной фамилии, и родные ее были в большом ходу при дворе. Другой бы на его месте похмурился, нахмурился, да на том бы и съехал, а наш батюшка Александр Васильевич и не хмурился, а выжил полковницу из лагеря. И теперь без смеха вспомнить не могу. Экой проказник, подумаешь! Умен был, дай бог ему царство небесное! Когда мы вышли в лагерь, он отдал приказ по всему корпусу, что если пустят одну сигнальную ракету, то войскам готовиться к походу; по второй – строиться перед лагерем; по третьей – снимать палатки, а по четвертой – выступать. Он не любил, чтоб солдаты у него дремали, и потому частехонько делал фальшивые тревоги то днем, то ночью. Бывало, пустят ракету, там другую, Суворов объедет весь лагерь, поговорит с полковниками, пошутит с офицера ми, побалагурит с солдатами, да тем дело и кончится. Вот этак с неделю погода стояла все ясная, вдруг однажды после знойного дня, ночью, часу в одиннадцатом, заволокло все небо тучами, хлынул проливной дождь, застучал гром и пошла такая потеха, что мы света божьего невзвидели. Я на ту пору был за приказаниями у полковника. Жена его боялась грома и, чтоб не так была видна ей молния, забралась на постель и задернулась пологом, однако ж не спала. Лишь только я вышел из палатки, чтоб идти домой, – глядь!.. эге! сигнальная ракета. Я назад, докладываю полковнику. «Как? – закричала барыня, которая сквозь холстинную перегородку вслушалась в мои слова. – Да что, ваш полоумный генерал вовсе, что ль, рехнулся? В такую бурю тревожить весь лагерь!» – «Успокойся, Варенька, – сказал полковник, – ведь это фальшивая тревога, может статься, и второго сигнала не будет. А меж тем вели седлать мою лошадь, – прибавил он шепотом, обращаясь ко мне, – кто его знает! Да чтоб люди были готовы». Я побежал исполнять его приказания и вот гляжу, минут через десять, зашипела вторая ракета, люди в полной амуниции высыпали из палаток и начали строиться. Прошло еще минут пять. Чу! Третья! Вот те раз… Суворов шутить любил, да только не службою, да и народ-то был у нас такой наметанный, что и сказать нельзя! Закипело все по лагерю, в полмига веревки прочь, колья вон, и по всем линиям ни одной палатки не осталось. Взвилась четвертая ракета, авангард выступил, за ним тронулся весь корпус, и мы потянулись по дороге к Ландскрону. Ну, господа, не всякому удастся видеть такую диковинку. Пока бегали в обоз, пока заложили коляску, прошло с полчаса, и во все это время… вспомнить не могу!.. То-то было смеху-то!.. Представьте себе, ночью в чистом поле, под открытым небом – двуспальная кровать с розовым атласным пологом. А дождь-то, дождь – так ливмя и льет! Ну! Присмирела наша строгая командирша! Господи боже мой!.. Растрепало ее, сердечную, дождем, намокла она, матушка наша, словно грецкая губка! Куда вся удаль девалась! Вот отвезли ее кой-как назад в Краков, а корпус, отойдя версты две, остановился опять лагерем; и я в жизнь мою никогда не видывал, чтоб кто-нибудь бесился так, как взбеленилась полковница, когда на другой день проказник Суворов прислал к ней своего адъютанта узнать о здоровье.
– Ай да батюшка Александр Васильевич! – вскричал с громким хохотом хозяин. – Что и говорить, молодец!
– Да, это очень забавно, – сказал Черемухин. – Только позвольте, Антон Федорович, речь, кажется, была о сатане…
– А жена-то полковника? – прервал Заруцкий.
– Да это другое дело; я говорю о нечистой силе.
– Постойте, батюшка, – продолжал Кольчугин, – дойдет и до этого дело. Дня через два, как полковница совсем уж обсохла, пошли у нее новые затеи. Жить опять в лагере она боялась, а в Кракове остаться не хотела. Толковали, толковали и решили на том, чтоб сыскать для нее какой-нибудь загородный панский дом или мызу поближе к лагерю. Вестимо дело, кому хлопотать, как не адъютанту; вот я и отправился с утра осматривать все дачи по дороге к Ландскрону и Тиницу. Выбрать было нелегко: наша причудливая командирша хотела и большой дом, и обширный сад, и чтоб никого не было живущих, и то и ее. Целый день я проездил по дачам; измучил своего куцего коня, да и горский жеребец под казаком, который ездил за мною, насилу уж ноги волочил. Мы на одной мызе позавтракали, на другой пообедали, и когда стали пробираться назад в лагерь, то уж день клонился к вечеру; пока еще заря не вовсе потухла, мы проехали верст пять. На дворе становилось все темнее и темнее, вдали сверкала молния, а над нами так затучило, что когда мы поехали лесом, так в двух шагах ничего не было видно. Сначала мы кое-как тащились вперед, но вдруг дорога по лесу как будто б сдвинулась, начало нас похлестывать сучьями, и лошади, наезжая на колоды и пеньки, то и дело что спотыкались. «Ох, плохо, ваше благородие, – пробормотал мой казак, – никак, мы заплутались».
– Видно, что так, Ермилов, – сказал я, приподымая на поводу моего куцего, который в третий уже раз падал на оба колена.
– Вот и дождик накрапывает, – продолжал казак, – кабы бог помог нам до грозы наткнуться на какое-нибудь жилье… Постойте-ка, ваше благородие, кажись, вон там направо лает собака.
В самом деле, недалеко от нас послышался громкий лай; мы поехали прямо на него и через несколько минут выбрались на широкую, обсаженную березами дорогу, в конце которой что-то белелось и мелькал огонек.
– Кажись, это панская мыза, – прошептал Ермилов, – ну, слава тебе господи! Нашли приют.
– Постой-ка, братец, – сказал я, – чтоб нам не заплатить дорого за ночлег: ведь мы не у себя, не на святой Руси. Чай, польские-то паны не больно нас жалуют, хорошо у них останавливаться с командой или днем на большой дороге, а ночью и в таком захолустье… долго ли до греха! Уходят нас, да и концы в воду.
– А что? Чего доброго, ваше благородие, – прервал казак, почесывая в голове, – ведь нас только двое… Да куда же нам деваться?
– Погоди, Ермилов, – сказал я, – надобно подняться на штуки. Я скажу хозяевам, что прислан квартирьером занять эту мызу для полковой квартиры и что завтра чем свет придет сюда первая рота нашего полка.
– И впрямь, ваше благородие, – подхватил казак, – пугнемте-ка их постоем, так дело будет лучше. Коли они станут думать, что мы нарочно к ним приехали и что завтра нагрянет к ним целая рота гренадер, так уж, верно, никто не посмеет и волосом нас обидеть.
Разговаривая таким образом, мы подъехали к высокому забору, позади которого, среди широкого двора, стоял каменный дом в два этажа, с круглыми башнями по углам. В одном углу светился огонек; ни одной души не было видно ни на дворе, ни в доме, все было тихо как в глубокую полночь, и только лаяла одна цепная собака. Ворота были не заперты, мы подъехали к дому, я слез с коня, вошел в сени… никого. Прямо передо мной лестница вверх. Я начал по ней взбираться, сабля моя так стучала по каменным ступенькам, что, казалось, можно бы было за версту меня слышать. Взойдя на лестницу, я приостановился – все тихо. «Кой черт, – подумал я, – неужели в этом доме нет никого, кроме цепной собаки?» Проведя рукою по стене, я ощупал дверь, толкнул, она растворилась; вхожу – опять никого. Холодно, сыро, ветер воет, в окнах нет рам. «Вот что! Эта часть дома не достроена, но где же светился огонек? Кажется, левее». Я вышел опять к лестнице, прошел вдоль стены – еще двери; отворил. Ну! Попал наконец на жилые покои! В небольшой комнатке, слабо освещенной сальным огарком, двое слуг играли в карты, а третий спал на скамье. В ту самую минуту, как я вошел в этот покой, мне послышался вдали довольно внятный говор, как будто бы от многих людей, с жаром между собой разговаривающих. Но лишь только один из игравших в карты слуг, увидя меня, ушел во внутренние комнаты, то вдруг все утихло.
– Как зовут эту мызу? – спросил я у слуги, который остался в передней.
– Эту мызу? – сказал он, глядя на меня так нахально, что я невольно смутился и не вдруг повторил мой вопрос.
– Ее зовут Бьялый Фолварк, – отвечал наконец слуга, продолжая смотреть мне прямо в глаза.
– А как зовут хозяина?.. Да отвечай же, животное, когда тебя спрашивают! – продолжал я, возвысив голос и подойдя к нему поближе.
Слуга попятился назад и, взглянув на своего спящего товарища, пробормотал:
– Моего пана зовут Ян Дубицкий… Гей, Казимир!
– Ну, так и есть! – сказал я. – Насилу же мы отыскали вашу мызу. Веди меня к хозяину.
– Почекай[26], пан! Ген, Казимир!
Третий слуга, который спал на скамье, вскочил и, увидя перед собой русского офицера, закричал: «Цо то есть?.. Москаль!»
– Сойди-ка, брат, вниз, – сказал я, стараясь казаться спокойным, – там стоит казак…
– Казак, – вскричал полусонный лакей, – один казак?
– Покамест один, а скоро будет много. Возьми у него лошадей, отведи их в конюшню, а ему вели взойти сюда.
Слуга не торопился исполнить мое приказание; он поглядывал как шальной то на меня, то на своего товарища, а не трогался с места.
– Ну, что ж ты глаза-то выпучил, дурень, – закричал я повелительным голосом, – иль не слышишь? Пошел! Да смотри, чтоб лошади были сыты!
Слуга, пробормотав себе что-то под нос, вышел вон, и в то же время лакей, который ходил обо мне докладывать, растворив дверь, пригласил меня в гостиную. Пройдя не большую столовую, я вошел в комнату, довольно опрятно убранную и освещенную двумя восковыми свечами. В одном углу приставлено было к стене несколько сабель, и с полдюжины конфедераток[27] валялось по стульям и окнам комнаты. Хозяин, человек лет пятидесяти, с предлинными усами, с подбритой головой, в синем кунтуше[28] и желтых сапожках, принял меня со всею важностию польского магната. Развалясь небрежно на канапе[29], он едва кивнул мне головою и показал молча на табуретку, которая стояла от него шагах в пяти. Ах, черт возьми! Вся кровь во мне закипела; я позабыл, что положение мое было вовсе не завидное; в эту минуту я думал только о том, что имею честь носить русский мундир и служить в Астраханском гренадерском полку капитаном. Не отвечая на его обидный поклон, я оттолкнул ногою табуретку, уселся подле него на канапе и, вытащив из кармана кисет с табаком, принялся, не говоря ни слова, набивать мою трубку. Казалось, это нецеремонное обращение смутило несколько хозяина; помолчав несколько времени, он спросил довольно вежливо, откуда я еду.
– Из лагеря, – отвечал я, продолжая набивать мою трубку.
– И верно, пан… пан поручик…
– Капитан, – прервал я, кинув гордый взгляд на хозяина.
– Препрашу!..[30] Верно, пан капитан заплутался в этом лесу?
– Нет! Я прямо сюда ехал.
– Сюда? – повторил хозяин с приметным беспокойством.
– Да, – продолжал я, раскуривая спокойно мою трубку, – ведь эту мызу зовут Бьялый Фолварк?
– Так.
– А вас паном Дубицким.
– Так есть.
– Я прислан сюда квартирьером; у вас назначена полковая квартира Астраханского гренадерского полка.
– Полковая квартира! – вскричал пан, спрыгнув с канапе.
– Да, завтра чем свет, а может быть, и сегодня ночью придет сюда первая рота нашего полка. Да садитесь, пан Дубицкий!.. Прошу покорно!
Тут взглянул я на моего хозяина: вытянувшись в струнку, он стоял передо мной как лист перед травой, и на лице его происходили такие эволюции, что я чуть было не лопнул со смеху: огромные усы шевелились, глаза прыгали из стороны в сторону, а хохол на голове стоял почти дыбом.
– Да взмилуйся, пан капитан, – завопил он наконец, – куда девать мне целую роту?
– Найдем для всех место.
– Но рассудите сами…
– Эх, пан Дубицкий! – прервал я, развязывая шарф и снимая мою саблю. – Военные люди не рассуждают; делай то, что приказано, вот и все тут.
– Иезус Мария! – продолжал хозяин. – Поместить целую роту!.. Да яким же способом?.. Я сам с больной моей женой живу только в трех комнатах.
– Полно, так ли? – сказал я. – Дом-то, кажется, у вас велик.
– Як пана бога кохам![31] Ну мало ли мыз и лучше и просторнее моей? И кому в голову пришло…
– А вот, – прервал я, – пан Дубицкий, как мы выпьем с вами по рюмке венгерского, так я скажу, кому пришло в голову занять вашу мызу.
– За-раз, пан, за-раз![32] Эй, хлопец!
– Не беспокойтесь! – сказал я, подходя к столу, на котором стояли две бутылки вина и несколько порожних и налитых рюмок. – С нас будет и этого. До вас – пана!
Хозяин приметным образом смешался, и когда вошел слуга, то он, пошептав ему что-то на ухо, сказал, обращаясь ко мне:
– В самом деле, а я было вовсе забыл, что пробовал сейчас с моим экономом это вино, которое вчера купил в Кракове. Ну, что вы о нем скажете?
– Славное вино! Настоящее венгерское! Ну, пан Дубицкий, – продолжал я, выпив еще рюмку, – теперь я вам скажу, кому пришло в голову занять вашу мызу. Полковая квартира простоит у вас день, много два; но наша полковница останется у вас жить, и надолго ли – этого сказать вам не могу. Ей в Кракове так много наговорили хорошего об этой мызе, что она хочет непременно у вас погостить.
– Барзо дзинкую за гонор![33] – сказал хозяин, – но я желал бы знать, кто расхвалил вашей полковнице Бьялый Фолварк? Уж верно, злодеи мои: пан Маршалок, пан Замборский, пан Кланович… Нех их дьябли везмо![34]
– А что ж? Мне кажется, они говорили правду.
– Да будь же ласков! Взмилуйся, пан капитан! – вскричал отчаянным голосом хозяин. – Где будет жить ваша полковница? Во всем верхнем этаже отделаны только три комнаты, в которых я сам кое-как помещаюсь. Конечно, внизу покоев довольно, но я не знаю, можно ли будет и вам в них ночевать.
– А почему же нет?
– Эх, мось пане добродзею![35] То карабоска есть; дали бук, так! Я и сам, лишь только жене моей будет получше, перееду в Краков, и, уж верно, этот дом никогда не будет достроен.
– Но отчего же? – спросил я с невольным любопытством.
– О, пан капитан! Вы человек военный, так, может статься, мне не поверите.
– Да что такое?
– Слыхали ли вы когда-нибудь о пане Твардовском?
– О пане Твардовском? – повторил я и только что хотел было сказать, что нет, как вспомнил, что читал однажды русскую сказку о храбром витязе, Алеше Поповиче, где между прочим говорится и о польском колдуне пане Твардовском, с которым русский богатырь провозился целую ночь.
– А, знаю, знаю! – сказал я. – Этого пана Твердовского, или Твардовского, утащили черти?
– Не только утащили, – прервал хозяин, – а даже протащили сквозь каменную стену, на которой, как рассказывают старики, долго еще после этого видны были кровавые пятна.
– Собаке собачья и смерть, – сказал я, – да что ж общего между вашим домом и этим проклятым колдуном?
– А вот что, мось пане добродзею, мой дом построен на самом том месте, где некогда стоял замок Твардовского.
– Неужели? – вскричал я, поглядев невольно вокруг себя.
– Дали бук, так! – продолжал хозяин. – А что всего хуже, так это то, что весь нижний этаж моего дома построен из развалин старого замка.
– Вот что, – прошептал я сквозь зубы, – да ведь, впрочем, – прибавил я, – это было уже давно?
– Конечно, давно, пан капитан, да от этого мне не легче. Каждую пятницу около полуночи в нижнем этаже моего домика подымается такая возня, что стены трясутся…
– Каждую пятницу?
– Да. Говорят, что в этот самый день черти продернули пана Твардовского сквозь стену и утащили к себе в преисподнюю. Эта стукотня продолжается иногда целую ночь. Все окна осветятся, начнется ужасный вой, потом сделается опять темно, а там снова разольется по всему нижнему этажу такой свет, что можно снаружи видеть все, что делается внутри.
– А что ж там делается? – спросил я, стараясь казаться равнодушным.
– Однажды только, – отвечал хозяин, – мой прежний эконом решился заглянуть туда с надворья, да, видно, увидел такие страсти, что у него язык отнялся, а когда он стал опять говорить, так ничего нельзя было понять из его слов.
– Отчего же?
– Оттого что он был в жестокой горячке.
– Ну, а когда выздоровел?
– Да он не выздоровел, а на третий день умер.
– Вот что! – повторил я опять сквозь зубы, и что-то похожее на лихорадочную дрожь пробежало по моим членам. – Но ведь вы говорите, – промолвил я, промолчав несколько времени, – что это бывает только по пятницам.
– Так, мось пане добродзею! Да ведь сегодня пятница!
– В самом деле!.. И у вас в верхнем этаже нет ни одной свободной комнаты!
– Дали бук, нет! Кроме спальни моей жены, этой гостиной, где живут ее резидентки, и столовой, где сплю я, нет ни одного жилого покоя. Но если, – прибавил с насмешливой улыбкой поляк, – пан капитан не боится…
Если я боюсь?.. Боюсь!.. И это говорит польский пан русскому офицеру!.. Ух, батюшки! Так меня варом и обдало! Мне, капитану Астраханского гренадерского полка, испугаться колдуна, и добро бы еще русского!.. Ах, черт возьми! Да если б сам сатана в польском кунтуше явился передо мною, так я и тогда бы скорее умер, чем на вершок от него попятился.
– Извините, пан Дубицкий, – сказал я, вставая, – я не боюсь ни пана Твардовского, ни пана черта, ни живых, ни мертвых и ночую сегодня в вашем нижнем этаже.
– Как угодно! По крайней мере, я вас предупредил, и если что-нибудь случится…
– Не беспокойтесь! И у меня, и у моего казака есть по паре пистолетов и по сабле, так живых мертвецов мы не боимся, а с нечистой силой справиться нетрудно. Не погневайтесь! Ведь мы не по-латыни читаем наши молитвы! Прикажите мне показать мою комнату.
– Зараз, пан! Да не угодно ли вам чего покушать?
– Благодарю! Я не ужинаю, а, если позволите, возьму с собою эту бутылку венгерского и разопью ее за упокой души вашего Твардовского, только не советую ему мешать мне спать: мы, русские, незваных гостей не любим.
Хозяин проводил меня до передней, в которой, к удивлению моему, я нашел казака в большом ладу с людьми Дубицкого: он потягивал с ними предружески горелку и, судя по двум полуштофам, из которых один уж был пуст, а в другом осталось вино только на донышке, нетрудно было догадаться, что они порядком угостили Ермилова; я еще более уверился в этом, когда он, вскочив со скамьи, начал хвататься за стену, чтоб не повалиться мне в ноги. «Ну, плохой же будет у меня товарищ!» – подумал я, но делать было нечего. Один слуга пошел вперед со свечой, а двое повели с лестницы казака, который, несмотря на мое присутствие, беспрестанно лобызался с своими провожатыми, благодаря их за дружбу и угощение.
Когда мы спустились с лестницы, слуга, который шел впереди, отпер огромным ключом толстые двери, и мы вошли в большую комнату со сводами. Я нехотя заметил, что провожатые мои робко посматривали во все стороны и с приметным беспокойством прислушивались к шелесту собственных шагов своих; он раздавался под сводами обширных комнат, сырых и мрачных, как церковные подземные склепы; недоставало только одних гробов, чтоб довершить это сходство. Мы вошли наконец в одну угольную комнату, которая более других походила на жилой покой. Множество фамильных портретов по стенам, дюжины две стульев, обитых черной кожею, канапе, кровать с шелковым пологом, большие стенные часы и дубовый стол, на который слуга поставил свечу, а я – бутылку венгерского, составляли все убранство моей опочивальни. Слуги, пожелав мне спокойной ночи, вышли вон.
– Не стыдно ли тебе, Ермилов, – сказал я казаку, который, прислонясь к стене, старался как можно бодрее стоять передо мною, – ну, выпил бы стакан-другой, а то посмотри, как натянулся!
– Никак нет, ваше благородие! – пробормотал казак. – Прикажите, по одной дощечке пройду.
– Молчи, скотина!
– Слушаю, ваше благородие!
– Где мои пистолеты?
– В чушках[36], ваше благородие.
– И ты оставил их там, на конюшне?
– Ничего, ваше благородие! Народ здесь честный, все будет цело.
– Подай мне свои!
Казак вынул из-за пояса свои пистолеты и, подавая мне, сказал:
– Да извольте осторожнее, они заряжены пулями. Знатные пистолеты! Уж здешние люди ими любовались, любовались!..
– Хороши! Пошел, ложись вон на это канапе! Да постарайся выспаться проворнее, пьяница!
Казак, пробираясь вдоль стены, дотащился до канапе, прилег и в ту же минуту захрапел, а я взял свечу и прежде всего осмотрел двери моей комнаты: они запирались снаружи, а внутри не было ни крючка, ни задвижки. Это обстоятельство мне очень не понравилось, но делать было нечего. Притворив как можно плотнее двери, я взглянул мимоходом на почерневшие от времени портреты, которыми увешаны были все стены. Во всю жизнь мою я не видывал такого подбора зверских и отвратительных лиц. Бритые головы с хохлами, отвислые подбородки, нахмуренные брови, усы, как у сибирских котов, – ну, словом, что портрет, то рожа, и одна другой отвратительнее. «Ай да красавцы, – подумал я. – Ну, если домовые, которые изволят здесь пошаливать, не красивее их, так признаюсь!..» Более всех поразил меня портрет какого-то святочного пугала с золотой цепью на шее, в черном балахоне и в высокой четырехсторонней шапке. Его сухое и бледное лицо, зачесанные книзу усы и выглядывающие из-под навислых бровей косые глаза были так безобразны, что я в жизнь мою ничего гаже не видывал. Внизу на золоченой раме было написано имя пана Твардовского. «Так вот он! – вскричал я невольно. – Ну, хорош, голубчик! И он же приходит с того света живых людей пугать! Ах ты, чертова чучела! – примолвил я, плюнув на портрет. – Да небойсь, меня не испугаешь, еретик проклятый!» Не знаю почему, но я не чувствовал в себе никакой робости, мне казалось, что в Польше и черти должны бояться русского офицера. А притом рассказ моего хозяина хотя и произвел на меня некоторое впечатление, но я знал, что поляки любят при случае отпустить красное словцо и сделать из мухи слона. «Впрочем, – подумал я, принимаясь за бутылку венгерского, – если и в самом деле нечистая сила проказит в этом доме, так что ж? Пошумят, пошумят, да тем дело и кончится. Хорошо демону шутить с еретиком, а ведь я православный!» Рассуждая таким образом, я скинул верхнее платье, положил подле себя саблю и пистолеты, сотворил молитву, перекрестился и, хлебнув еще токайского, улегся на постель. Свет от воскового огарка, который я не погасил, падал прямо на противоположную стену и хотя слабо, но вполне освещал вполне достаточно. Несмотря на то что я вовсе не трусил, ожидание чего-то необыкновенного не давало мне сомкнуть глаз. По временам мне казалось, что все эти портреты как будто бы одушевлялись, что один моргал глазами, у другого шевелился ус, третий кивал мне головою; и хотя я понимал, что это происходило оттого, что у меня начало уже рябить в глазах, а, несмотря на это, заснуть не мог. На дворе бушевала погода, выл ветер, дождь лил как из ведра, но подле меня и по комнатам все было тихо и спокойно. «Уж не подшутил ли надо мною хозяин, – подумал я. – Чего доброго! Эти поляки любят позабавиться над нашим братом, русским офицером. Вестимо дело! Когда сила не берет, так хоть чем-нибудь душу отвести. Чай, теперь думает: «Как не поспит всю ночь проклятый москаль, так мое венгерское-то выйдет ему соком!» Ан нет, брешешь, мось пане добродзею, – засну!» Я опустил закинутый полог и принялся думать о старине, о матушке Москве белокаменной, о Пресненских прудах, о красном домике с зелеными ставнями, о моей Авдотье Михайловне, с которою я был тогда помолвлен, о том о сем – и вот мало-помалу меня стало затуманивать, одолела дремота, и я заснул. В то самое время, как мне снилось, что я прогуливаюсь с моей невестою по Девичьему полю, как будто бы толкнули меня под бок – я проснулся. Ба, ба, ба! Что такое? Кажется, в соседнем покое светло? Отдернул полог, гляжу – точно!.. Не размышляя долго, я вскочил с постели, взял в руку пистолет и, подойдя на цыпочках к дверям, порастворил одну половинку. Ну, это еще не очень страшно: посреди комнаты стоит большой стол, на столе огромное блюдо, накрытое чем-то белым, а кругом тридцать стульев. «Посмотрим, – подумал я, – кто это здесь собрался ужинать?» Не прошло пяти минут, как вдруг вдали, как будто бы за версту, послышалось заунывное пение. Вот ближе, ближе – эге! Да это, никак, поют за упокой: напев точно погребальный, только слов не слышно. Чу! Все замолкло – и вот опять, да уж близехонько, как заревут!.. Господи боже мой! Кто в лес, кто по дрова! И вопят как над могилою, и насвистывают плясовые песни – а содом-то какой! Шум, гам!.. Вдруг двери в комнату, в которой стоял накрытый стол, как будто бы от сильного вихря распахнулись настежь, и полезли в них… да все-то в саванах и в белых колпаках с наличниками, ну ни дать ни взять как висельники! Они входили попарно, а позади всех четверо таких же пугал несли на носилках мертвеца; и лишь только эти последние перешагнули через порог, как вдруг все опять завыли, а мертвец приподнялся и сбросил с себя белую пелену, которой был покрыт. Глядь! – точь-в-точь как этот портрет в черном платье: в такой же четырехсторонней шапке, на шее золотая цепь, лицо бледное, усы по две четверти. Ахти! Так и есть!.. Это колдун – пан Твардовский!.. Ну, господа, что греха таить! – дрогнуло во мне ретивое! Меж тем вся эта сволочь разместилась по комнате: одни стали рядышком вдоль стены, другие уселись за столом, сам мертвец расположился на первом месте, только против него один стул остался порожний; и вот, гляжу, колдун манит меня пальцем. «Что делать? – подумал я. – Идти – худо, не идти – стыдно, неравно еще эти польские черти подумают, что я их трушу! Так и быть! смелым бог владеет – пойду!»







