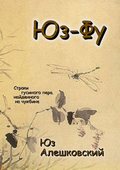Юз Алешковский
Перстень в футляре. Рождественский роман
6
Гелий не мог вспомнить, когда выбрался он из бассейна, с чьей помощью обтерся, как оделся, как вышел на набережную, носящую имя знаменитого анархиста, и как потом оказался в ресторации Дома литераторов.
Было совершенно ясно, кто именно заставил его – человека почти непьющего – начать в том заведении поддавать. Никаких у него не было тогда сомнений, что личность его находится на попечении целого сонма смутных, серо-зелененьких чертяк-официантиков, которые прыгали по дивным резным перилам, полоскались в солянках сборных таежного дуба М-ва и партийного скунса В-о; пробирались внутрь котлеты «киевской» модернового певца ленинских мест Вознесенского; сидели на мельхиоровом краешке судочка, лапки свесив лягушачьи в черную зернистую икорочку безумно разбогатевшего на песенках Рождественского, или писали пенисто и желтенько в «Нарзанчик» прилежной воспевалки Ильича, Воскресенской…
Был для Гелия какой-то издевательски глумливый душок в сношениях шоблы чертей именно с носителями, так сказать, евангельских фамилий… Почему-то колупали бесенята корочку пирожка слоеного на тарелке способного бильярдиста К-ва, демонок кидался мучнистыми крошками калача в гиеноподобную физию стукача Л-го…
Если бы не натуральный страх прослыть чуваком с «протекшей крышей» и оказаться в дурдоме, то после всего, что с ним только что произошло, Гелий с пеной на губах доказывал бы всем этим своим корешам и собутыльникам, что бесы существуют в объективной реальности, данной нам в ощущении, как обожал говаривать Некто, весьма смахивающий внутренне и внешне на одного известного ответработника, руководителя преисподней.
Это они, утверждал бы Гелий, сорвали нашу помолвку. Они опохабили связь двух сердец. Их психотехнические возможности безграничны. Они тайно подключились к моему сознанию. Бесы вложили в мои уста неосторожный вопль насчет проклятого этого перстня в футляре. Дайте чистый лист бумаги, и я изображу, вернее, обезображу с точностью до одной ухмылки, до одного рожка и одного копытца призрачные фигурки бесов, копошившихся тогда в бассейне, как килька на метании икры. О-о-о! Они возникают крайне редко, но они есть. Его нет, а они – есть! Есть! Вот в чем проблема проблем и теория относительности в атеизме. Это же гениальный маневр – отвлечь научный атеизм на борьбу с тем, кого вовсе нет, а их оставить в покое и, в крайнем случае, отдать на откуп психиатров и наркологов…
Пил он тогда по-черному. Пытался человек заглушить в душе чувство, которое – это было предельно ясно – уже никогда его не покинет и которое – исключительно из-за неприученности ума к фиксации в слове всего в нашей жизни анекдотического, трагикомического и необратимо ужасного – он не сумел бы сам для себя обозначить как чувство смерти любовного счастья.
Повеситься в сортире ЦДЛ ХХХХХХХХ1 он не смог. ХХХХХХХХХХХХХХХ2
Хохот паскудных типчиков был столь же скрежещущ, шлепкообразен, шумен и явно шаловлив, как в бассейне. Мало того что Гелий сорвал ремень с трубы, он еще и вляпался в кучу дерьмеистового сталинского жополиза Чуева. Все это явно не спустил в канализацию всей страны – в знак протеста против введения в Прагу танковой доктрины Брежнева – Евтушенко, который искренне восхищал Гелия своим странно безнаказанным, ну просто-таки гениально комфортабельным фрондированием.
Гелий возвратился в таком вот виде в зал. Некоторое время подозрительно и сурово вглядывался в лица закусывавших и выпивавших критиков, писателей и поэтов, верных помощников партии, как бы выискивая среди них виртуозно и прибыльно инакомыслящего Воображеньку-Евтушеньку, чтобы выяснить с ним отношения – раз и навсегда.
Потом невероятно глупый и полуслепой певец незадушимой дружбы молодежи бросился к нему гуняво лобызаться. А студент Литинститута, паренек с Урала, будущий инструктор агитпропа ЦК, угодливо подтер Женькино дерьмо свежим номером «Молодого коммуниста».
Наконец, знакомая, пожилая, но весьма сексапильная дама из ИМЛИ бросила своих собутыльников и похотливо вывела Гелия из зала под похабные лозунги и пакостнический смех одного литературного критика. Налакавшись, критик этот всегда почему-то начинал убеждать Гелия, что «верить следует не в Бога, а только в Человека, разумеется, русского, но, разумеется, в общечеловеческом смысле, чтобы лишить евреев их главных шулерских козырей – самоизбранности и лжемессианизма».
С вынужденным юморком превозмогая брезгливость, филологическая дама разула и до трусиков раздела Гелия в скверике перед высоткой. Вроде бы даже успела доставить ему там – в порядке увертюры, как она выразилась, – одно чрезвычайно острое удовольствие, на миг перебившее в мозгу скверное и стойкое смердение жизненной драмы. Затем довезла его полуголый полутруп на такси до дома. Он прорыдал всю ночь на пышнейшей груди этой филологини-мифологини.
Было для него нечто симптоматичное и абсурдно-дьявольское в таких вот ночных поминках по умершей любви. Безусловно, думал он, все это сконструировала та же самая бесовня. Ни случай, ни враждебный человек не смогли бы изобрести для него такое изощренное безобразие – ночь после жизненного обсера с пожилой нимфоманкой, которая, по слухам, имела в комсомольском возрасте постельную связь с нашим мифологизированным писателем-паралитиком. Похабно-анекдотическая версия этой связи называлась в ЦДЛ «Как закалялась мадам де Сталь»… Выпроводив даму, Гелий весь день страдал от тоски обреченности на тупое, безлюбовное существование и от полного своего бессилия решительно с ним покончить. Но попытки повеситься или отравиться больше не предпринимал. «Будем премило спиваться, – тогда же сказал он сам себе, – и в облаке кайфа проследуем в спасительное Ничто».
7
Бывшую свою возлюбленную он никогда и нигде больше не встречал. Позвонить ей он не мог точно так же, как не мог бы позвонить покойнице, вернее, точно так же, как не сумел бы покойник окликнуть из-под могильного холмика живую прохожую.
Он стал тихим, респектабельным алкашом. Функционировал временами, причем самым казенным образом, в постелях дам богемно-гостиничного типа. Считался оригинальным светилом научного атеизма. Держал на паях еще с одним философом чуть ли не кафедру в Академии общ-наук при ЦК КПСС.
Его часто приглашали на роль высокооплачиваемого консультанта фильмов по произведениям Гоголя и Достоевского, в которых как-либо персонировали нечистые силы или активно действовали лица, верующие драматически глубоко и искренне.
Он часто выезжал за рубеж с различными делегациями. У него имелось там реноме солидного религиеведа, автора монографий и прочих печатных трудов. Так что он вполне мог себе позволить не пользоваться самыми изощренно убойными аргументами научного атеизма, сквозь нищие прорехи которого неприлично обнажается плебейство ума и духа, вызывая в людях неглупых и аристократичных неловкость за публичное самоосрамление человека.
Ему достаточно было, скажем, в дискуссии о Плащанице Христовой пожать плечами и плюралистически корректно улыбнуться – и с ходу яд окончательного сомнения в подлинности посмертного одеяния распятого Спасителя проникал в мозги людей, интеллектуально колеблющихся.
Да что уж говорить о колеблющихся! Благодаря таким вот отработанным манерам публичного поведения маститый, но невежественный – в силу изначальной глупости атеизма – религиевед выглядел временами даже в глазах зарубежных высокоученых иезуитов и отечественных наших, подпольно и кухоннорощенных богословов фигурой в высшей степени тактичной.
Еще бы! Всем своим видом он как бы призывал к милосердию и благородству по отношению к Тому, Кто был и им лично низвергнут в пыль и грязищу объективной реальности после успешного штурма Небес.
Все это выглядело в глазах верующих либералов явной симптоматикой неофициального признания статуса существования Бога, находящегося в, безусловно, временном, земном плену у бесовской власти Князя Тьмы как бы на почетных правах Наполеона или фельдмаршала Паулюса.
Все было, одним словом, о’кей у нашего героя, при взгляде на него со стороны.
Роковые последние строки Пастернака насчет изделия и перстня в футляре, над которыми он смачно глумился в бассейне, буквально ни разу за все эти годы не возникали в его сознании, словно это были не строки, а смертельные, шальные пули, навылет пробившие душу… Пробили, оставили ее, кровоточащую, в одиночестве, а сами равнодушно исчезли в необозримой мировой пустоте…
Странный факт необыкновенно быстрого превращения спортивно-моложавой внешности Гелия во внешность очень рано увядшего, хотя и импозантного человека знакомые и коллеги приписывали действию на его нервы вечной печали оплакивания смерти родителей или же чрезмерно неразумной истасканности в пустыне холостого одиночества. И никто, естественно, не знал, что в нем поселился однажды и никогда уже не покидал его существа тоскливый ужас мгновенной смерти любви, объявший его тогда, в хлорированном аду бассейна.
Надирался он на вечно горестных этих поминках так респектабельно, что никому и в голову бы не пришло заподозрить его в мрачных запоях и почти ежедневных поддачах. Тем более, он убедился, что от него никогда не разит сивушным перегаром, причем не разит самым странным образом, вопреки всем буйным бесчинствам химических веществ в похмельном организме пьющего человека.
Конечно же, Гелий не мог не соотнести явление это с воздействием на свою личность – с того самого злосчастного момента в бассейне – нечистой силы, угодливо опекающей его трижды проклятую жизнь и никому ненужную карьеру.
На людях Гелий выносил присутствие нечистой силы стоически воспитанно. Правда, некоторым дамам гостиничного типа казалось иногда, что их партнер начинает во время полового акта как-то странно и зловеще угрожающе вращать глазами, напоминая собаку, обеспокоенную назойливой мухой, звенящей перед самым ее носом в момент интимного обгладывания мозговой кости.
Но дамы эти никак не сумели бы внимательно проанализировать свои впечатления по причине неудержимого своего стремления к возвышенному, нигде не торжествующего над мелкими помехами жизни и быта с такой замечательной силой, как в случайном половом сношении гостиничного типа.
Надравшись в полном одиночестве, Гелий или садистически мстительно – фотографией какой-нибудь иконки – изводил ненавистных чертенят, бесенят и более крупных по размерам демонков, или разглядывал их с такой страстной пытливостью, намного превышающей самую невыносимую гадливость, с которой дети разглядывают пауков и мокриц.
Это были вполне материальные типы-одиночки и толпы типчиков разной конфигурации. Причем все эти антитвари были столь вертлявыми и так в своей вертлявости изгиляющимися, что зафиксировать конкретные черты их внешности либо в моментальном наблюдении ума, либо во вместительной памяти было совершенно невозможно.
Иногда все они казались лишь игривыми самоуплотнениями воздуха, принимавшими разные формы и менявшими цвета, но всегда оставляя доминантными грязновато-зелененькие тона в своей капризно изменчивой расцветке.
Иногда, наоборот, всех этих типчиков можно было счесть за странные дырки в сложенном, словно бумажный листок, пространстве – за разнообразные дырки, вырезанные быстро снующими ножничками гриппующего ребенка, убивающего время болезни, а заодно и жизни. При любом развороте многократно сложенных бумажных плоскостей вырезанность эта неровная и случайная превращается вдруг, благодаря волшебному моменту обретения симметрии, в несколько законченных конфигураций с причудливой изломанностью оформляющих пустоту дырок. Вот они-то, непонятно почему, часто приковывают к себе внимание не только детишек, но и натур одиноких, инфантильных.
Само собой все омерзительно навязчивые фигуранты нечистой силы были Гелием классифицированы и наделены в зависимости от их похабных склонностей и выполняемых обязанностей соответственными званиями, а иногда и фамильярными кличками.
И хотя милостивое, временами слишком даже предупредительное отношение к нему типчиков было несомненным, хотя без явного их участия не было бы у него никаких выездных и локальных удач, сделок, знакомств, связей, приобретений и так далее – Гелий с вызывающей неблагодарностью глумился над всеми чертями и бесами, попадавшимися ему под руку.
8
Например, ловит он совсем недавно в ненастный предпраздничный вечер такси, когда поймать сей антинародный экипаж почти невозможно. Если удается словить его какому-нибудь человеку, потрясенному столь необычайным везением, то он искренне относит редкое это явление непосредственно к области чуда, а не к случайным проблескам человечности в трижды проклятой вечной мерзлоте советской сферы обслуживания.
Ловит Гелий такси. Многие «безлошадные» писатели с милыми окололитературными девками или же с законными подругами жизни, отчаявшись, разбредаются из ЦДЛ пешим хлюпаком по слякотному снегу.
Доносится до Гелия из живучей очередищи эхо писательских склок и нервных недоумений насчет беспросветности перспектив жизни творческих работников в скором будущем.
Кто-то из богатеньких халтурщиков, «полиглотов внутрисоюзного значения», сетует на распад имперской дружбы народов, повлекший за собой крушение «института переводных кормушек, поскольку этот ничтожный соловей генеральских портянок, Проханов, постановил считать переводчиков с украинского, чеченского и татарского платными русофобами»… «Ну, Козел-то, потом про-смердевший бздилогонным, до конца дней напереводил предательской Чечни и прочих чучмеков»… «Книжный рынок, господа, быстро прояснит, кто есть кто»… «Хватит вам, господа ленинианцы, шестерить вонючей партии в бесплатных домах творчества и мельтешить номенклатурными мандавошками в промозглом паху у соцреализма»… «Дальшевики херовы! Бр-р!»… «Ничего, Боба, Набоков стилистом был и гением почище, чем ты, но, заткнув, говорят, нос, ишачил в бабском техникуме, а разбогател на порнушной «Лолите», потеряв в адском семнадцатом раз в сто больше доходов и барской недвижимости, чем все мы вместе взятые»…
Московская ноябрьская слякоть уныла, а странные реплики и отчаяние, охватывающее возмущенные души и прозябшие тела писателей, внезапно отключенных от дотаций властительного банкрота, понижают температуру общей горестной жизни совсем до какого-то инфернального нуля.
И вот, после очередной дурацкой дискуссии о парапсихологии в секции критиков, после чудесного обеда в невыносимо гнусном кругу писателей-патриотов, бывших брежневских швейцаролакеев с отличным аппетитом, стоит Гелий смиренно на площади Восстания в очередище, облепленной мокрым снегом и похожей поэтому на огромное беспризорное чудовище-доходягу.
Стоит, не вмешиваясь в разговоры о будущем СП, о провинциальной жадности и патологической склочности нового первого секретаря, из Ташкента призванного глупым Евтухом володеть и княжить СП, а потому и бесхлопотно хапающего привилегии в наплечную суму, причем хапающего обеими руками – словно мифологическая Мамлакат Нахангова на авральной хлопкозаготовке. Пропускает Гелий мимо ушей сетования насчет сгущения социального мрака и отчуждения народа от абсолютов и идеалов. От всего такого заветного, как полагает один критик-сексот, наш народ отвлекают атеисты жидомасонства и прочий банковский монополистический сионизм…
Зеленые огоньки надежды и уюта пролетают мимо, обдавая иногда почти уже безликие части чудовища, составленного из критиков, писателей и поэтов обоего пола, брызгами слякоти и холодом беспримесно-советского – самого издевательского и бесчеловечного в мире – равнодушия.
Критика-сексота, призывающего «всех чистых и нечистых к категорически соборному, нравственно-синхронному покаянию», обрезает на полуслове одна очень известная интеллектуалка, заявив, что, во-первых, члены СП должны и обязаны пропустить сначала Евангелие через себя, а во-вторых, направить всю свою ныне не оплачиваемую творческую энергию не на безответственный секс во время чумы, а на величайший проект всех времен и народов, то есть на воскрешение мирового запаса мертвецов и на общее наше воссоединение со всеми отцами, врезавшими дуба. Даме кто-то оптимистически возражает, что сей величественный проект начнет вскоре реализовываться естественным путем после приказа Ельцина о либерализации цен. «Да и чего, собственно, огород городить да смущать порядки, установленные небесами и природой, только лишь для того, чтобы предки наши покинули свой заоблачный дивный покой и заявились в этот вот грязный барачный бардак, где нет для них ни жратвы, ни жилья, ни приличной конституции, ни законных прав, ни возможностей достойного приложения талантов. Предков следует пожалеть. Стыдно даже на миг обнажить перед ними зловоние язв нашей дегенеративной постсоветской антицивилизации. Чего их носом тыкать в то, к чему многие из них тоже изволили приложить руку?» – «Ах, с удовольствием начистил бы я сейчас рыло Белинскому с Чернышевским, а Маркса с Энгельсом… да я бы их – бороденка-ми вот в эту нашу блевотину… бороденками…» – «…Мы, извините, от последствий одной экологической и антропологической катастрофы не знаем, как избавиться, а вы нас страстно торопитесь на новый бунт подбить, мадам. Оправдывая, мадам, вековой социальный паразитизм российских поставщиков экстравагантных идеологий, спешите вы плебс, обезумевший от всех этих дел, поднять теперь уже против естественных и Божественных, а не самодержавных порядков. Шли бы вы, знаете куда, мадам, со своей осатанелой идеологичностью? Лучше занялись бы восстановлением полового здоровья народа, а то скоро воскрешать дорогих покойничков будет некому…»
«Этот парень глубоко прав», – думает Гелий, потому что призыв интеллектуальной дамы резко сократить сексуальные удовольствия заметно понизил общую температуру не только окружающей среды, но и без того малоприветливого бытия.
Сама собой вдруг началась драка. Молоденький пьяный авангардист долго уже всячески подколупывал бывшего партийно-комсомольского стихотворца. Почему, дескать, ты, крыса, неоднократно заявлял в своих трухлявых виршах, что партия и комсомол за все в ответе, а теперь вместе с этими подлыми организациями как дерьма в рот набрал, и ничего вы, пропадлины гуммозные, не желаете, сволочи, слышать насчет групповой и личной своей исторической ответственности за пролитую кровь, за изнасилованную культуру, за авансом изгаженное будущее несчастной России и так далее – как так? Мало того что не желаете, кафкианские уроды, быть за все в ответе, так вы же, падлы, на жидов теперь всю собственную парашу вызюганиваете! Они у вас теперь в ответе за все ваши красножопые гнидства! Кентавры! Только заместо человеческого передка у вас – крысиный, а вместо конского – крокодилий, соцреалисты, молодая гвардия, сифилитиком картавым без гондона ебаная на пеньке в апрельские тезисы!
Стихотворец, бывший некогда за все в ответе, такого вот витиеватого поношения святынь вынести уже не мог. Ударом под дых он сбил щуплого авангардиста с ног на мостовую, потом, безумно рыча, набросился на него и начал колотить головой о решетку водостока. Никто даже и не пошевелился, ибо наконец-то воцарилась в стране долгожданная свобода политического слова и физических действий. Но стоило Гелию очень сочувственно подумать о искреннем молодом человеке, страдающем под натиском взбесившегося быдла, как парочка солидных чертей – они как бы сами собой возникли из подножной харкотины – бросились на помощь страдальцу. И тот, чертями вдохновленный, не имея, должно быть, сил для хорошего ответного удара, вцепился рукою в довольно беззащитные, как это обычно бывает, гениталии насильника. Вой его был неописуем…
И тут подъезжает, то есть, как бы взбрыкнув перед самим собою, останавливается перед тем сборным чудовищем очередищи свободный шеф. Он брезгливо – на протезном русском с перекособоченными ударениями – орет из кабины: «Кудыпиджачьебля?»
Писатели, критики и прочие литературные артисты, а также их девки и подруги наперебой, предельно угодливо – что понятно в такую погодку, но вызывает чувство неловкости за венценосную природу человека даже в душе тускло мерцающего фонаря, – все эти люди называют места желанного следования. Ни одно из них – ни близкое, ни окольное – не подходит, конечно, жлобскому мурлу таксиста.
Но тут демонок дергает Гелия за язык, и он как бы нехотя произносит: «Клин. Дом-музей Шнитке, флигель Пахмутовой», – так разбирает его вдруг ни с того ни с сего ненависть к изысканному модернизму и невыносимо вонючей комсомолии в музыке.
Жлобина-шеф – сам он родом из Клина, но никто, кроме демонка, разумеется, об этом не знает, – шеф распахивает дверцу такси. Очередища остолбенело изумлена абсурдной непредсказуемостью поведения хозяев наших своевольных транспортных средств.
Первым в райски теплую кабину влетает демонок. Он с хамоватой фамильярностью напяливает форменную фуражку на лоб жуликоватого жлоба. За дерзким демонком туда заваливается Гелий.
Такси рвет к Ленинградскому шоссе, даже и не подумав захватить попутных писателей к общежитию на «Аэропорте». Всех их, однако, сближает согласие насчет того, что дом-музей в Клину принадлежать вот уж никак не может ни великому Шнитке, ни халтурной таксе, безумолчно аккомпанировавшей застою, а также сближает писателей жгучая, согревающая в такую погодку ненависть к везунчику-религиеведу.
Сам религиевед обогревает, в свою очередь, выстуженное нутро сверхциничным ехидством: «Чего же вы еще ожидаете, подонки, после многолетнего штурма Небес вашими плевками? Так-си-па-да? Харкотина мокрого снега – вам за воротники, а не так-си-пад, господа атеисты. Отрицать Божество следует, как я, – с готовностью к любой пакости или же к удачливому вывиху бездушной природы, иначе говоря, с благодарным мерси, черт бы вас побрал, к такси!»
Жлобина-шеф ведет себя так, как себя ведут в подобных случаях не только одинокие граждане, но и многомиллионные толпы людей, попадающие вдруг под неотразимое влияние нечистой силы. Он мчится, сам не понимая почему, в сторону, противоположную бывшей Тверской губернии, хотя давно кончил смену, никак не соотносит места своего рождения с пунктом назначения, а таксопарк его расположен на другом конце города. Со странным седоком он не то чтобы робеет перемолвиться парочкой дурацких словечек – не решается он даже «придавить косяка» на его холеный, барский профиль.
А типчик-демонишка, похожий на волчок зеленой плазмы, то прыгает с руля на ручку скоростей, то выскакивает на ходу на ветровое стекло, елозит там по нему вместе с дворником, растекается, вновь собирается в плазменную лужицу и явно радуется, что угодил подопечной персоне.
И вот Гелий, вместо того чтобы мысленно отблагодарить демонка за лакейскую услугу, берет и натуральным образом, только ему назло, осеняет крестным знамением заоконное пространство перед собою. И безумно хохочет, хохочет, хохочет.
Смешно ему и весело, что бес смущен, что пижоны-писателишки остались желчью исходить под мокрым снегом, что впереди – домашнее тепло, стакан кубинского рома, затем – небытие в провальном сновидении и что таксистское хамло является всего лишь жалкою игрушкой в руках рядовой нечистой силы.
«Стоп, – велит он ему вдруг, – зайду-ка я от-дуп-лить-ся к одной прелестной знакомой». Протягивает похабно гыгыкающему шефу пятерку, с которой мудила Вознесенский, скорей всего по наивно авангардистской, но тем не менее угоднической глупости, умолял некогда дебила Брежнева убрать Ленина. Зеленоплазменный типчик растекается по ассигнации. Шеф лезет в карман – и опять-таки, подобно многомиллионым массам людей, попавших под обаяние бесов и совершенно не отдававших себе в октябре семнадцатого ни малейшего отчета в своих роковых действиях, – наносит шеф непоправимый ущерб своему будущему настроению и социальному балансу.
Он сдает Гелию сдачу со ста рубчиков, даже лакейски подобострастно отказывается взять на чай и рвет с места с такой поспешностью, что «Волга» сначала волчкообразно выкручивается перед Гелием на сопливом асфальте, а потом заносит ее прямо на заснеженный газон, и гонит прочь – с глаз долой.
И вновь Гелий неблагодарно смущает демонка словами: «Сгинь, отрава бытия! Сгинь, сучка поганая! Вот как заморю тебя сейчас крестным знамением, уродина!»
Никаких обид, надо сказать, ни один типчик из нечистой стайки на Гелия не держал. Незлопамятство бесов было поразительным, хотя обидных жестов они терпеть не могли и безропотно куда-то смывались, словно понурые домашние животные, когда Гелий начинал их изводить и преследовать.
Наоборот, где и в чем они только не помогали ему, плюя на свое самолюбие! Однажды его чуть-чуть не прибили на еще тайном в ту пору сборище наших национал-фашистов, куда его завел тот самый безобразный критик, который, отрицая Бога, утверждал веру в Человека, желательно в русского.
Гелий сидел, пил, закусывал, смахивал с края стакашка бесенят, слушал омерзенно бездарную чушь этих плебеев и диких выродков русского племени и горевал, что лучшая часть великого его народа полностью, к сожалению, уничтожена за десятилетия безусловно адского эксперимента. А на ее месте рассмерделась такая вот компашка. И ведь патриотами себя, поганцы, именуют.
На что уж Гелия подташнивало от религии вообще да от слов «Бог», «Иисус», «Богородица» и так далее, но и его ужаснули разговорчики угрюмой этой бездари о христианстве как о хитрой жидовской штучке, призванной духовно закабалить арийские народы. В тот раз на сборище обсуждались контуры нового педагогического проекта. Русских детишек предлагалось вовлекать для начала в кружки языческого творчества, где патриотически настроенные педагоги из числа бывших военных с изуродованными перестройкой судьбами будут приучать их резать из дерева древних богов-истуканов, сброшенных агентом мирового сионизма, князем Владимиром, в Днепр.
Гелий пил и слушал всю эту поразительно тупую чушь, ну нисколько не поднимавшуюся до хотя бы ничтожной художественности или до почтения к родной истории и сводившую все без исключения исторические беды России к древнехазарскому экономико-политическому блядству да к нынешнему глобальному заговору финансовых олигархов жидомасонства.
Когда его попросили высказаться, он почти уже не ворочал языком и что-то промычал, но вдруг в нем, помимо собственной его воли, от морд ихних, от явной недоделанности, от ихней логики, унижающей горемычную душу народа и зловонно опошляющей смысл адских народных испытаний, – вдруг возмутилось в нем все сразу: ум, вкус и чувство трагической родной истории. Он и сам мало что просекал в причинах испытаний, выпавших в этом веке на долю не одних только русских, но чуял дьявольский какой-то изворот в причинном сведении всего происшедшего исключительно к хитрым проискам Сиона.
Гелия замутило так, что он как бы вставил в рот пару пальцев, и его вывернуло там перед ними всеми наизнанку. Но он не трепался, не переубеждал этих мокриц, повыводившихся под половицами разрушенного, развалившегося великого некогда дома, а открыто выблевал в морды им следующее: «Я и сам ни в какого Бога не верую, – сказал он, – но я хоть в поучительность судьбы нашей народной еще верю. А вы не верите ни в Бога, ни в Россию, ни в язык ее, ни в культуру, ни в историю ее не веруете, ни в надежду, ни в судьбу – ни во что вы, господа, не веруете. Не веруете даже в Дьявола. А о вере в нормальное будущее России и говорить нечего. Все выходит так, что веруете вы непоколебимо и несгибаемо только лишь в одних жидомасонов, а это есть немыслимо бесталанный идиотизм… вот вам четвертак за все мною тут выпитое и плохо прожеванное. Мерси, господа…»
Ему дали выйти из дома, а на улице догнали и чем-то оглушили. Очнувшись от боли, он понял, что его метелят эти лакеи очередной лжевеличественной и лженациональной идеи. Метелят безжалостно, распаляясь все больше и больше. Ночь была темна, а закоулок какой-то глухой. Гелий уж с жизнью вполне спокойно распрощался, когда увидел трех человек, бежавших к месту побоища. Впереди них мчалась стайка бесов, похожая на голубовато-зеленое облачко плазмы из американского научно-фантастического фильма. Пришельцы-спасители с непонятным наслаждением набросились на обидчиков и принялись профессионально их колошматить. Потом Гелий узнал, что в этом районе группа жителей взяла на себя функции самосудной охраны граждан от хулиганья и грабителей…
Необыкновенных случаев, в которых оказывались героями либо одиночные мусорные типчики, либо вся бесообразная масса, не перечесть.
Гелий вроде бы и за внешностью своей не следил, сочинять ничего не хотел, ездить с выгодными лекциями ленился, на карьеру плевал, не рвался так уж за бугор, нигде не интриговал, стучать отказался с таким видом, как будто был завербован лично Андроповым и ожидал в глубокой конспирации своего звездного часа, с тем же самым видом сторонился партии – и все ж таки все у него было на мази.
Счет на сберкнижке рос себе и рос, дамы липли к нему сами, истомленно завороженные его неподдельным равнодушием, начальство полагало, что карьерой Гелия Револьверовича ведают высшие чины государства и что служебное его равновесие – всего лишь временный камуфляж иной, значительной позиции.
Он не нуждался в валюте, удачно совершив несколько сделок во время служебных поездок. Благодаря своим связям, налаженным исключительно «всей этой зелененькой гнусеологией», никогда не проходил таможенного досмотра, а пробавлялся коньячком в буфете для важных улетающих персон.