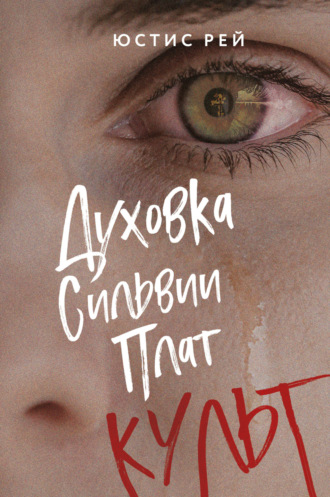
Юстис Рей
Духовка Сильвии Плат. Культ
5
Садясь в машину, я потираю руки в попытке согреться. Мне не холодно, но меня трясет, знобит, как при болезни, лоб покрывается липкой пленкой, во рту горчит. Окна и потолок салона то сужаются, то расширяются – в такт моего колотящегося сердца. Я умею удалять опухоли, я умею удалять опухоли… Я готова биться о руль головой, лишь бы наконец-то заплакать, избавиться от сбруи, которую сама на себя надела, но это не поможет – никогда не помогает. Долго сижу, сжав руль, смотря в блеклую серость за окном – она затягивает, и я ловлю себя на мысли сдаться, уйти, все закончить. Небытие.
По тропинке от церкви в туманном мареве идут двое: юноша и девушка. Его рыжие волосы блестят даже в пасмурную погоду, ее – развеваются на ветру. Сид! Я выбираюсь из салона, но они исчезают, рассеиваются в тумане, как погасшее пламя свечи. К горлу подкатывает тошнота, и меня выворачивает на дорогу – к счастью, я почти ничего не ела (залила в себя дешевый кофе и треть заветрившегося пончика в придорожном кафе). С минуту спазмы продолжаются вхолостую.
Я возвращаюсь в машину, завожу мотор, и легкая вибрация двигателя пробегает по телу, приводя меня в чувство. Корк – город-призрак, город, полный воспоминаний, я утону в них, задохнусь под обломками, если не выберусь вовремя. Удаляясь от церкви, ощущаю облегчение и тяжесть. Связь с Сидом Арго ускользает, как бы я ни хваталась – это так несправедливо – она нужна мне, но она убивает меня. Я часто вижу его во снах, но он приходит все реже – реже, чем прежде. Боюсь, когда-нибудь он будет так увлечен работой в своем цирке, что забудет обо мне навсегда.
Я не могу жить без Сида Арго, но Корк может. Так же, как без Патрика, державшего город на плечах более двадцати лет. Не зря я говорила, что Корк мертв, и мертв давно – он ни по кому не скорбит, не льет слезы. Однако теперь он мертвее, чем был ранее: тускнеет, смердит, плесневеет. Вскоре, когда его внутренности обглодают насекомые, от него ничего не останется: исчезнут кафе и магазины, дворы и дома опустеют. «Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам». Воскрес? Но кто знает, во что он превратился?
Проехав призрачные пустые улицы, за которыми следят потрепанные временем дома, я глушу мотор возле дома семьи Арго. Дом, где всегда пахло свежеприготовленной едой, где мне так нравилось гостить. Раньше он бился, словно сердце, в нем было тепло, а теперь он не отличается от остальных.
Мне требуется несколько минут, чтобы выбраться из автомобиля: восстанавливаю дыхание, наскоро жую жвачку, причесываюсь пятерней. Иду по тропинке, по которой когда-то ходил Сид Арго. Если бы только я могла повернуть все вспять. Если бы только…
Поднимаюсь на крыльцо и стучу в дверь. Тишина. Стучу настойчивее, дергаю за ручку. Я должна попасть внутрь, даже если это убьет меня. Самым бесцеремонным образом заглядываю в окна гостиной и кухни, пытаюсь их открыть – не выходит. Когда-то за этим столом мы с Оливией пили чай и молчали, понимая друг друга без слов. Мне хотелось бы сидеть с ней так снова, говоря о том, какой хорошей матерью она была. И есть. Огибаю дом в поиске возможных входов, но двери заперты, окна закрыты и плотно зашторены.
– Ты не похожа на вора.
Я оборачиваюсь и встречаюсь с круглыми глазами мальчишки, ровесника Пита, сидящего на камне на заднем дворе.
– Потому что я не он. – Делаю шаг ему навстречу. – Как тебя зовут?
– Леонард Брэдсон. Но друзья зовут меня Ленни.
Я роюсь в закутках памяти в попытке вспомнить, что знаю о нем.
– Так это из-за тебя Питу поставили фингал пару лет назад?
Он опускает глаза, почесывая светлый затылок.
– Мне его тоже поставили, – признается он, отчего розовеет до кончиков ушей. – Так это ты…
– Смотря какая «ты» тебе нужна.
– Пит иногда говорит о тебе. И о своем брате. Он скучает по нему.
– Как и я. – Проглатываю очередной ком. – Почему ты тут?
– Мы с Питом договорились встретиться, а дома никого нет.
– Питер на поминках с мистером Арго.
– Да, но он уже должен был вернуться. – Он смотрит на часы, туго обхватившие запястье, и деловито выдает: – Мне нужно возвращаться.
Я невольно усмехаюсь, он словно играет в важного человека.
– Лето. Куда спешить?
– Пока отца нет, я должен заботиться о бабушке. Она позволила мне уйти всего на час.
– Что с ней?
– Старость.
В этот миг он взрослеет лет на тридцать и, кажется, знает все на свете.
– Когда ты успел стать таким умным?
– Всегда был. Бабушка говорит, что именно поэтому меня не любят в школе.
– Твоя бабушка права. А как же секция по боксу?
– Бросил. Насилие мне не по душе.
Он сползает с камня, достает из кармана мелок, закрученный в бумажку, и рисует крестик – это знак для Питера. Какая занятная система.
– Ты пыталась влезть в дом? – спрашивает Ленни, когда мы покидаем двор Арго.
– Я искала одного человека… Оливию, мать Пита. Не знаешь, где она?
– Я давно ее не видел. Она редко выходит.
– Почему?
– Не знаю, – говорит он и заливается краской – он не умеет лгать, но обещал Питу, что не выдаст тайну, и держит слово.
– Знаешь, Ленни, – я протягиваю ему руку, и он пожимает ее, – ты очень хороший друг.
6
Дом с фиолетовой крышей навевает воспоминания о событиях, которые я не переживала, однако воображения мне не занимать – картины маминого прошлого ярко встают перед глазами: прятки в чулане, окровавленные осколки стакана, тайные встречи с парнем, который примет сан, поцелуи украдкой, дневник, залитый слезами. Она не была счастлива в этом доме, ненавидимая и гонимая отцом. Порой я представляю, как сложилась бы наша жизнь, будь он терпимее и мягче, не будь он продуктом фабрики Корка: мы приезжали бы сюда на каникулы, купались в озере, пекли пироги и сидели вместе у камина, где дедушка читал бы мне сказки. Но все это не нужно и ни к чему – у истории нет сослагательного наклонения. К этому дому я испытываю непримиримую ненависть, но ничуть не меньшую любовь, ведь люблю тех, кто считает его своим, тех, ради кого я возвращаюсь и буду возвращаться снова и снова, пока город не уничтожит тяжестью прошлого.
Я помню день, когда мы приехали: семнадцатилетняя я с большими надеждами, непомерным эго и юношеским максимализмом, и малышка Молли, которая находила плюсы даже в пыли и паутине по углам. «Тут живут паучки», – говорила она, тыча в каждую из них пальцем.
– Фло, кто еще здесь живет?
– Не знаю, Пупс. Надеюсь, мы будем одни. Ну или по крайней мере пусть платят по счетам.
Молли легла на пол и прислушалась. Ее никогда не пугали живые существа, даже самые мерзкие. Если бы на нее забралась крыса, она приласкала бы и ее.
– Мэри Элайза Вёрстайл, а ну-ка встань с пола. – Джейн поставила на стол коробку, перетянутую скотчем со всех сторон и с пометкой «Хрупкое».
– Что, если там есть крысы? – Эта мысль вызвала у нее улыбку.
– Конечно же, есть. Это очень старый дом. Вставай! – Джейн взяла ее за руку, подняла с пола и прошлась ладонью по кофточке, убирая невидимую пыль. – Тут грязно, солнышко. Не надо так делать.
– Что-то они притихли. Им тут скучно. – Она закатила глаза, прикусив нижнюю губу, – что-то задумала. – Мама, а можно спуститься в подвал?
Я помню и другой день – день, когда убежала. Сердце щемит, когда вспоминаю личико Молли и глаза, полные слез. Она знала, что мой отъезд неизбежен, но знание и чувства – не одно и то же. Она стояла, схватившись за руку матери, наблюдая, как Роберт увозит меня в лучшую жизнь, которая ей недоступна. Пожалуй, эти воспоминания приносят больше всего боли.
Я не сразу решаюсь постучать в дверь. Прошел год, но все такое чужое. Один удар, два. В доме начинается мельтешение, и через минуту мои глаза встречаются с точно такими же, но серыми. В них читается растерянность и удивление.
– Флоренс. – Джейн вытирает и без того чистые руки о передник и затягивает меня в дом.
Я крепко прижимаюсь к ней, вдыхая запах ее темных волос, которые тронула седина. В ее объятиях я маленькая и беззащитная, такая же, какой была, когда мать ушла от нас. Даже безухий Август, трущийся о ноги, не вызывает злобы. В доме тепло и пахнет едой – как мало порой нужно для счастья.
– Ты продрогла, – она растирает мои руки, – ты вся ледяная.
Она проводит меня на кухню и наливает чая, а после заканчивает с обедом и ставит передо мной свежеприготовленное рагу, отчего я снова чувствую себя ребенком. Раньше ненавидела это – теперь люблю.
– Почему ты не сказала, что приедешь?
– Это спонтанное решение. – Не ем рагу, несмотря на аппетитный аромат, боюсь, меня будет тошнить. – Вы были у Патрика?
– Роберт пошел, а мы с Молли нет. Лето выдалось холодным, она немного приболела.
– Все нормально? Нужны лекарства?
– Уже лучше. Температура спала, скоро поправится.
Я кротко растягиваю рот в улыбке. Мне больно и стыдно за то, что я вынуждена оставлять их. И если Джейн понимает, почему я это делаю, то Молли… Она не может в полной мере понять меня: зачем покидаю ее, корплю над учебниками, сплю по пять часов в сутки, избегаю внимания любого, кто пытается подружиться, и пристаю с расспросами к профессорам. Ни Джейн, ни Молли не знают о жизни в Кембридже. Для них я всегда здорова и счастлива – я старательно создавала этот образ, собирала по крупицам и проращивала семена в их сознании. Подобно пауку, я плету паутину из лжи, обматываю их – для их же блага. А правда в том, что я перечеркнула свою жизнь и молодость ради учебы, потому что это единственный способ вытащить их отсюда.
– Как Молли в целом? – спрашиваю я спустя долгие минуты.
– Молли – это Молли. Ты ее знаешь.
Сама того не желая, она приносит мне боль. Раньше я не покидала Молли: мы вместе просыпались, точнее, она будила меня с Августом, залезая под одеяло, – я вздрагивала от холода ее ног и по-стариковски бурчала, но прижимала к себе и согревала. Вместе мы чистили зубы после сказки о злобном кариесе, которую я для нее сочинила. Она требовала, чтобы я проверяла, как она почистила зубы, придумывая каждому имя, например, два передних она называла Анна и Эльза в честь персонажей «Холодного сердца». Мы завтракали вместе и выбирали, что она наденет, тоже вместе. Рисовали у камина и лепили снеговиков, засыпали под одним одеялом в грозу – она страшно ее боится – и обязательно заходили в магазин «У Барри», даже если не было денег, просто чтобы поздороваться и поболтать. Такой я помню ее. Нас. Я люблю эти воспоминания, но, как бы ни была сильна моя привязанность, сейчас все не так. Какая Молли теперь? Что происходит в ее маленькой голове и большом сердце?
– Она любит тебя, – говорит Джейн, словно читая мои мысли, – злится, что ты не рядом, но я объясняю ей.
– Как именно?
– Что Флоренс умная, что она учится и станет великим человеком.
– Великим – очень сильное слово. А если я не оправдаю надежд?
Джейн садится напротив и накрывает мои руки своими.
– Флоренс, мы любим тебя. И прежде всего хотим, чтобы ты была счастлива. Ты счастлива?
Я не хочу лгать, но солгу, как делала всегда, – ради ее блага.
– Да.
– Я должна сказать кое-что важное, и необходимо, чтобы ты выслушала предельно внимательно. – Она тяжело выдыхает. – Ты еще молода. И пусть ты не рядом, мы знаем, что ты посвящаешь свою жизнь нам. Твоя учеба очень важна. Но я хочу, чтобы ты жила: подружилась с кем-нибудь, нашла новое хобби, читала – как раньше – не учебники, просто книги. – Она одергивает себя, чтобы не сказать «познакомилась с мальчиком». После твоей смерти об этом никто не говорит, словно знает, что я больше никогда не смогу полюбить так сильно, как люблю тебя. Никогда не смогу полюбить. – Понимаешь?
– Я не откажусь от своих целей.
– Если бы только я могла снять с тебя этот груз, но иного выхода не будет. Ни я, ни отец не сможем покинуть город. Мы останемся тут до конца…
– Джейн…
Она сжимает мою руку, заставляя замолчать.
– Но Молли не останется. У нее такой же живой ум, как у тебя, и большое сердце, которое впитывает все как губка. Я не хочу, чтобы оно впитало то, что витает в Корке. То, что предлагает Доктор… – она качает головой. – Его уже называют мессией.
– Мессией?
– Он утверждает, что ему все послано Господом, и люди верят – у них нет выбора. Город на грани краха – бежать некуда. Все очень уязвимы.
– Что ты думаешь о нем?
Она убирает руку.
– У меня от него мурашки по коже, – признается она, и я выдыхаю от того, как точно звучит ее описание. Он хищник, присутствие которого чувствуешь каждой клеткой, каждым волоском на шее и знаешь, что вопрос, нападет ли он – не вопрос. Дело в том – когда.
– Я тоже не в восторге от его способности оставлять людей в холодном поту после совместного времяпрепровождения.
– Ты видела его? – удивляется она.
– Мы встретились на кладбище. Он сказал, что создаст рай на земле, общину, где все будут любить друг друга.
– Когда Патрик умер, Доктор собрал горожан в пристройке за церковью. Говорил, что все наладится, если мы вернемся к слову Господа, которого он слышит и ощущает.
– Корк и раньше жил по слову Господа.
– По слову Патрика, – поправляет она. – Ты считаешь меня наивной дурой, но за столько лет я кое-что уяснила… Важно не то, что говорит Господь, а то, как мы это понимаем. А это зависит от человека, который получит власть в городе. И было бы лучше, если бы этот проводник оказался хорошим человеком.
Мы обе замолкаем, опустив глаза. Никто не решается высказать это вслух, но очевидно, что Доктор не тот проводник, который нужен.
– Знаю, это жестоко и несправедливо по отношению к тебе, но ты наша единственная надежда.
– Хочешь, чтобы я вернулась?
– Нет! – От возмущения ее лоб прошивают глубокие морщины. – Ни в коем случае. Поезжай, учись, а когда придет время, забери Молли в тот мир. В свой мир. Дай ей то, что я не могу. Чтобы она сама определяла свою судьбу, чтобы никогда не училась в школе, где ученик стрелял в других. Пообещай, что заберешь ее!
От ее искренней и болезненной материнской мольбы к глазам подступают слезы.
– Что бы ни было.
– Что бы ни было, – шепчу я, накрывая ее руки своими. – Обещаю.
– Вот поэтому ты не рядом. Ты учишься – это твоя работа, и я безмерно уважаю ее. А моя работа – позаботиться о Молли, напоминать ей, насколько важно то, что ты делаешь.
– Фло…
От ее голоса сердце замирает. Я оборачиваюсь, сжимая спинку стула до белизны костяшек. Встречаюсь с широко раскрытыми глазами. Прошел всего год, но она так выросла. Выросла без меня – осознание этого приводит в оцепенение. Ни рук, ни ног. Полая жестянка, гонимая ветром. Молли вытянулась, раньше она едва доставала до столешницы кухонных тумбочек, а теперь возвышается на голову. Однако ее волосы все так же собраны в косы, которые когда-то заплетала ей я. Но смотрит она иначе… Я не выдумала ее – разделяющая нас пропасть реальна. Расстояние и время – два кита, отделяющие нас друг от друга. И чем больше я буду пытаться сократить эту пропасть, тем сильнее она будет расти. Боюсь, когда-нибудь она станет такой большой, что с противоположных концов мы уже не увидим друг друга. Эта мысль не раз заставляла меня просыпаться посреди ночи в холодном поту.
Как растаявшее на солнце желе, я сползаю со стула и, встав на колени, протягиваю к ней руки. Раньше она не ждала бы разрешения и сразу упала в мои объятия. Она подходит – несмело, боязливо, осиротевший детеныш – и я наконец прижимаю ее к себе, так крепко, как могу, вдыхаю ее запах – травянистый, свежий, живой, точно я держу в руках лесную нимфу – и пытаюсь запечатлеть в памяти. Она пахнет иначе. Я целую ее в лоб и нехотя отстраняю от себя.
– Как ты, Пупс?
– Патрик умер.
– Знаю.
– Думаешь, он там же, где Сид?
– Я хочу в это верить.
– Ты останешься с нами?
– Хочешь, чтобы я осталась?
Она кивает, и ее щечки розовеют. Я снова прижимаю ее к себе.
– Если мама разрешит.
Мы обе обращаем взгляды на Джейн. Я перекладываю на нее ответственность, внезапно лишаясь способности решать самой. Я слишком устала. Тело без души.
– Когда обед будет съеден, юные леди, – говорит она, примеряя образ строгого родителя. Только так она может скрыть уязвимость.
Молли по-взрослому усаживает меня за стол и устраивается рядом.
– Уже все остыло, – причитает Джейн, забирая мою тарелку, – нельзя есть холодное. Особенно тебе, – она смотрит на Молли, – будешь пить молоко с медом.
– Не люблю мед, – кривится она.
– С каких это пор? – спрашиваю я.
– С тех пор как прошлой осенью кое-кого укусила пчела, – отзывается Джейн, наполняя тарелку.
Меня словно тоже кусает пчела, ведь я забыла об этом, а возможно, и не знала.
– Тебе нравится учиться? – спрашивает Молли, болтая ногами под столом. Так, будто с нашей последней встречи прошло два дня. Мне нравится ее детская непосредственность. Мне ее недостает. Была ли она у меня когда-нибудь?
– Да, там здорово. Нам рассказывают всякие интересные вещи и дают много книг.
– А там есть красивые мальчики?
Я усмехаюсь. Мальчики? Парни? Кто это? Бесполое сознание.
– Наверное. Я не обращала внимания.
– Тебе нужен самый красивый и умный мальчик из всех.
Джейн ставит перед ней тарелку, но она не притрагивается к еде, поглощенная беседой.
– Ты с кем-нибудь там дружишь?
– Нет. В основном я сижу над книгами.
– Скука.
– Кушай, солнышко, иначе придется отправить тебя в кровать, – говорит Джейн.
Молли принимается за обед.
– И не болтай ногами, когда ешь, – добавляет Джейн.
– А у меня много друзей, – продолжает Молли, размахивая ложкой. – По вечерам мы с Питом и Ленни гуляем с Тритоном. Но он все равно какой-то толстый. В смысле Тритон, а не Ленни. Про людей так нельзя говорить, да? Иногда с нами ходит Том, но он такой молчаливый.
– Ты тоже поела бы, – говорю я Джейн, но она отмахивается.
Молли начинает канючить, выпрашивая мороженое, но Джейн стоит на своем. Я молча улыбаюсь, наблюдая за их милой и по-детски дурашливой беседой. Внутри все стягивает и ноет, ведь мне не хватает таких бесед, и пусть со временем они мне надоели бы, это лучше, чем не слышать их вовсе.
– Фло, а Бакли такой дурачок…
– Что за словечки? – Джейн недовольно поднимает бровь.
– Но так и есть, в прошлом году он пытался стать лучше меня в классе, а лучше меня никого нет, потому что моя сестра самая умная на свете. Он с семьей уедет этой осенью, и тогда я точно буду самой лучшей.
– Не будешь скучать? – спрашиваю я.
– По Бакли? Этому д… – она запинается, бросая взгляд на Джейн. – Ни за что! Я даже сделаю ему прощальный подарок, лишь бы он скорее уехал.
Когда дело доходит до молока с медом, мы перебираемся в гостиную. Молли сворачивается клубком и кладет голову мне на колени – я глажу ее по волосам, – а у нее под боком устраивается Август, мурлычет, когда она проводит рукой по его шерстке. В отличие от сестры, этот дурацкий кот не изменился ни на йоту – это так несправедливо.
– Я так сильно скучала по тебе, – шепчет она. Ее дыхание щекочет мою ладонь.
– А я по тебе, Пупс.
– Мое сердце стало таким большим, когда ты вернулась.
– Мое тоже.
Я наклоняюсь и целую ее в висок.
– Оно всегда становится большим, когда я думаю о тебе, – признаюсь я.
Она поворачивается и смотрит на меня снизу вверх огромными чистыми глазами.
– Правда?
– Правда-правда.
Она закусывает губу.
– Хочешь, я покажу тебе свой последний рисунок? – предлагает она и, не дожидаясь ответа, подскакивает.
– Как только выпьешь молоко, – доносится голос Джейн с кухни.
Молли делано куксится, но все же берется за напиток. Выпивает залпом, а после вскакивает и приносит те рисунки, что нарисовала, пока меня не было. Здесь и я в шапочке выпускника, и Джейн с Робертом, и церковь Святого Евстафия с Патриком. И Доктор – стоит у алтаря, воздев руки к небу.
– Молли…
Она плюхается на диван, притягивая к себе Августа, – и тот, как игрушка, позволяет творить с собой все, что взбредет ей в голову, меня бы он и к своей миске не подпустил.
– Этот человек…
– Это доктор Йенс. Он хороший!
– Хороший?
– Он ходит в церковь и читает проповеди. Папа говорит, что он пытается помочь нам.
Я сглатываю. На детских рисунках он куда более страшный и жуткий – сама того не ведая, Молли раскрыла его суть: все показаны мелкими, лишь силуэтами, в то время как Доктор передан до мельчайших подробностей. Статность, высокий рост и очевидное превосходство над всеми, выражающееся в глазах, позе и даже голосе. Его голос… звучит в ушах под звуки тихой мороси, приземляющейся на надгробия тех, кто уже не способен ощутить дрожь в его присутствии. Я хирург, мисс Вёрстайл. Я умею удалять опухоли, и, если Господу будет угодно, опухоль Корка я тоже удалю. Я – часть этой опухоли. Он вырежет и меня?
На ночлег я устраиваюсь в своей комнате. Полки и шкафы давно опустели: книги переместились на чердак, какие-то я забрала с собой. Джейн пытается найти мне что-нибудь подходящее для сна. Изучаю спальню так, словно она не была моей – она никогда и не была, здесь живут призраки прошлого. Заглядываю в ящик прикроватного столика, где покоится кольцо с зеленым демантоидом, которое когда-то принадлежало матери, – оно ранит меня. У мамы были красивые руки, тонкие пальцы, как у диснеевской принцессы… Помню, как грациозно она двигалась, даже просто готовя ужин, как тянулась за тарелками. Особенно сильно мне нравилось наблюдать за тем, как она красится или разговаривает по телефону. В этих будничных действиях она становилась еще красивее, а зеленый камень в кольце волшебным образом подчеркивал зелень, которая в иных обстоятельствах была едва заметна в карих глазах. Я оставила его намеренно, когда покидала Корк, но некоторые воспоминания не уничтожить, убрав его участников с глаз долой.
– Надень его.
Оборачиваюсь. Роберт растягивает рот в слабой улыбке, но я слишком озадачена, чтобы ответить тем же. Он оставляет на кровати хлопковое платье Джейн. Отстранен, напуган, точно кормит дикого зверя.
– Давно не виделись, – говорит он, присаживаясь на край, отчего матрас под ним жалобно скрипит.
Кидаю кольцо в ящик и с силой закрываю его.
– И не общались – ты не подходишь к телефону.
– Думал, тебе так будет проще.
– Проще?
– Оставить нас.
– Я не она, – отвечаю я, и тут же жалею об этом. Это ранит его даже больше, чем меня.
– Прости, – шепчу я, устроившись на другом краю.
– Ты надолго?
– Переночую и поеду. Не хочу, чтобы Молли обижалась.
– Она в любом случае обидится.
– Знаю.
– Ты дорога ей.
– Знаю.
– Она думает, что, если будет хорошо себя вести, ты останешься…
– Папа! – вырывается у меня в попытке остановить его.
– Столько лет прошло, а мне до сих пор приятно это слышать, – признается он после долгой тишины. – Я знал… знал, что ты не моя. Луиза все рассказала, когда была беременна.
– Пожалуйста, – молю я. Его слова режут меня изнутри. Он не был нежен со мной, однако воспитывал и растил меня почти девятнадцать лет, дал мне свою фамилию, зная, что я рождена от другого. Именно он видел мои первые шаги и слезы, работал, чтобы я получила образование. Это был не Патрик, а он – он мой отец.
– Но это было не важно, потому что я любил ее. И тебя люблю, хотя не умею это показывать.
– Ты делал все, что мог, чтобы это показать.
– Я знаю, что это Патрик. – Он переводит на меня мутно-голубые глаза – помню, когда-то они сияли. – И ты, очевидно, тоже, раз приехала.
– Да, уже давно.
– Насколько давно?
– Узнала в тот год, когда жила в Корке.
Он почему-то кивает, закусывая губу.
– Думал, пойду на его похороны, увижу гроб, осозна́ю, что он мертв, и мне полегчает, но легче не стало.
Прежде чем уйти, он неловко треплет меня по плечу – самая большая нежность с его стороны.
– Флоренс, я искренне соболезную твоей утрате.




