
Юрий Валерьевич Максимов
Предпоследнее дознание
Но это все после, если будет время. После отчета. Павел поднял голову.
Как ни странно, на пересечении улиц действительно сидел старик, откинувшись в доисторическом шезлонге и молча созерцая приземистый магазин «Хозтовары» аккурат через дорогу. Карев присмотрелся. Дряблые щеки. Водянистые глаза. Глубокие складки на лбу. Грубо остриженные волосы, на удивление, совершенно не тронуты сединой. У ног старика стояла большая банка из-под консервированных ананасов. Из нее выглядывало несколько смятых банкнот. Карев никогда в жизни не видел столь грязной засаленной одежды. И запах… Следователь остановился, не доходя пары шагов до человека в шезлонге.
– Вы господин Хотеенков?
– Чему обязан? – проскрежетал сухой голос.
– Следователь Павел Карев, Предпоследнее дознание. Я занимаюсь делом Мартина Сато. Вы могли бы рассказать мне что-нибудь об этом человеке?
Хотеенков молча пнул банку. Несильно, но она скрябнула по асфальту и красноречиво придвинулась к следователю. Порывшись в карманах, Карев нашел пятерку и бросил в металлическое жерло. Подумав, бросил еще десятку.
Выражение лица старика несколько смягчилось. Он поднес кулак ко рту и прокашлялся.
– Так что вас, господин следователь, интересует?
– Все о Мартине Сато. Я из Предпоследнего дознания, так что, сами понимаете…
– Да, я слышал… – с удовольствием констатировал старик, – вы убиваете людей.
Карев вздрогнул.
– Ничего подобного!
– Вот как? А что же вы с ними делаете?
Следователь вздохнул, возвышаясь над стариком в шезлонге.
Нехотя принялся выуживать из памяти абзацы вызубренного на курсах учебника:
– Наше ведомство занимается теми коматозными больными, в чьих телах жизнь поддерживается исключительно медицинскими аппаратами, хотя никаких шансов на возвращение в сознание уже не осталось.
– И зачем же?
– Ну… у них статус особый. С одной стороны, еще формально не умерли, а с другой – уже никогда не вернутся в мир живых… Так вот, еще лет двести назад встали острые вопросы: уместно ли подобное «милосердие», и если да, то до какого предела поддерживать растительное существование тел таких пациентов?
– Непростые вопросы.
– Ответы на них смог дать Виталий Тон. Основатель Предпоследнего дознания. Он говорил, что человек попадает в коматозное состояние неслучайно. Это должно иметь смысл. И смысл в том, чтобы мы, живые, могли увидеть его с лучшей стороны, разглядеть даже в нравственно деградировавшем человеке, если он таков в глазах окружающих, нечто подлинно доброе.
– Хм! А как, интересно, подлинность добра у вас определяется?
– Главный критерий: бескорыстие поступка. В жизни каждого человека внешне симпатичных дел набирается изрядно, но дотошную проверку на предмет бескорыстия выдерживают далеко не все. Поэтому по каждому попавшему в наше ведомство ведется тщательное следствие. С опросом свидетелей, анализом улик…
– Занятно. А потом?
– Когда удается найти два-три «чистых» поступка, следователь составляет отчет и подает его на комиссию. Если отчет неудовлетворителен, комиссия назначает дополнительное расследование…
– Ну а когда все в порядке?
– Отчет в сокращенном виде идет в печать, в наш «Бюллетень». Оттуда его перепечатывают центральные издания, лучшие отчеты кладутся в основу сюжетов книг и фильмов.
– Постой-ка! – старик сощурился. – Кажется, я что-то читал такое… Или слышал… Про этого, как его… Ка… Ка…
– Кайрондера, – подсказал следователь, поджав скрытые усами губы.
– Точно! Ну и имечко! А история хороша… Пробирает. Ты бы сразу сказал про Кайрондера, а то дознания какие-то…
– Наша служба играет большую роль в поддержании стабильности и равновесия в обществе. Тону и его последователям удалось вернуть человечеству веру в добро, основанную на конкретных фактах. Негативные последствия работы «черных» следователей – полицейских, налоговиков, контрразведчиков, изобличающих во внешне добропорядочном человеке пороки и преступления, уравновешиваются позитивными последствиями работы «белых» следователей – дознавателей, вскрывающих добрые чистые стороны в каждом, даже самом безнадежном человеке.
Хотеенков молча покачал головой. Затем неторопливо почесал затылок.
– А что же все-таки с этим-то происходит… с подследственным?
– Если комиссия принимает отчет, то его герой отправляется на определитель.
– Это что еще такое?
– Разновидность жребия. Если выпадает один вариант, значит, работа там, наверху, получила одобрение, и все аппараты отключаются.
– И человек умирает?
– Да. – Карев поморщился: об этом было не принято так говорить. – А если выпадает второй вариант, это свидетельствует, что главного о человеке мы еще не узнали, аппараты продолжают функционировать, и следствие возобновляется снова и снова, пока наконец работа не получает одобрения свыше, и душа не отпускается из бессознательного тела на последнее дознание, представ пред ликом Того, Кому не нужны никакие отчеты…
– Я и говорю: убиваете, – удовлетворенно резюмировал старик. – Что ж, господин следователь, я понял, что требуется. Мартин… Значит, в коме он? Ясно. Чего-то совсем определенного не припомню. Мы с ним вместе учились. Он уже тогда был замкнутый, всё ему не нравилось. То есть где надо, мог и смеяться, и лебезить, и анекдоты вспомнить, и комплиментами сыпать – без этого не пролезешь в люди. Но это все ненастоящее было. Только иногда, по вечерам, когда разговоришься с ним по душам за кружкой пива, бывало, раскроется он, и сам счастливый делается. Но потом уже такого я за ним не замечал. Вместе мы поступили в «Интру», вместе ползли наверх. Мартин опередил меня, я стал его помощником, а потом и заместителем. Чего он хорошего делал? Да вот, когда в молодости играли мы с ним в теннис, подавал он хорошо… Но это ведь не то, что вам нужно, так? А чтобы, там, ребенка из горящего дома вынести или вдове какой-нибудь тысчонку отстегнуть – не найдете вы такого за Мартином. Я, по крайней мере, не знаю.
– Он усыновил племянника, – напомнил следователь, переминаясь на подуставших ногах.
– Как же, помню усыновление, то бишь опекунство, да, – охотно закивал старик. – Тогда, еще при Касселе, скончался на его глазах Гонорио Табб. Ну и въедливый же был старикан, упокой, Господи, его мелочную душу! Словом, открылась вакансия второго лица в корпорации. Претендентов было двое: первый администратор Гуобен и второй администратор Сато. По всему, Гуобен должен был пройти. Сложись так, и Мартин до сих пор ходил бы в администраторах. Но тут подвернулся случай, брат его вместе с женой разбились на прыгуне. Мартин никогда дураком не был. Быстренько оформил опекунство, а господин Кассель имел слабинку-то – сантиментами баловался. Вот и проникся, решил, что Сато-де надо помочь, чтобы сироту содержать. Так и выбился хитрый лис в главные замы. К мальчишке он относился строго. Помню случай: в честь какого-то очередного юбилея кто-то из начальников отделов подначил своих, и те поднесли Мартину коробку конфет с орехами. Дорогих, хороших. Но не знали лизоблюды, что у него аллергия на орехи. Хе-хе! И вот, как сейчас вижу: ходит он по кабинету и вопит, что они, значит, специально подсунули, что, мол, лучше бы и не дарили ничего, а затем взял да и бросил конфеты в урну. Я говорю ему: чего добро выбрасывать, ты бы лучше мальчонке снес… Ну, Мартин подумал и велел мне достать коробку из урны и завернуть в пакет. Очень был бережлив. Ну а когда через полтора года и господин Кассель, добрая душа, отправился в лучший мир, совет учредителей назначил на его место Мартина. А тот на следующий же день отослал мальчишку в военную школу в Ставрополе. Я сам подбирал, по его поручению. Больше я не слышал ничего о Вите, но, кажется, он хорошо учился. Мартин при мне никогда не вспоминал о нем, разве что раз-другой спросил про оплату.
Карев озадаченно поднял глаза к небу. На фоне облаков между рядами сверкающих стеклом небоскребов плыла желтая сарделька прыгуна-такси.
– Может быть, Сато помогал работникам?
– Ха-ха-ха! – широкая стариковская ухмылка обнажила коричневые стертые зубы. – Вы, должно быть, не заходили в «Интру», если такой вздор несете. Став директором, Мартин сразу повысил зарплату, но отменил все субсидии и строго следил за этим. Никому и ни в каких случаях. Однажды, когда он был в отлучке, взял я «грех» на душу – выплатил субсидию какому-то оператору на лечение жены.
– Вы?
– Я. Тогда главой профсоюза был Герт, умный малый. Он-то со мной и потолковал. Объяснил, что сотрудники недовольны и как они намерены действовать, если Сато этому оператору откажет. Как на совет станут давить, со СМИ работать… Грамотно объяснил. А в ту пору среди учредителей были те, кому новый директор очень не нравился. Понял я, что есть риск для Мартина. Не то чтобы уж смертельная опасность, но реальный риск – да. Вот и выплатил оператору через бухгалтерию. Ну и влетело же мне от Мартина, когда он вернулся! Как же он бесился из-за несчастных четырех тысяч! А ведь на пользу пошло… Но Мартина все равно крутило. Как и тогда, с похоронами мужа Марго. Я уж и на совет кивал, и на общественное мнение. Еле уломал. А он потом целый месяц изводился, что я его по миру пустить хочу. И наконец пустил по миру меня. Видимо, в целях самозащиты. Я, конечно, немного преувеличиваю… побарахтался я еще несколько лет, прежде чем в руки соцслужбы ухнуть. Но под горку-то все же дружок меня толкнул.
Старик замолчал, со странной улыбкой вглядываясь в магазин на той стороне безлюдной улицы. Карев продолжал нависать столпом, ошарашенно пытаясь уложить в голове услышанное.
– А ведь сквозила у меня тогда соблазнительная мыслишка: договориться с Гертом да сообща скинуть Мартина. Теперь, глядишь, он бы вместо меня здесь торчал, на свежем воздухе, так сказать, – старик дернул щекой и прокашлялся. – Но жалко его как-то стало. Все-таки вместе к экзаменам готовились. Вместе в университетском сквере пиво пили. Не то чтобы Мартин злой был с самого начала, просто не знал, как себя с людьми вести, боялся людей. Он и с племянником-то, может, хотел по-хорошему, да не ведал, как надо. Ну а потом, когда уж до верхушки долез… Чего говорить, власть и не таких губила. Да еще в том беда, что ничего в жизни Мартин не любил, кроме дурацких картин этого Са… Са…
– Савушкина, – пробормотал Павел.
– Точно! У него прямо страсть была. Помню день, когда она родилась. Потащились мы как-то в галерею, уж не помню, по какому случаю, бродим, скучаем – и вдруг замер он. Смотрю: уставился на какую-то ерунду вроде нарисованного башмака. И стоит, не оттащишь. Чего уж там он углядел, не знаю. Но еще тогда, помню, сказал, что все картины этого Савушкина обязательно приобретет. И сдержал клятву молодости. Когда я увольнялся, он оплатил последнюю, оставалось только привезти. На что Мартин только ни шел, чтобы заполучить очередную безделушку! Тут он не жалел никаких денег. А если кто противился, то уж совсем крут становился… Не сам, конечно, со специальными людьми договаривался. Вроде никого не убили, но жизней запороли порядочно. Одного мелкого банкиришку помню – тоже коллекционер, не хотел продавать какую-то лысину на холсте. Мартин проконсультировался кое с кем, провел пару операций, и банкир как-то раз проснулся разоренным и с кучей долгов. Приполз на коленях к Мартину и картину принес. Тот купил, но уже за полцены! Чтоб другим неповадно было. Я потом, когда сам опустился на дно, встретился с этим банкиром. Не выдержал человек, съехал с катушек. Семью бросил, из малогабаритки, куда его соцслужба поселила, сбежал. Бродяжничает теперь где-то рядом с «Интрой». Местная достопримечательность, у нас вообще таких мало. Можете найти, растрепанный, обросший весь, с бородавкой на носу, околесицу все время несет… Ах да, я забыл: вас такие вещи не интересуют. Не по вашему ведомству… Поговорите с Марго, может, она что из детства Мартина упомнит, сестра как-никак. На «Интру» сходите, как знать, не учудил ли Мартин после моего ухода какого-нибудь доброго дела. Но это вряд ли… Совсем он от всего закрылся, единственное окно в душу оставил для картин этих… Хотя… – Хотеенков вдруг стал серьезен. – Если бы он сидел сейчас на моем месте, то я, возможно, был бы на его? И сейчас меня бы дознавали? Ну уж нет. Так лучше.
Старик, наклонившись к банке, выгреб из нее купюры.
* * *
Всю дорогу до дома Павел остывшим взглядом скользил по крышам высоток, проплывавшим внизу. Вот и все. Как говорится: следствие зашло в тупик. Вспыхнуло, правда, на миг подозрение, что Хотеенков попросту лжет, чтобы отомстить Сато. Но пришлось его отбросить. Не мог он лгать. Старик рассказывал даже без вопросов. Да и ответы его уже никак не способны повредить Сато… А вот ему, Кареву, еще как способны! Не найти ни одного доброго дела – это гарантированный минус в послужном списке. Наберется их три – и прощай, следственная работа. Что там небритый викинг с «Интры» говорил о потере работы? Сердце сжалось, когда Павел подумал о том, что может стать с Инной…
Нет, это невероятно! Чтобы все добрые дела сложились случайно, помимо воли человека… Но вдруг как-то некстати вспомнилось совершенное им самим «спасение полковника Сато». За которое он готов получить орден и всю жизнь пользоваться привилегиями, и раз за разом повторять ложь об этом, строя счастье на лжи.
«Ну и что? – зашептал чей-то голос в голове. – Ведь на самом же деле спас. Какая разница, случайно или нет? А Хотеенкова просто выбросить из головы. Отчет-то уже почти готов. Кто узнает? Кому какое дело до того, кем был этот Сато? Правды ведь в любом случае не узнаешь. Все эти отчеты, даже о Кайрондере – не условность ли? В душу ведь никто не лез. Беллетристика одна. Так не лучше ли выбрать ту версию лжи, которая не поставит под удар семью?»
«А как же настоящая истина? – мысленно ответил Карев. – Ведь и меня, придет время, будут расследовать. Если не здесь, на Предпоследнем дознании, то уже там, на последнем?..»
«Да будет ли оно еще? – зашипел голос. – Это все далеко. Себя не жалеешь, так хоть о жене подумай! Или твоя гордость важнее ее счастья?»
Карев опустил голову и уткнулся в ладони. Вспомнилось отчего-то – сапоги по бокам, полутемный салон, накрытый тканью труп…
* * *
Петрович слушал молча, подперев кулаком квадратную красную морду и спокойно шаря по лицу собеседника взглядом узких серых глаз.
– Ну вот что, Павел, – заговорил он, терпеливо дослушав до конца. – О геройстве твоем позже поговорим. Твоя профессиональная несостоятельность меня заботит больше. Ты отчет принес? Хотя бы черновик?
Дрожащей левой рукой Карев протянул металлическое инфокольцо. Петрович принял, зачем-то посмотрел на свет.
– Здесь все?
– Все, что видел и слышал.
Петрович поднял кольцо к голове и прикрепил за ухом. Несколько минут невидяще смотрел перед собой. Кареву по ту сторону стола оставалось лишь нервно дергать левый ус.
Наконец короткие толстые пальцы отлепили кольцо и швырнули на стол. Взгляд начальника приобрел осмысленность, стал насмешливым.
– Дурак ты, Павлик, дурак! Всему-то вас, молодежь, учить надо! – Петрович довольно откинулся в кресле. – Сато твой без ума от картин Савушкина был, верно? И все их таки собрал? Только одну, уже оплаченную, еще не успели подвезти?
– Да… – напряженно сказал Карев.
– А оплатили ее еще при Хотеенкове, которого выгнали пятнадцать лет назад! Какой же это фанатичный коллекционер будет ждать пятнадцать лет, пока привезут уже оплаченную и столь вожделенную картину?
Павел молчал, глупо хлопая глазами и уставившись на начальника.
– Ох-хо-хо! Все приходится делать самому! – выдвинув компьютер, Петрович навис над ним, бегая пальцами по сенсорным клавишам. – Та-а-ак, у кого он купил эту мазню?
Карев замер, навострившись. Внутри зашевелилась смутная догадка.
– Некий Александр Якимов, – провозгласил начальник, читая с экрана. – Работает таксистом. Интересно, откуда у таксиста деньги на такую картину? Ого, раньше был обеспеченным человеком. На покупку «Руки» Савушкина истратился до гроша. Еще один фанатик! Только, в отличие от Сато, нищий. Смотрим дальше. Живет в двухкомнатной халупе. Там же прописана Марфа Черниловская, его теща. А вот это уже интересно: госпожа Черниловская перенесла дорогостоящую операцию аккурат через неделю после того, как Якимов продал картину Сато. Любопытно: твой сухарь отвалил двадцать тысяч, а картина так и осталась у таксиста.
Память вдруг всколыхнула лица, образы. «Единственное окно в душу… и через это окно – увидеть того таксиста в момент, когда он от своей картины отказывается… ради тещи…»
– Я знаю, – улыбнулся Павел. – Я знаю, почему он так сделал. Я видел этого таксиста.
– А теперь скажи мне: конечно, Мартин Сато – мерзавец, но разве это не дело, которое ты искал и должен был найти? Когда человек отказывается от своей выгоды и своей страсти ради другого – разве это не подвиг? Ну что, дальше тебе разжевывать или сам разберешься?
– Спасибо, Викентий Петрович! – Карев едва не захлебывался от радости. – Дальше я сам! Спасибо! Вы гений!
– А вот это ты брось! Переговори с таксистом и завтра подашь нормальный отчет. А Орден Мужества ты все же получишь. И не спорь. Для того, чтобы признаться в собственном бессилии и отказаться от незаслуженного, но лакомого куска, тоже нужно мужество. И немалое. К тому же… – Петрович заговорщически улыбнулся, перегибаясь через стол, – если окажется, что ты не герой, придется инициировать «черную» комиссию, которая будет разбирать вопрос ответственности того, кто послал тебя на Тират. А зачем нам это надо?

Дело Феклиной
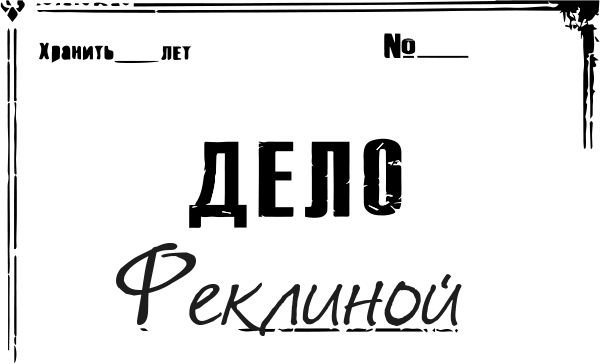
– Если вы смотрите эту запись, значит, дело моей жизни осталось незавершенным, – пожилая женщина строго глядела с экрана. – Мне горько сознавать, что я так и не смогла найти подлинных единомышленников или учеников. С пониманием отношусь к тому, что мой сын не разделяет этих целей, однако не вижу другого выхода… – госпожа Феклина на миг запнулась и отступила к серой громадине камина. – …кроме как поставить ему условием… Если Сережа хочет получить наследство, он должен отыскать человека, который мог бы адекватно донести до сведения общественности собранные мною материалы. Прости, сынок, но я действительно не знаю, кому еще это поручить.
Госпожа Феклина вопросительно посмотрела куда-то вправо, и запись прервалась.
– А что за материалы имеются в виду? – поинтересовался щеголеватый следователь с вздернутыми кончиками усов.
– Это касается темы диссертации моей клиентки, – уклончиво ответил нотариус Иваненко и нервно поправил одинокую прядь волос на лысине.
Вторжение усатого господина из Предпоследнего дознания ему было крайне неприятно. Пусть представитель спецслужбы, пусть с ордером, а факт остается фактом: пришлось огласить завещание постороннему лицу, да к тому же до фактической смерти клиента. А теперь еще и материалы…
– Я бы хотел взглянуть на них.
– Не вполне уверен, что ваш ордер дает такие полномочия, – осторожно возразил нотариус, разглядывая бланк с характерной эмблемой – два синих треугольничка в круге. – Ведь Ольга Федоровна еще даже не умерла… окончательно.
– Из четвертой стадии комы никто не возвращается, – буднично ответил следователь, оглядывая аскетичное убранство офиса. – Вам, надеюсь, доводилось слышать о специфике нашей службы? Если сомневаетесь в моих полномочиях – проконсультируйтесь с начальством.
Начальство уже дало инструкции: оказать всяческое содействие. Вздохнув, Иваненко смирился с неизбежностью беспорядка. Что ж, отчего бы в этот слякотный ноябрьский день и впрямь не случиться какой-нибудь пакости?
Он отыскал формуляры в базе, вывел бланки, положил на стол:
– Заполните здесь и здесь, господин…
– Карев, – напомнил следователь, доставая из кармана пиджака серебряную ручку.
Пока он расписывался, Иваненко с кислой миной на лице открыл сейф. Нотариус был человеком педантичным, поэтому обстоятельства, вынуждавшие не только мириться с нарушением, но и самому его совершать, казались издевкой судьбы.
– Вот и чудненько. – Карев поднялся и протянул руку за инфоконом.
Отдавая холодный металлический шарик, Иваненко с удивлением подумал, что для следователя эта ситуация, как раз напротив, выражает привычный порядок. Так, при столкновении двух разнонаправленных жизненных векторов, воплощение идеала одного неизбежно предполагает нарушение идеала другого…
По такой-то погоде – вещь вполне закономерная.
* * *
Свинцовое небо едва удерживалось от дождя, словно всматриваясь в бесчисленные точки аэромобилей-прыгунов, хаотично сновавших под низкими тучами. Мрачный сырой мегаполис проплывал внизу вереницами стеклобетонных башен, разбавленных красно-желтыми кляксами деревьев, осыпающих на асфальт последние листья. Но в салоне прыгуна было сухо, тепло и светло, и накрытый промозглой осенью город за окном совсем не занимал следователя – Павел Карев читал текст с экрана миникомпьютера-планшета.
Огромные абзацы, отягощенные научной терминологией, списки, цитаты, сноски, гиперссылки… Ко всему прочему госпожа Феклина явно не была мастером словесности – читать ее материалы выходило с трудом. Но чем больше перед мысленным взором следователя вырисовывалось то самое дело жизни подследственной, тем сильнее крепло ощущение, что именно здесь прячется весьма перспективный задел.
Неделя стандартных поисков с опросом свидетелей не дала ничего выдающегося. Пожилая и одинокая учительница истории особыми добродетелями не блистала, жила замкнуто, с сыном и его семьей не общалась, с единственной подругой встречалась не чаще двух раз в год, ученики ее не любили, коллеги по школе считали сухой и нелюдимой, впрочем, ценили за аккуратность и обязательность.
Вот и вышла загвоздка: добрые дела совершаются всегда по отношению к кому-то, а где их взять, если подследственная, считай, ни с кем не контактировала? Пришлось запросить ордер и познакомиться с завещанием. И, кажется, не зря. Но точно определить это можно лишь после консультации со специалистом.
* * *
Со специалистом удалось встретиться три дня спустя. Профессор Аркадий Петрович Радужный оказался человеком внушительной комплекции. Жесткая, аккуратно подстриженная борода и цепкий взгляд придавали ему разительное сходство с ликами светил науки, чьи портреты украшали стены его просторного кабинета в Институте истории. Тепло приняв следователя, он уселся в кресло, с почтением взял стопку привезенных распечаток, но, едва скользнув взглядом по титульному листу, отбросил их на стол.
– Ах, Ольга Федоровна, – с грустной улыбкой молвил профессор. – Как же, как же… Наслышан. И даже как-то лично имел случай беседовать. Одиозная личность. Притча во языцех, так сказать.
– Что вы имеете в виду? – поинтересовался Карев из гостевого кресла.
– Разумеется, ее, скажем так, своеобразные идеи, а также то невероятное упорство, безусловно, достойное лучшего применения, с которым она свои, так сказать, идеи пыталась навязать научному сообществу и параллельно с этим популяризировать…
Павел мысленно оценил умение профессора под напыщенным многословием скрывать неопределенность ответа и решил прояснить:
– Эти идеи как-то связаны с темой ее диссертации?
– Скажем так, они выросли из нее. Кандидатскую работу Ольга Федоровна защищала… – Радужный глянул на стопку листов. – Еще в 2187 году. Насколько я слышал, сама работа касалась вполне конкретного эпизода Второй мировой войны ХХ века, и хотя уже тогда имели место некоторые тенденциозные моменты, все же она пока не выходила за рамки академической традиции… Ох, Лидочка, благодарствую! – Последняя реплика относилась к некрасивой носатой девушке, что внесла в кабинет подносик с японским чайником, чашками, сахарницей и блюдцем печенья.
– Павел Сергеевич, надеюсь, не откажетесь? Натуральный зеленый чай. С жасмином.
– Не откажусь, – кивнул следователь.
Чай намного лучше кофе, которым его обычно норовят напоить свидетели.
Пока молчаливая Лида разливала горячий напиток по чашкам, кабинет наполнился душистым ароматом.
– Без сахара пьете? – заметил профессор, позвякивая ложечкой. – Очень правильно. А я вот, знаете ли, к сладкому неравнодушен, никак отвыкнуть не могу.
Цокая каблучками, девушка удалилась и аккуратно прикрыла за собой дверь.
– Так вот, Феклина… – Аркадий Петрович стал серьезен. – Чего уж греха таить, многие ученые хотят совершить заметное открытие в своей области. Такое, в общем, нормально. Но у кое-кого это желание доходит до крайности, где говорить о научной состоятельности уже невозможно. Появляются какие-то фантастические, революционные идеи, под них наспех подгоняются факты, остальные игнорируются, критика не воспринимается…
– Это случилось и с Ольгой Федоровной? – уточнил следователь, сделав глоток чая.
– Увы, – профессор потянулся за печеньем. – Да. Она пыталась пересмотреть всю историю Второй мировой войны. В частности, утверждала, будто войну развязал не Советский Союз, а гитлеровская Германия, и что победную точку поставили не США и Англия, а тот же СССР, и что зверства советских войск и неудачи командования якобы сильно преувеличены… В общем, делала сильный крен в сторону коммунистов.
– Я, конечно, не специалист, и пока что не очень внимательно ознакомился с материалами Ольги Федоровны, – заговорил Карев. – Но мне показалось, что она довольно убедительно обосновывает свои гипотезы, опираясь на источники…
– Да-да! – кивнул профессор. – Как раз в этом и заключается опасность лженауки. Правдоподобность и правда – далеко не одно и то же. Вы, безусловно, знаете это не хуже меня. Иногда отличить одно от другого способен только специалист. Ведь любой источник можно вывернуть так, что все с ног на голову встанет. К примеру, возьмем какой-нибудь дневник филиппинского интеллигента времен той войны, и что увидим? А то, что основные действия происходили на Филиппинах между Японией и США, а вся трагедия Европы была лишь малозначимым фоном. И вот, чтобы подобных казусов не приключалось, существует такая дисциплина, как источниковедение. Которая изучает обстоятельства возникновения данного памятника, объясняет его особенности, сопоставляет с другими памятниками эпохи… И этим занимается уже, простите, не одно поколение ученых. Накоплена аргументация, какие-то взгляды обоснованно стали общепризнаны, другие, напротив, не выдержали критики и оказались отвергнуты. Чтобы в этом ориентироваться, следует знать хотя бы основную научную литературу по данному периоду…
– А Ольга Федоровна, получается, не знала? – Павлу снова пришлось вернуть собеседника к теме разговора.
– Может, и знала, да не учитывала. Не могу сказать, что следил за всем ее творчеством, но одну статью меня как-то просили отрецензировать. Там госпожа Феклина всю аргументацию строила на так называемых мемуарах Жукова. Между тем, в науке вообще долгое время считалось это произведение псевдоэпиграфом, написанным через много лет после войны коллективом анонимных авторов по заказу компартии. Кстати, обычная для Советского Союза практика. Да, ряд исследователей, например, мой учитель Алексей Иванович Лапшин, высказывались в пользу подлинности авторства маршала Жукова. Но и они признают, что памятник нужно понимать в контексте его эпохи. Мемуары Жукова – это продукт тоталитарного общества, написанный с пропагандистскими целями в рамках советской историографии, тенденциозность и несостоятельность которой была доказана уже в конце ХХ века сразу после падения коммунистического режима. И воспринимать такой источник некритично, это, сами понимаете… – Аркадий Петрович развел руками.
Следователь молча отхлебнул чаю, размышляя над словами Радужного.
А профессор тем временем управился с очередным печеньем, погладил бороду, стряхивая крошки, и продолжил:
– Поначалу Ольгу Федоровну пытались переубеждать, дискутировать… Семинар целый устроили. Напоминали бесспорные исторические факты. То, что Вторая мировая началась со вторжения СССР в Финляндию – факт! То, что коммунисты четыре года подряд не могли победить гитлеровцев, пока в дело не вступили США – тоже факт! Но она этого словно не слышала и упрямо держалась за свои фантазии. Да притом еще пыталась навязать их научному сообществу. Как понимаете, при таких условиях она была обречена стать фигурой комической. Печально. Знаете, я с особым интересом буду ждать вашего отчета по ней и приложу все усилия к тому, чтобы этот выпуск «Бюллетеня Предпоследнего дознания» прочитали мои коллеги. Думаю, это будет правильно. Им полезно узнать с новой, лучшей стороны человека, чье имя они превратили в анекдот. Ничуть не удивлюсь, прочитав, что Ольга Федоровна была прекрасной женой, идеальной матерью, отзывчивым и милосердным человеком.
Профессор хрустнул печеньем.
– Я вообще с большой симпатией отношусь к вашей службе. Искать и показывать реальное, осязаемое добро в нашем современнике – великое дело, оздоровительный эффект от которого охватывает все общество. Конечно, история не терпит сослагательного наклонения, и все же… как знать, появись такая служба не в XXI веке, а лет на сто-двести раньше – быть может, удалось бы избежать многих бед. Если бы Ленин, Гитлер, Сталин и Мао Цзэдун регулярно читали ваш «Бюллетень», возможно, им не пришло бы в голову начинать те злодеяния, которые теперь приходится изучать в курсе истории мрачного ХХ века. Тоталитарные режимы – и фашистский, и коммунистический – исходили из постулата, что человек плох и его надо насильственно улучшить. А ваша служба не словами, но самой деятельностью доказывает, что человек все-таки хорош сам по себе. И это хорошее в нем надо просто уметь увидеть. Я уверен, что у Ольги Федоровны было много такого хорошего. Но искать это в ее околонаучных штудиях – пустое дело.
Карев одним глотком допил подостывший чай и поднялся.
– Спасибо за добрые слова и за консультацию.
– Очень рад был познакомиться и оказаться полезным, – с готовностью отозвался Аркадий Петрович.
Поставив чашку на поднос, Павел взял со стола кипу распечаток и попрощался с профессором.
Выходя, поморщился – чай отдавал горечью.
* * *
– Тебе черный, зеленый, красный?
– Красный, – ответил Павел жене и добавил: – Зеленым сегодня меня уже поили.
– Свидетели? – осведомилась Инна, поднимая чайник.
– Нет. Консультировался со специалистом. Снова пришлось посетить научное заведение. Вот странное дело: снаружи их здания вроде как разнообразны, а внутри везде одно и то же. Что-то неуловимо общее.
– Ученый дух! – рассмеялась Инна, ставя перед мужем огромную чашку каркаде.
– Да уж… Скажи, а ты бы назвала современного человека хорошим?
– Тебя, что ли?
– Не только. Собирательный образ. Я серьезно.
Инна задумалась, глядя на струйку пара, вьющуюся над кружкой, а потом улыбнулась:


