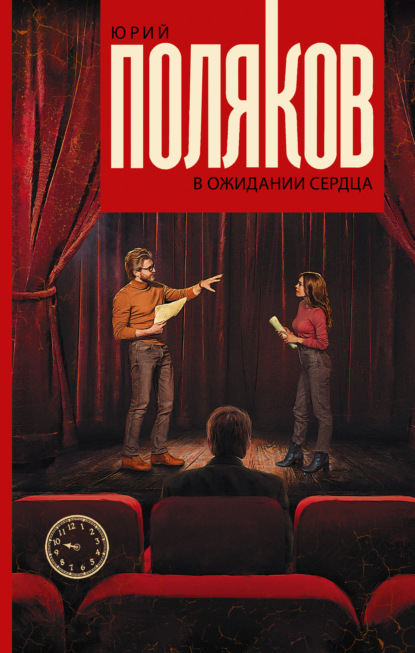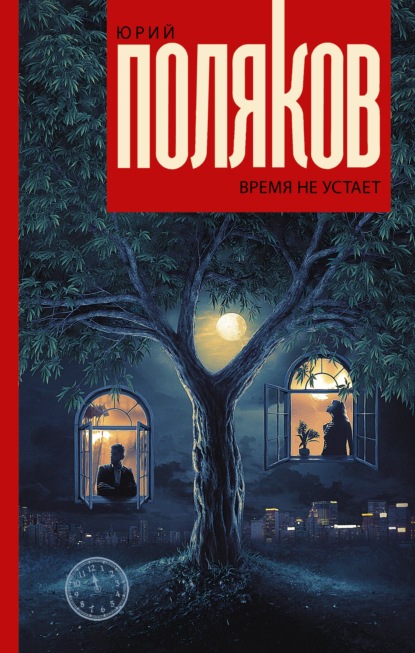
- Рейтинг Литрес:3.8
- Рейтинг Livelib:3
Полная версия:
Юрий Михайлович Поляков Время не устает
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Юрий Михайлович Поляков
Время не устает
© Поляков Ю.М.
© ООО «Издательство АСТ», 2022
Эссе
1. Влеченье – род недуга
Человека, который хоть недолго был поэтом, я узнаю с первого взгляда. И не важно, кем он стал после своей поэтической кончины – журналистом, прозаиком, политиком, инженером, бизнесменом, генералом, бомжом… Как заметил, кажется, Флобер: на дне души самого жалкого бухгалтера таятся обломки великого поэта. А все дело в том, что поэт – счастливый невольник слова. Он и в быту разговаривает совсем не так, как другие, – не просто обменивается информацией, а наслаждается, упивается рождением внезапного словесного смысла. Он кожей чувствует, что иной крошечный промежуток между словами значит куда больше, нежели сами слова. Для него слово – это живая белка на великом древе, соединяющем землю и небеса. Для большинства же слово – это просто шапка, пошитая из мертвых беличьих шкурок…
Написаны горы сочинений о пророческих способностях поэтов, об их умении предугадывать ход истории. Это действительно так, и профетический дар объясняется, по-моему, именно особенным чувством живого слова. Ведь все события совершаются прежде в языке, в слове, а лишь потом в реальной жизни. Советская цивилизация зашаталась, когда мы пустили в нашу речь такие словечки, как «совок», «коммуняки», «тоталитаризм»… Не случайно было широко подхвачено придуманное мной словечко «апофегей». Оно отразило то межумочное состояние общества, когда по-прежнему жить не хотят, а как надо жить – никто не знает, кроме либеральных ведунов – извечных двоечников нашей истории.
А в 1992-м, едва появились в языке «прихватизация», «демокрады», «ельциноиды» и прочее, стало ясно: вестернизация России если и не отменяется, то откладывается надолго. Помню, как – прочитав в «Труде» мой неологизм «соросята», мне позвонили из фонда Сороса и предложили в обмен на лояльность вояж по американским университетам. Я, конечно, отказался с гордостью человека, только что закончившего штопку последних штанов. Но какова оперативность! Понимают мировые «закулисники» цену точному слову. Поэт благодаря особому дару улавливает тихую языковую подготовку исторических сломов раньше остальных людей. «И гад морских подводный ход» – сказано Пушкиным именно об этом, а не о миграциях косяков атлантической сельди.
Поэт может молчать в разговоре, но по тому, как загораются его глаза при удачном чьем-то слове, сразу понимаешь – кто он таков. В 1986 году я был с творческой, так сказать, миссией в Сирии и встречался с тамошними литераторами. В мою задачу входило проинформировать писательскую общественность о том, как поставлено литературное дело в тогдашнем СССР, а организовано оно было, если вынести за скоби мягкий, но твердый идеологический контроль, отлично. Мой рассказ о писательской жизни Страны Советов арабы слушали с неподвижными лицами, мерно перебирая четки. Некоторое оживление вызвали лишь сведения о тиражах тогдашних толстых литературных журналов. Когда я сообщил, что тираж «Юности» – три с половиной миллиона, они глянули на меня так, точно хотели сказать: «Хоть ты и гость, уважаемый, но врать все равно нехорошо, у нас за это бьют палкой по пяткам…» В заключение переводчик Олег Бавыкин попросил меня прочитать хотя бы одно мое стихотворение. Я пожал плечами, посмотрел на эту невозмутимую бедуинскую аудиторию и продекламировал:
Война уже потеряна из вида.И генералы – не фронтовики,А все ж у мира, как у инвалида,Болит ладонь потерянной руки…Бавыкин перевел, как умел, – и вдруг эти равнодушные люди пустыни закивали, зацокали языками, заулыбались, запереглядывались, как заправские московские стихотворцы, оценившие удачную метафору коллеги за пивом в ЦДЛ. И я понял, что нахожусь среди поэтов. Мне даже показалось (стихотворцы тщеславны!), будто в гортанном клекоте мелькнуло словечко «гениально». Внутрицеховая оценочная шкала русских поэтов имеет только две отметки – «гениально» и «г…но». (Подробнее об этом в моем романе «Козленок в молоке».) От встречи осталось еще одно любопытное впечатление: сквозь антропологию иной расы в лицах сирийских писателей угадывались до боли знакомые черты московских коллег. «Смотри – вот там Ибн-Евтушенко!» – шепнул мне переводчик, кивая на худого нервного араба – черный обруч на его игале сдвинулся набекрень. Он и в самом деле был удивительно похож на нашего громкого поэта, умеющего ссориться с властью с неизменной выгодой для себя. «А вон – Ибн-Михалков…» И точно! Только звезды героя на белом соубе не хватало. Вероятно, в любом литературном сообществе в силу внутренних законов всегда есть неизбежные вакансии, которые замещаются людьми со схожими данными, в том числе и внешними. Возможно, в будущем, когда мы познакомимся с марсианским поэтом, прибывшим в составе инопланетной делегации, кто-то всплеснет руками: «Батюшки, ну вылитый Юрий Кузнецов!»
Думая сегодня о той давней поездке, вспоминая цветущие Дамаск и Алеппо, вспоминая Пальмиру, этот античный мираж посреди пустыни, я с тоской смотрю на телевизионные пейзажи современной Сирии: бесконечные серые лабиринты полуразрушенных стен и горы щебня. Можно ли было избежать этого всесирийского погрома? Наверное… Но почему-то на память мне приходит наш гид, араб, учившийся в России, он с насмешкой упорно называл тогдашнего президента Асада, отца нынешнего Башара, «тыквоголовым», вкладывая в эту дразнилку какую-то старую клановую неприязнь. А вот Российская империя зашаталась, когда последнего царя в народе стали звать Николашкой… И опять дело в словах…
Но вернемся к поэзии. В разные эпохи стихи востребованы по-разному. Иногда они выдвигаются на роль самого активного и знаменитого вида искусства. Так было перед Октябрьской революцией и после нее. Слава Маяковского и Есенина общеизвестна. Евтушенко, Окуджава, Вознесенский, Ахмадулина полвека жили на проценты с того успеха, который обрушился на них в 60-е годы, когда послушать стихи люди собирались на стадионах и в ответ на удачную метафору слушатели ревели покруче, чем теперь ревут, восторгаясь искусно забитым голом. Лариса Васильева рассказывала, как почитатели поэзии на руках выносили ее на улицу после вечера в Политехническом. Кстати, благодаря кадрам, вошедшим в удивительный фильм М. Хуциева «Застава Ильича», можно вообразить, будто именно показанные в фильме поэты (Евтушенко, Окуджава, Рождественский, Казакова, Вознесенский, Ахмадулина) и были в ту пору исключительными фаворитами.
Но это вовсе даже не так. Столь же бурно воспринимались стихи и некоторых других поэтов, а самые восторженные аплодисменты вызвали те, что прочитал Сергей Поликарпов, которого долго не отпускали со сцены. Почему Хуциев не включил самое яркое выступление в свой фильм? Могу предположить: для него – птенца интернационального гнезда – стихи Поликарпова показались слишком русскими, или, как иногда выражались, посконными. Поэта такая несправедливость буквально сломила, исказив отчасти его литературную судьбу, он не стал, как и многие его достойные сверстники, героем текущей истории поэзии. Правда, есть еще итоговая история поэзии. Подождем… Несколько лет назад мы в «Литературной газете» опубликовали те самые стихи, которые Поликарпов прочел тогда в Политехническом. Они действительно хороши и нисколько не устарели в отличие от сочинений, озвученных тогда же со сцены его более удачливыми сверстниками.
Вероятно, в человеческом обществе случаются периоды обостренного восприятия стихотворного слова, как бывают периоды религиозной экзальтации или повышенной воинственности. С чем это связано – с солнечной активностью, со сменой культурного кода, с очередным извивом этногенеза? Бог знает… Но наступают времена, когда поэзия уходит из сферы духовных приоритетов, дробится и сжимается до крошечных кухонных парнасиков. Она переходит, как сказали бы врачи, в латентное состояние, в каковом, кстати, пребывает сейчас. Борясь с равнодушием общества, поэты придумывают «завлекалочки»: иногда талантливые, как у куртуазных маньеристов, иногда убогие, похожие на срежиссированные эпилептические припадки, как у Пригова. Снимается и уровень версификации. Сложение стихов уже не напоминает резьбу по благородному дереву, скорее – торопливую лепку из пластилина. А к тому, что не требует мастерства, траты времени и душевных сил, и отношение соответствующее: крошечные залы полузаполнены не фанатами поэзии, а подругами и собутыльниками стихотворцев, которые даже не помнят наизусть своих опусов, а читают их с листа, путаясь и словно стесняясь написанного. Уверяю вас, если поэт по-настоящему оттачивал стихотворение, он запомнит его на всю жизнь, как солдат номер полевой почты. Читать стихи с бумажки – это как объясняться в любви, сверяясь с интернетом.
Однако, по моим наблюдениям, процент людей с поэтическим мироощущением постоянен, как число, скажем, гомосексуалистов или левшей. Своим присутствием, даже незаметным, они играют какую-то не до конца еще понятую роль в жизни человеческого сообщества. А может быть, поэзия – вообще какая-то «высокая болезнь» человеческого духа или языка? Не случайно с самых отдаленных времен поэтов считали собеседниками богов, людьми, которым, как и жрецам, доступна небесная изнанка мира. Они слышат, как «звезда с звездою говорит». Причем болезнь эта эротическая, и давно замечено, что лучшие стихи сложены именно о любви, чаще несчастной или безответной, как у Петрарки к Лауре. Впрочем, изредка встречаются большие поэты, обошедшие в своих стихах любовь стороной. Например, Александр Твардовский.
Не исключено, поэзия – своего рода компьютерный вирус, занесенный в искусственный интеллект киборгов – наших предков – и приведший в конечном счете к возникновению у клонированных из праха тварей того, что мы называем душой. Впрочем, кажется, в юности я перечитал Брэдбери и Стругацких…
Сказать, что поэзия – тайна, это примерно то же самое, как если сказать, что любовь – это любовь. Не могу объяснить, почему всякий раз у меня выступают на теле мурашки, когда я повторяю, скажем, такие строчки Владимира Соколова:
На влажные планки оградыУпав, золотые шарыСнопом намокают, не радыНачалу осенней поры…Кто знает, может, поэзия – это самый совершенный на сегодняшний день способ консервации энергии мысли и чувств, способ, сохраняющий не только результат, но и сам процесс творчества. В этом я убедился, составляя поэтический том моего собрания сочинений и перебирая архив. Иные пожелтевшие черновики я взял в руки без малого через сорок лет. И что? Я отчетливо вспомнил все свои тогдашние мысли, чувства и ассоциации, породившие ту или иную строку, вспомнил давно забытых людей, их лица, голоса. Более того, мне удалось вернуться в прежнее творческое состояние, ощутив юношеские муки, когда метафора не лезет в размер, а сравнение напоминает бант на заднице провинциальной кокетки. Вот ведь как! Но даже если ты не поэт и читаешь чужие стихи, все равно на подсознательном уровне ты воспринимаешь не только итог, но и проживаешь сладостно-мучительный процесс сочинительства, творившийся в чужой душе. Так, наслаждаясь лирикой Пушкина, ты оказываешься, фигурально говоря, в его постели. Нет, не подумайте плохо! Как известно, гений предпочитал творить лежа на ложе…
2. Байроновский аспирин
В поэзии, как и в алкоголизме, самое главное – вовремя завязать. Поэтов-долгожителей не так уж много. Назову хотя бы Фета, Тютчева, Случевского, моего учителя Соколова. Откройте того же Пушкина и посмотрите по оглавлению, как год от года сужалась его поэтическая река… Именно Пушкин дает нам, собратьям своим меньшим, наиболее разумный пример перехода к иным жанрам, когда поэтическая энергия истаивает. Проза, критика, драматургия, журналистика, исторические разыскания… Это нормально. Ненормально, если человек, лишившийся поэтической энергии, продолжает складывать в рифму – благо рука набита. В советские времена, когда поэты неплохо зарабатывали, это было просто бедствием, но бедствием вполне объяснимым. Вообразите, вы долго, лет десять, осваивали технику стихописания. Да-да, стихосложению, как и музыке, нужно учиться, пройти через гаммы, сольфеджио. После того как появился опыт и за рифмой не надо гоняться с мухобойкой, приходит время пробиваться в печать, выгораживать свой садово-ягодный участок на Парнасе, тесном, как московское кладбище. Наконец вы пробились, добились, выгородились, вдохнули озон славы, а фонтанчик поэтического вдохновения взял да иссяк… Как? А как высыхает колодец? Еще вчера в нем даже в полдень отражались звезды, а сегодня только сухое дно с ржавыми ведрами, потерянными водоносами.
Кстати, самое время сказать несколько слов о вдохновении. Сегодня почти доказано, что за этой сладостной душевной смутой стоят заурядные биохимические процессы в организме, как стоят они за страхом, вожделением, унынием… Даже выделено особое вещество – пептиды. Не исключаю, что скоро наука предложит людям, страдающим иссякновением вдохновения, какие-нибудь стихоносные пилюли, ведь подарила же она охладелым сладострастникам «Виагру». Я даже могу присоветовать несколько названий для таких таблеточек: «Стиховит», «Лермонтин», «Пегасил», «Байроновский аспирин»… Возможно, скоро такие препараты можно будет покупать в аптеках, но пока еще поэтам – как это было в течение многих столетий – самим приходится изыскивать способы подстегнуть уходящее вдохновение. Серьезная, доложу вам, проблема! Обратите внимание, у каждого поэта множество стихов о том, как он пишет или пытается писать. На профессиональном языке это называется «стихи о стихах». Особенно много их у начинающих. Весь ранний Пастернак – одна сплошная мука творчества. Кстати, разбирая давние черновики, я убедился, что тоже в юности писал в основном про то, как трудно мне пишется. Прямо какие-то рыдательные песни раба со стихотворной плантации. В одной «пиесе» я сравниваю свои творческие муки с горем ребенка, обладающего простым грифелем и мечтающего о коробке цветных карандашей.
Сегодня я совсем большойИ бьюсь над строчкой каждой.И вновь с простым карандашомИ разноцветных жажду…По качеству еле добытых неточных рифм и плохо сколоченному синтаксису чуткий читатель сразу догадается, что автору в ту пору до мастерства было как неандертальцу до цветных фломастеров. Но дорогу осилит идущий.
Конечно, вдохновению чрезвычайно способствует любовь, особенно несчастная. Кушнер написал: «У счастливой любви не бывает стихов, а несчастная их не считает». Видимо, огромная энергия, выделяемая нам природой на продолжение рода и, увы, не востребованная избранницей, пометавшись по организму, выливается в горькие поэтические строки. Например, вот в такие, ахматовские:
Будь же проклят! Ни стоном, ни взглядомОкаянной души не коснусь,Но клянусь тебе ангельским садом,Чудотворной иконой клянусьИ ночей наших пламенным чадом:Я к тебе никогда не вернусь!Или вот в такие, извините, мои:
Пусть будет так —уж коли так случилось.Не обещай! Пожалуйста, иди!Не полюбился. Ну, не получилось…Все лучшее, конечно, впереди.Такой урок запомню я навеки.В чужие сани, очевидно, влез.А ты давай – вытаптывай побеги,Где мог подняться соловьиный лес!Помнится, такой мощный протуберанец черного отчаянья, переходящего в женофобию, был связан с тем, что моя девушка не смогла выбраться со мной в кино. На следующий день она смогла, но стихи-то уже вырвались из обиженного сердца.
Особо следует отметить роль алкоголя в поэзии. Сказать, что поэты пьют по иной причине, нежели все остальные граждане, значит слукавить. Любое живое существо имеет к алкоголю имманентное влечение – у моего знакомого был кот-пьяница, скончавшийся от цирроза. Однако в состоянии опьянения ничего путного написать невозможно, хотя в постпортвейной эйфории порой возникает ощущение, что ты наконец-то добрался мыслью до незримых шестеренок бытия и поймал те нетленные идеи, те вечные слова, которые Платон называл, кажется, эйдосами. Иной раз, прежде чем рухнуть в постель, хватает сил нацарапать эти озарения на бумаге. Наутро, морщась от головной боли и разбирая нетрезвые каракули, удивляешься, как могла такая густопсовая банальщина показаться тебе вчера гениальным открытием!
Вечером Богу сопатку утру,Но поутру…Тем не менее поэты заметили и взяли на вооружение одно любопытное последствие алкогольной эйфории. После мощного удара по организму в состоянии похмелья происходит некоторое смещение в сознании, мир воспринимается иначе, острее: он странен, многозначен и обнажен. Душе вдруг становятся внятны какие-то связи и приметы, на которые в трезвой повседневности не обращаешь внимания. Замечено, пик творческой активности у поэтов приходится на период после запоя. О эти послезапойные поэты! Сколько я их перевидал… Рубашка свежайшая, костюм, сильно пострадавший во время моральных и телесных падений, тщательно отутюжен. Острый запах одеколона. Лицо просветленное, а взгляд грустно-всепонимающий. И стихи, стихи, стихи… Жаль только, что запои становятся год от года все длиннее, а вдохновенные просветления все короче.
Сергей Есенин, знавший в этом толк, очень точно написал:
Иль как рощу в сентябрьОсыпает мозги алкоголь…Подобно многим моим поэтическим сверстникам, я тоже выпивки не избегал. В моих стихах вы без труда отыщете удивленную оторопь, которая накатывает утром, когда ужас от количества опорожненных бутылок сливается с тревожащей новизной ветки, скребущейся о стекло. Кстати, свою первую литературную премию я получил благодаря пьяной драке. Честное слово! Дело было в 1980 году в Кутаиси на фестивале братских литератур. Нахлебавшись беззаконного молодого вина, я высказал ехидное замечание о стихах кубанского поэта Юрия Гречко и получил аргументированное возражение в челюсть. Когда мы, рыча, катались по полу под одобрительные крики собратьев по перу, в номер внезапно вошли писательские и комсомольские начальники. «Кто дерется?» – «Поляков и Гречко». – «Из-за чего?» – «Из-за рифмы». – «Ого! Настоящие поэты!» На следующий день жюри обсуждало мой цикл «Непережитое». Кто-то заметил: «Горячий парень! И стихи вроде ничего. Надо поддержать!» Так я стал лауреатом премии имени Маяковского.
Но шутки в сторону. Сколько талантливых людей осыпали мозги гораздо раньше, чем реализовали свои возможности! Среди них и Рубцов, и Шевченко… Впрочем, Бог им судья – сделали они тоже достаточно. Особая статья – поэты, всю жизнь регулировавшие вдохновение алкоголем, а потом резко завязавшие. Они энергичны, четки и неутомимо скучны. Наверное, именно о них когда-то написал поэт-фронтовик Александр Балин, давно умерший:
Деревянным маслом смазанный,Он живет насквозь доказанный,Деловой, как телеграф…Впрочем, я, кажется, увлекся алкогольным фактором мировой поэзии. Вернемся к вдохновению. Итак, вас только-только начали хорошо издавать – а к пятидесятилетию даже готовится избранное, обычно эдак в двадцать пять листов. Для непосвященных поясню: поэтический лист – это 700 строк. За строчку при советской власти платили в среднем 1 рубль 50 копеек. Теперь умножьте – и вы получите чуть ли не двадцать пять тысяч рублей. По советским временам – сумма огромная! Деньги, согласитесь, – тоже стимул, если не для вдохновения, то хотя бы для работоспособности. Идешь, бывало, по длинному коридору Переделкинского дома творчества, а из-за обитых дерматином дверей доносится клекот пишущих машинок. Сочиняют стихи, как уголь рубят…
Или такой вот случай. Издательство «Советский писатель». День выплаты гонораров за сборник «День поэзии». Длинная праздничная очередь в кассу, ведь так щедро платили разве что за книжки в Политиздате о пламенных революционерах, которые с удовольствием писали будущие диссиденты. Вдруг появляется в долгополой шубе Андрей Вознесенский, растерянный, как схимник, угодивший из кельи на торжище. Он беспомощно озирается, пытаясь понять, куда занесла его нелегкая. «Андрей Андреевич, – весело кричат из очереди. – Вы чего ищете-то?» – «Я? Э-э… тут где-то, кажется, сегодня… выдают…» – бормочет он, явно избегая свинцового слова «деньги». «За “День поэзии”?» – уточняют ожидальцы. «Да… кажется… не помню…» – «Это здесь. Идите сюда! Он здесь уже стоял!» – великодушно лжет кто-то, почти достигший дароносного окошка. Вознесенский смущенно, с интеллигентнейшими извинениями протискивается, снимает енотовую шапку с потной головы и просовывается в амбразуру кассы. «Вы за что получаете, Андрей Андреевич?» – спрашивает бухгалтерша, исполненная значительности, как и все люди при деньгах. «Я?.. Не помню… Кажется, за поэму… или нет…» Лицо поэта обретает выражение трогательной беспомощности ребенка, забывшего стишок ко дню рождения мамы. «Ага, вот нашла! За поэму. Получите и распишитесь. Одна тысяча двести сорок четыре рубля пятьдесят восемь копеек…» Очередь затихает, уважительно оценивая грандиозный гонорар мэтра. Несколько мгновений в тишине слышно только нарастающее сопение классика, и вдруг раздается его обиженный вопль: «Как это так – одна тысяча двести сорок четыре рубля пятьдесят восемь копеек? – Лицо поэта становится сосредоточенным, как у снайпера. – Это что же, выходит, по рубль пятьдесят за строчку? А мне обещали по рубль семьдесят пять, как лауреату Госпремии! Директор на месте?» – «На месте. Следующий!»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.