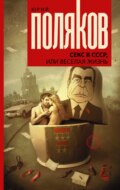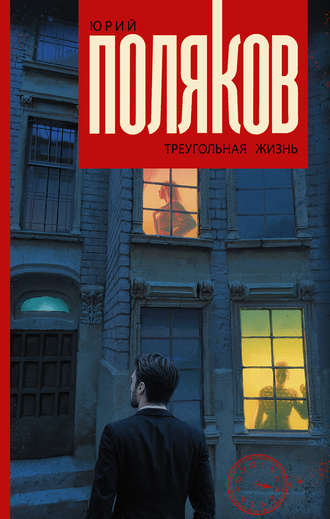
Юрий Поляков
Треугольная жизнь
– Если бы все вернуть! Стреляться из-за неверной женщины так же глупо, как стреляться из-за неудачно выбранного арбуза… Сходи на базар – выбери другой!
Вот такая грустная история. А ведь Башмаков мог рассказать и свою историю. Она пусть без стрельбы, но тоже невеселая. Каждому мужчине есть что по этому поводу рассказать. Но Борька никого не желал слушать, стараясь остаться наедине со своим разрушительным любовным горем. Среди многочисленной отъезжающей и отъехавшей родни пошел страшный слух, что Лобензоны прямо-таки уже потеряли ребенка, замечательно талантливого мальчика, аспиранта и будущего крупного ученого. Мать бросилась в советское консульство, просилась назад, чтобы спасти сына. Но ей объяснили, что это невозможно, так как, уехав из СССР, она совершила предательство, а такие вещи не прощаются.
И вдруг Борька сам, без всякой помощи, остановился, пришел в себя и подал заявление на выезд. Разрешение ему, учитывая оборонную, засекреченную специальность, конечно, не дали, а с кафедры, разумеется, пришлось уйти. Чтобы не угодить в тунеядцы, он устроился за какие-то смешные деньги осветителем в народный театр при заводе «Красный Перекоп», где начальствовал давний пациент его отца. Однако надо было подумать и о заработке: преодоление большой и чистой любви с помощью множества маленьких постельных дружб требует определенных расходов. Сначала Борька зарабатывал перепродажей импортных бюстгальтеров, которыми его снабжал также бывший пациент отца – директор универмага «Лыткарино». Когда директора посадили, наступили трудные времена, и Борька попытался реализовать портрет бабушки кисти Альтмана. Конечно, Борис Исаакович памятное полотно продать не позволил, но книгу с автографом Маяковского не отстоял. С этого и началось знакомство Слабинзона с миром антикваров.
В предотъездные годы Олег виделся с Борькой редко. Иногда Слабинзон приезжал к нему в гости, как он любил выразиться, на выселки. Друзья, чтобы остаться наедине, выходили на балкон и, поплевывая вниз с одиннадцатиэтажной высоты, рассуждали о женщинах или беззлобно переругивались. Нет, они не ссорились… Но Слабинзон вдруг прозрел в своем студенческом дружке типического представителя злой силы, упорно не выпускавшей его из СССР. Он не успокоился и потом, когда Башмакова с позором выгнали из райкома:
– Довели вы страну, коммуняки проклятые, с вашей драной советской властью!!
– Здрасте! – обижался Башмаков. – Это не моя бабушка, а твоя на Дону советскую власть устанавливала! Моя бабушка гусей под Егорьевском пасла…
Про устанавливавшего в Егорьевске советскую власть дедушку он благоразумно умалчивал.
– Так бы и пасла до сих пор, если б не моя бабушка Ася! А вместо благодарности вы меня держите в этой хреновой стране…
– А вот этого не надо!
– Так я и предполагал. Тунеядыч, ты становишься антисемитом! И когда начнутся погромы, ты меня не спрячешь!
– Спрячу.
– Не-ет, не спрячешь!
Но эти разговоры начались позже, а тогда Слабинзон, еще не травмированный своей большой любовью и суровыми буднями отказника, относился к райкомовской деятельности приятеля с насмешливым благодушием и, выслушав рассказ Башмакова о семейных утеснениях, вдруг страшно возмутился этим скобарством и решительно посоветовал:
– А ты возьми и уйди!
– Куда?
– Да хоть ко мне. Только кровать с собой захвати. У меня один станок. Будем хороводы вместе водить!
– А Борис Исаакович?
– Деду все равно – он сейчас командарма Павлова реабилитирует и Мехлиса ненавидит.
5
Эскейпер положил фотографии на широкую ручку румынского дивана. Ручка была изгрызена двортерьером Маугли, купленным после многомесячного Дашкиного нытья. Диванную ручку щенку, впрочем, простили, но после съеденных Катиных модельных туфелек пес был отдан на перевоспитание Петру Никифоровичу, пережил его и теперь, еле волоча ноги, скрашивает одинокую садово-огородную старость Зинаиды Ивановны.
Диван за эти годы совсем расходился и стал для супружеского сна почти непригоден. Катя собралась переставить его в предполагаемую гостиную, которая благодаря величине этого румынского отщепенца, наверное, сразу превратится в своего рода диванную. А для сна и сопутствующих ему удовлетворений она задумала купить арабскую кровать. М-да, юным телам под любовь требуется еще меньше квадратных метров, чем под могилу, а остывающей плоти подавай арабское раздолье. И слава богу, что не купила она эту чертову арабскую кровать! Ведь как обидно, если тебя не просто бросают, а бросают в новой, мягкой, широкой и безлюдной, как Аравийская пустыня, кровати! А с другой стороны – остаться одной на старом, добром, многое помнящем диване еще обиднее. Башмаков, используя условную и несколько завышенную среднемесячную цифру, подсчитал, сколько же примерно раз они с Катей обладали друг другом на этом диване, и поразился внушительности полученного результата.
Диван с толстыми ножками в виде львиных лап из румынского гарнитура «Изабель» был куплен на премию за успешное проведение районной отчетно-выборной конференции. Кате он сразу не понравился. Скорее всего, дело было вот в чем: до этого все покупки они делали сообща, подолгу обсуждая даже такие мелочи, как узоры на носках, а приобретению чего-то более основательного, скажем, пиджака, пылесоса или велосипеда для Дашки, предшествовали многодневные прения. И вдруг, представьте себе, радостный муж впихивает в квартиру огромный и совершенно несогласованный диван!
Конечно же, Башмаков восторженно объяснил, как это произошло. Неся домой премию и будучи до неузнаваемости трезв, он заглянул в мебельный магазин возле дома, чтобы прицениться к прикроватной тумбочке, о которой они с Катей грезили вот уже полгода. И надо ж случиться, что какой-то простодушный старикан из ветеранской очереди, покупавший по открытке румынский гарнитур «Изабель» (а открытку он ждал, между прочим, больше года!), не захотел брать диван, ссылаясь на маленькие размеры своей квартиры. Активист со списком куда-то в этот миг отлучился, и пока продавщица бегала звонить знакомым, мечтавшим именно о таком неимоверно дефицитном диване, Олег договорился со стариком – тот сделал вид, будто передумал и диван берет. Все получилось очень удачно: у ветерана был заказан мебельный фургон, а жил он, надо ж так совпасть, в соседнем квартале! Таким образом, за перевозку договорились заплатить пополам, в чем, собственно, и состояла стариковская выгода, не говоря уже о внезапном покупательском счастье Олега.
Выслушав этот возбужденно-радостный рассказ мужа, Катя передернула плечами и заявила, что диван совершенно не подходит им ни по стилю, ни по размеру – и она никогда к этому мебельному чудовищу близко не подойдет. Но тем же вечером не только подошла к дивану, но и абсолютно голая лежала на нем, перебирая взмокшие Олеговы вихры и умиротворенно попиливая его за необдуманную покупку.
Этот диван Башмаков и собирался в качестве «станка» перевезти к Слабинзону, уходя от жены. Но легко сказать – перевезти!
Во-первых, по тем советским временам машину нужно было заказывать чуть не за месяц. Допустим, заказал, но где гарантия, что именно в тот день, который обозначен в квитанции, или хотя бы накануне Катя в очередной раз погонит Башмакова из дому? А уехать просто так, ни с того ни с сего Олег не мог. Побежать сразу после нанесенной обиды к мебельному магазину и взять левака? Но это теперь все вдруг в леваков превратились, а тогда, при советской власти, можно было зря пробегать и вернуться ни с чем.
Во-вторых, диван был нестандартный, и грузчики в свое время намучились, пока, разобрав на части, пропихивали его в квартиру. Уйти же из семьи так, чтобы через день-два на грузовике с блудливой улыбкой мебельного сквалыжника вернуться за диваном – этого Олег позволить себе не мог. Ему тогда, по молодости лет, казалось, будто браки должны распадаться так же красиво, даже ритуально, как заключаются. В общем, благодаря трудновывозимому дивану семья сохранялась еще несколько месяцев.
И вот тут-то с ведомостями уплаты членских взносов к Башмакову зашел комсорг автобата лейтенант Веревкин, молодой человек с вызывающе длинным носом и лицом, выражавшим некую изначальную обиду на жизнь. Со временем Олег понял, что такое выражение вырабатывается у людей совсем не под ударами судьбы, а обретается еще, возможно, в ту безмятежную пору, когда плод, благоденствуя в ласковых водах материнского лона, уже почему-то имеет претензии к своему внутриутробному положению. Впрочем, Веревкин теперь генерал (в 91-м он, будучи комбатом, привел свои грузовики на защиту Белого дома), и всякий раз, видя его по телевизору, Олег поражается, до какой степени человека меняют должность и удачно подобранные очки.
В тот вечер лейтенант принес, кроме ведомостей, бутылку водки и два плавленых сырка. Рабочий день кончался, никого из начальства в райкоме уже не было, Олег запер дверь кабинета, и они начали выпивать, неторопливо анализируя перспективы ухода первого секретаря Зотова на работу в ЦК ВЛКСМ, что неизбежно привело бы к цепочке благотворных кадровых перемен в райкоме. Но тут вся проблема была в легендарной зеленой записной книжице Чеботарева, обыкновенной телефонной книжке, изготовленной для международных надобностей и поделенной на две равные части: первая с русским алфавитом, а вторая с латинским. Посещая любое мероприятие, будь то закрытое партсобрание Союза писателей или торжественное открытие пункта молочного питания, Чеботарев неизменно имел при себе зеленую книжицу. Осматривая подчиненную ему территорию, слушая выступления или расспрашивая народ, он вдруг приказывал помощнику, вертевшемуся поблизости:
– Уточни-ка фамилию вон того трудящегося!
Получив ответ, Федор Федорович доставал книжку и вписывал туда фамилию. Вся штука заключалась в том, в какую часть книжки он вписывал человека. Если в русскую, то через некоторое время везунчика повышали в должности или награждали. Если же в латинскую, то несчастного ждали скорое крушение и суровое наказание. И определить, в какую именно часть книжки вносят твою фамилию, издали было невозможно. Оставалось мучиться и ждать.
Зотов был обыкновенным комсоргом на электромеханическом заводе, и однажды Чеботарев внезапно приехал к нему на отчетно-выборное собрание. В зале стоял страшный шум – к концу дня работяги уже успели поднабраться. Седеющий от ужаса прямо на глазах, секретарь парткома завода пытался призвать собравшихся к порядку, но его голоса никто не слышал. И тогда, тоже не кристально трезвый, Зотов выскочил на трибуну и в четыре пальца свистнул так, как обычно свистел крановщику, работавшему под самой крышей цеха в вечном гуле. Народ сразу затих – и можно было начинать собрание. А Федор Федорович покачал головой, вынул книжицу, перешепнулся с помощником и сделал две записи. Через неделю секретаря парткома сняли, а Зотова взяли в райком комсомола. На недавней отчетно-выборной конференции Чеботарев внимательно посмотрел на Зотова и сделал в зеленой книжице какие-то записи. Теперь все ждали результатов.
– К нам бы его с книжкой, в батальон! – недобро молвил, разливая, Веревкин.
И, выпив, стал жаловаться на начальство, въедливое, вороватое и всячески препятствующее служебному росту молодого взводного. Башмаков в свою очередь наябедничал на Катю, со слезливой хмельной обидчивостью сообщив, что жена регулярно гонит из дому, а он не может уйти из-за проклятого дивана, хотя есть даже где и жить.
– Ерунда ерундовая! – успокоил лейтенант (слова его, разумеется, даются в литературном пересказе). – В следующий раз, как погонит, звонишь мне, я приезжаю через час на «КрАЗе» с бойцами и перевожу тебя на новое место согласно приказа. Пиши мой телефон! Дневальному скажешь, что звонят из райкома, – меня сразу найдут.
Домой Олега вел многолетний инстинкт, наподобие того, что наблюдается у перелетных птиц, не сбивающихся со своего маршрута даже в бурю. Еще, конечно, упасть не давала трепетавшая в меркнущем сознании мысль: заворг Краснопролетарского райкома комсомола, лежащий лицом в луже, это, как в те годы было модно выражаться, «не есть хорошо». А утром, разлепив непроспавшиеся глаза и поймав тошноту на полпути от желудка к предусмотрительно поставленному возле дивана тазику, Башмаков увидал сначала свои брюки, такие грязные, точно он вчера вечером по примеру первых комсомольцев утрамбовывал ногами жидкий бетон, а потом и заплаканные, ненавидящие глаза Кати.
– Убирайся, тварь! – приказала она. – Собирай свои манатки и убирайся! – И, помолчав, с чувством повторила: – Тварь!
«Тварью» она еще никогда его не называла, и это слово буквально ножом вонзилось в беззащитное с похмелья сердце Олега. Он повернулся к стене и затих.
– Убирайся сейчас же, я не шучу! – повторила жена с той же суровостью, но на всякий случай опустив опасное слово «тварь», и вышла из комнаты.
Башмаков лежал, отвернувшись к стене, и сладкие слезы непрощаемой обиды катились по его щекам. Все годы семейной жизни проходили перед ним – и были они мучительной чередой ссор, унижений и притворств. Через полчаса вернулась жена. По сложившемуся семейному обычаю за это время Олег должен был осознать вину и приступить к вымаливанию прощения. Но напрасно Катя стояла над обиженно дышащим телом супруга. Наконец, не выдержав, она присела на краешек дивана:
– Олег, ведь так жить невозможно! Ты спиваешься. Лучше бы мы в Плесецк уехали…
А Башмаков тем временем вспомнил про то, как теща подозрительно часто критикует подаренный его родителями холодильник «Север», как тесть Петр Никифорович при каждом удобном случае попрекает зятя при помощи безобидных с виду слов: «Эх, ребята, хороша у вас квартирка – живи и радуйся!» Вспомнил он, как Катя, борясь за трезвость в семье, научила еще совсем маленькую Дашку говорить отцу по пути в детский сад: «Папа, не пей – козленочком станешь!» Вспомнил и, схватившись за сердце, заскрежетал зубами.
– Олег, в холодильнике есть пиво. Я вчера целую очередь отстояла! – уже испуганно сообщила Катя.
Башмаков поднялся и, поглядев сквозь жену, двинулся к кухне. Его пошатывало, а запухшие очи заволакивал тошнотворный мрак, наподобие того, какой бывает, если долго лежишь на пляжном солнце, а потом вдруг резко вскочишь, чтобы бежать к воде. Олег дополз до кухни, прямо из носика выпил целый чайник мертвой кипяченой воды, с трудом отдышался и набрал номер Слабинзона.
– Это я! – сообщил он полусонному Борьке. – Ты мне обещал…
– А я и не отказываюсь. Когда?
– Сегодня.
– Принято! Скажу деду, чтоб на троих обед готовил. Катя наблюдала за всем этим с нарастающим тревожным недоумением, а Башмаков тем временем вытряс из пиджака бумажку с телефоном лейтенанта Веревкина и позвонил.
– Дневальный по роте ефрейтор Денисов слушает! – раздалось в трубке.
– Это из райкома. Ты, боец, давай лейтенанта Веревкина позови!
Несколько минут доносились лишь глухой гул и отдаленный топот сапог, потом послышался несвежий голос:
– Лейтенант Веревкин у аппарата!
– Ты жив?
– Не уверен… Наверное, на амбразуру бросаются именно в таком состоянии.
– А ты хоть помнишь, что мне вчера обещал? – с тревогой поинтересовался Башмаков.
– Ну, уж ты совсем меня… Помню, конечно! Созрел, что ли?
– Да. Приезжай!
– Когда?
– Прямо сейчас.
– Есть. Диктуй адрес!
Положив трубку, Башмаков притащил с балкона картонный куб из-под телевизора, подаренного тестем Петром Никифоровичем к трехлетию свадьбы, и принялся складывать вещи, начав с книг. Катя с тревожной иронией наблюдала, изредка вмешиваясь в процесс репликами типа: «А эту книгу, между прочим, я покупала!» или «А вот эту подписку, как ты помнишь, нам папа подарил!»
Олег молча откладывал спорное имущество в сторону, даже не пытаясь возражать, несмотря на то что некоторые книги они приобретали вместе. Когда дошла очередь до потрепанной «Новой книги о супружестве», сыгравшей в их жизни такую судьбинную роль, Башмаков безмолвно бросил ее жене.
– А вот и хорошо, – истомно сказала Катя. – Она еще мне пригодится!
Закончив с книгами, Олег стал собирать бумаги – в основном разную райкомовскую канитель: справки, отчеты, методички… Потом он достал из серванта большую коробку из-под сливочного печенья, где уже тогда хранились документы, нашел военный билет, свидетельство о рождении, аттестат зрелости, диплом…
Катя следила за действиями мужа с нарастающим ужасом, потом вдруг сорвалась с места, и через минуту Олег услышал, как щелкнула на кухне дверца холодильника, а затем – как затренькал телефон: жена набирала номер на параллельном аппарате. Когда Башмаков складывал свои бумаги в полиэтиленовый пакет, Катя вернулась.
– Олег, ты извини меня, пожалуйста… – начала она каким-то не своим голосом, немного напоминающим голос Людмилы Константиновны, однако не выдержала и закончила уже по-своему: – Но ты, знаешь, тоже не прав! Что ты молчишь? Между прочим, твоя мать просила передать, чтобы ты не валял дурака!
Башмаков тихо улыбнулся, услышав подтверждение своей догадке.
– Что ты ухмыляешься? Отвечай!
Но Олег не отвечал. Он нашел на антресолях разрисованный дембельский чемодан, обтер пыль и с ритуальной методичностью начал собирать и складывать одежду. При этом Башмаков невольно отметил про себя, что, когда они с Катей поженились, у него, кроме свадебной тройки, школьного костюма, польских джинсов и утлого пальтишка на поролоне, ничего не было, а теперь вот даже в дембельский чемодан добро не помещается.
– Значит, уходишь? – сквозь слезы спросила Катя. – А говорил, не бросишь!
Башмаков, сам чуть не плача, молча кивнул и полез за спортивной сумкой в диван. Роясь в пыльной диванной пасти, он думал о том, что можно, к примеру, написать фантастический рассказ с очень неожиданным сюжетом: под крышкой обычного дивана скрывается вход в параллельный мир, человек лезет за старыми штанами и попадает в страну, где люди размножаются весьма необычным способом. В результате совокупления рожают не только женщины, но и мужчины. Но мужчины рожают только мальчиков, а женщины – только девочек. Поэтому после развода алименты платить не нужно. Вообще с похмелья Башмакову иногда залетали в голову очень интересные сюжеты.
– Это моя сумка! – начала Катя противным голосом и вдруг заговорила совсем по-другому: – Ну, Тунеядыч! Ну подурачились, и хватит…
Кстати, у них как-то само собой установилось: если Катя была благорасположена, то называла его Тапочкиным. Обращение «Тунеядыч» означало пусть маленькое, но неудовольствие. Так осталось и по сей день. (Интересно, как бы она назвала его, если бы внезапно вернулась и застала за сборами? Уж конечно бы не так, как семнадцать лет назад. Той, прежней Кати нет и больше не будет…)
– Ну, Тапочкин, ну давай же мириться! – Она попыталась обнять его за шею, но Башмаков молча, резким движением сбросил ее руки.
Оставшиеся вещи он просто стянул ремнем. И тогда Катя снова побежала звонить – теперь уже своей матери. Зинаида Ивановна терпеть не могла ее жалоб, всегда принимала сторону Башмакова и, в отличие от Людмилы Константиновны, считала, что мужа лучше переласкать, чем недоласкать. А в случае очевидного зятева свинства она только вздыхала и говорила: «Перемелется – мука будет». Поэтому Катя обычно жаловалась отцу. Тот во всем поддерживал дочь и мог бы остановить это безобразие одной решающей цитатой из Моруа, но он, как назло, уехал подлечиться в Цхалтубо.
Олег устало обошел еще раз квартиру, снял со стены фотографию хохочущей Дашки, нашел завалившийся за диван кистевой эспандер, потом заглянул в ванную, достал из бака две грязные сорочки и гроздь убедительно несвежих носков. Тут его снова настигла Катя. Она стала вырывать у него из рук рубашки, никому не желая уступать свое святое право стирать мужнино грязное белье.
– Олег… Я прошу… Прости меня! – твердила она вся в слезах, и голос ее явственно напоминал теперь голос Зинаиды Ивановны. – Я больше никогда! Никогда… Ну, Та-а-апочкин!
Вырвав наконец у мужа одну сорочку, Катя уткнулась в нее лицом и зарыдала. А Олег все так же молча зашел на кухню и обнаружил, что хлебница, где они хранили деньги, лотерейные билеты и разные другие ценности, открыта. Вяло поразмыслив, он полез в холодильник и под кастрюлькой с Дашкиным супчиком нашел спрятанный Катей партбилет. Это была ее последняя надежда на примирение (куда же денется муж без партбилета!), и, поняв, что теперь его уже ничто не удержит, Катя опрометью бросилась к двери.
– Не-е пущу-у-у! – истошно крикнула она, раскинув руки в проеме, точно распятая.
И тут раздался звонок в дверь. На Катином лице изобразилось торжество последнего бойца, дождавшегося-таки подмоги. Она, радостно отирая слезы и не справляясь с замком, принялась отпирать дверь, рассчитывая увидеть на пороге долгожданную мать. Ей даже в голову не пришло, что Зинаида Ивановна не может так быстро примчаться через пол-Москвы на выручку.
На пороге стоял желчный лейтенант Веревкин, а за ним четыре бойца в бушлатах и прапорщик в кургузой шинельке и огромной фуражке.
– Здравия желаю! – Веревкин коротко приложил руку к козырьку. – Здесь проживает товарищ Башмаков Олег Трудович?
– Олега Трудовича здесь нет! – залепетала Катя.
– Здесь я! – обозначился Олег. И это были его первые слова за все утро.
– Понял. Показывай, что выносить! А ты, Иван Григорьевич, – Веревкин отнесся к прапорщику, – проследи, чтоб бойцы ничего не поцарапали!
– Есть! За-а мной! – козырнул прапорщик и, отстранив плечом остолбеневшую Катю, зашел в квартиру.
Первым делом стали выносить диван и тут же застряли в дверном проеме.
– Отставить! – приказал Иван Григорьевич. – Ну-ка, Малышкин, дуй в машину и принеси инструмент. Шире шаг!
Возможно, именно заминка с диваном и спасла семью Башмаковых от распада тогда, семнадцать лет назад. По правде сказать, Олег не был готов к этому распаду. Собирая вещи, он до конца так и не верил в окончательность разрыва и даже заранее начинал уже скучать по Кате и Дашке. Но одновременно в нем сладостно набухала мечта о новой, свободной и полной прекрасных мужских впечатлений жизни. Так бывает, когда едешь на рыбалку и заранее представляешь себе чутко подрагивающий от поклевки поплавок, туго натянутую леску и здоровенного скользкого карася, изгибающегося в руках. Правда, на рыбалках, куда его, мальчишку, часто брал Труд Валентинович, Олегу редко везло. Отец даже иногда перенизывал на кукан сына свои рыбины, чтобы парню было не так обидно.
Но кто знает, как бы захороводили они со Слабинзоном? Зацепила бы его снова какая-нибудь «кандидатка в мастера» с лучисто-шальными глазами… А самолюбивая Катя, помня все свои унижения, уже не простила бы его. Тесть к месту процитировал бы: «Будь же проклят! Ни стоном, ни взглядом окаянной души не коснусь…» И все! И навсегда! И стал бы Олег классическим приходящим папой и сталкивался бы иногда в прихожей с новым Катиным мужем, не успевшим смыться к законному башмаковскому визиту. И смотрел бы Олег на свою родную квартиру, мучительно прикидывая, как у них здесь это все происходит. Но так бы до конца и не верил, что это все может у Кати происходить еще с кем-то, кроме него, Башмакова…
А вот интересно бы узнать: женщина в объятиях нового мужчины вспоминает своих прежних любовников? Может, крича от счастья, она думает о совершенно другом человеке? Или, может быть, каждый последующий возлюбленный – это как бы сменный наконечник некой неизменной Вечной Мужественности? Или же, напротив, каждая новая любовь – это своего рода инкарнация, когда от прежних жизней и постелей остается лишь смутное узнавание, вроде дежа вю?
Боже мой, что только не сквозит в похмельном мозгу задумчивого человека!
Нет, конечно, у Слабинзона Башмаков бы долго жить не стал, перебрался бы туда, где прописан, – к родителям, в недавно полученную двухкомнатную «распашонку». Труд Валентинович много лет стоял на очереди, а 3-я Образцовая типография как раз достраивала новый дом. Однако когда в профкоме вывесили списки, его фамилии там не оказалось. Это был страшный удар, так как уже вся коммуналка знала, что Башмаковы переезжают в отдельные хоромы. И тогда Людмила Константиновна, никогда ни о чем не просившая своего шефа, превозмогла гордость, сама внесла себя в список посетителей по личным вопросам – и попросила. Шеф выбранился (он был багроволицым громилой и страшным матерщинником), нашел в специальной книжечке телефон типографской «вертушки», позвонил отцовскому начальству, обменялся несколькими приветственными ругательствами, поинтересовался результатами охоты на кабана, в которой сам по болезни – давление подскочило – не смог поучаствовать, а в конце разговора, как бы между прочим, попросил «порешать вопрос верстальщика Башмакова». Через месяц родители въехали в новую квартиру, где еще пахло краской и не закрывалась толком ни одна дверь.
Олег, тогда только пришедший в райком, был поражен тем, как можно, оказывается, человеческую судьбу решить пустячным телефонным звонком. Позже он нагляделся этого вдоволь. Труд Валентинович с тех пор любил порассуждать о том, что типографские рабочие приравниваются к бойцам идеологического фронта – и потому их жилищные проблемы решаются в первую очередь. Людмила Константиновна на это только усмехалась, но семейной тайны не выдавала. А шеф ее умер от обширного инфаркта в 90-м году, когда руководимый им главк впервые за много лет не вышел на уровень планового задания.
Пока боец Малышкин бегал за инструментами, Катя, словно очнувшись, подошла к мужу, взяла его за руку, отвела в детскую и закрыла дверь. Потом она встала на колени и сказала:
– Прости! Я сама тварь! Я больше никогда… Никогда!
Это слово «тварь», повторенное во второй раз, и стало тем ключом, при помощи которого, как сейчас модно говорить, был раскодирован, а точнее – расколдован Башмаков. Он словно очнулся и обнаружил перед собой вместо смердящей бородавчатой ведьмы ласковую, нежно заплаканную панночку. И ему стало стыдно.
– От меня не очень перегаром несет? – спросил он.
– Нет, и совсем даже нет! – горячо запротестовала Катя.
Тогда он поднял жену с колен, обнял и поцеловал ее в губы, и если б не бойцы, громыхавшие в прихожей, то поцелуй перешел бы в бурное взаимопрощение прямо посреди разбросанных Дашкиных игрушек. Оторвавшись от Кати, Олег вышел в прихожую и смущенно приблизился к лейтенанту, критически наблюдавшему, как Иван Григорьевич с бойцами споро развинчивают диван.
– А долго его назад скручивать? – робко полюбопытствовал Башмаков.
– Раскручивать всегда легче! – философски заметил прапорщик.
– А в чем, собственно, дело? – как бы уже заранее обижаясь, спросил Веревкин.
– Понимаешь, она у меня прощения попросила…
– Передумал, что ли?
– Понимаешь, она плачет и клянется!
– Ну смотри, – пожал плечами Веревкин, – когда прижмешь, они всегда такие, а потом…
– Да брось ты, лейтенант! Я-то уж думал, действительно кракодавр какой тут обитает, а она вполне даже терпимая женщина! – возразил прапорщик.
– Как хочешь, – поморщился Веревкин. – Отбой, что ли?
– Отбой! – облегченно выдохнул Башмаков.
– А дети-то у тебя есть? – откладывая отвертку, спросил чуткий Иван Григорьевич.
– Дочь!
– А чего ж ты, в самом деле, тогда дурочку валяешь? – покачал головой прапорщик и скомандовал бойцам: – Отставить! Давайте назад скручивайте! А такое дело, как восстановление семейной цельности, надо, конечно, отметить!
– У меня пиво есть! – улыбаясь сквозь слезы, сообщила Катя, тихонько пришедшая из детской и слышавшая, оказывается, весь разговор.
– Ну, пивом тут, голуба, не отделаешься! – засмеялся Иван Григорьевич и кивнул на чемодан. – Разбирай вещички – вернулся твой дембелек! Но ты, голуба, на досуге тоже мозгами пошевели…
Когда через час теща, открыв своим ключом дверь, вместе с Дашкой вошла в квартиру, то застала очень странную картину: во главе празднично накрытого и еще более празднично бутылированного стола, точно молодожены, сидели Олег и Катя. Слева от них – четыре трезвых бойца (перед каждым стояла бутылка лимонада «Буратино»), а справа – засмурневший лейтенант Веревкин, захорошевший Иван Григорьевич и пьяный в стельку Слабинзон. Борька позвонил, чтобы выяснить, почему Башмаков к нему все никак не доедет, и был срочно вызван на внезапно образовавшийся праздник жизни. Супруги Башмаковы были как раз слиты в прочном поцелуе, а гости хором считали:
– Тридцать восемь, тридцать девять, сорок…
Катя вырвалась от Олега, чтобы отдышаться, а гости захлопали в ладоши.
– Мама, у вас снова свадьба? – удивленно спросила Дашка.
– Вот ведь ребенок всегда в корень смотрит! – обрадовался Иван Григорьевич.
Он галантно предложил теще место рядом с собой и весь вечер охмурял ее с тонкими подходцами, совершенно неожиданными в этом прямом казарменном человеке. А в конце, так и не добившись от раскрасневшейся тещи брудершафта с неминучим поцелуем, прапорщик сказал тост, запомнившийся Олегу навсегда:
– За любовь без дури!
Примерно через год Ивана Григорьевича, давно уже просившегося в Германию, чтобы подзаработать перед пенсией, уважили и откомандировали в Афганистан – тоже как-никак заграница. Веревкин, так и не простивший Башмакову того «отбоя», зайдя как-то в райком с ведомостью, рассказал, что прапор прислал из Афгана два письма, а потом его и самого прислали в цинковом гробу. Их колонну зажали в каком-то горном ущелье, и они отстреливались, пока были живы. Прилетевшие на выручку вертолеты опоздали, Иван Григорьевич был мертв и до невероятности изуродован, как, впрочем, и все остальные…