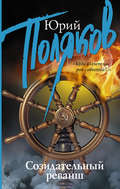Юрий Поляков
Совдетство. Книга о светлом прошлом
– Да что ж это такое! – всплеснула Лида руками. – Прямо Жак Паганель какой-то!
Я опустил глаза и обнаружил, что брючина не достает даже до косточки, по которой всегда так больно меня «подковывают», когда мы играем с ребятами в футбол.
– Минь, ты посмотри! – Обращение «Миня» означало предложение полного и безоговорочного мира в семье.
– Чистый клоун! – буркнул отец, на миг оторвавшись от экрана, где князь Игорь уже пустился в бега.
Лида встала на колени и отогнула штанину:
– Ну вот, другое дело! Сразу видно наши – «Можайская фабрика». Тут есть что отпустить. Сезон как-нибудь доходишь. Но ты их так загваздал, что только по двору собак гонять или в плитах лазить. На людях показаться стыдно. Минь, вам премию не обещали?
– Нет.
– А что так?
– Не заработали.
– И нам тоже не дают пока. Ладно, возьму в кассе взаимопомощи, – вздохнула она. – Надо в «Детский мир» ехать, а то Валька засмеет, скажет, ребенка одеть нормально не могут.
– Пусть своего сначала заведет, а потом уже смеется! – нахмурился отец.
Детей у тети Вали и дяди Юры нет. Когда я был совсем маленьким, то часто их спрашивал, почему они не хотят завести мальчика или девочку. Тетя Валя, услышав такой вопрос, сразу огорчалась и, не отвечая, отворачивалась, а Башашкин весело рассказывал, как они несколько раз делали предварительные заказы в специальном отделе «Детского мира», где распределяют младенцев в семьи. Им присылали открытки, они бежали туда с утра пораньше, но едва подходила их очередь, дети заканчивались, как копченая колбаса в гастрономе. Это потому, объяснял Батурин, что советское плановое хозяйство не успевает за ростом потребностей населения.
– За твоим языком оно не успевает! – ворчала тетя Валя.
– А где там такой отдел? – простодушно интересовался я.
– В самом низу.
– Там, где велосипеды и педальные машины продают?
– Точно!
С тех пор каждый раз, когда мы приезжали в «Детский мир», я канючил, чтобы мне показали секцию, где выдают родителям детей, но этот отдел, как уверяла Лида, был постоянно закрыт то на прием товара, то на дезинфекцию, то на переучет младенцев. Потом я вырос, поумнел, понял в принципе, откуда берутся дети, и перестал искать «распределитель». А Лида проговорилась как-то, что Валька в молодости набедокурила, не стала обращаться к врачу, пошла к какой-то бабке и вот теперь расплачивается…

Под плач Ярославны я перемерил весь свой гардероб, почти все, за исключением трусов и маек, оказалось категорически мало.
– Минь, это катастрофа!
– Я после войны в одних шароварах и рубахе на шнуровке ходил. Помнишь?
– Помню, – кивнула, светлея лицом, Лида.
– И ничего – жив.
– Но сейчас-то не разруха! Засмеют ребенка… В чем же тебя на юг отправлять? – нахмурилась она. – Вот беда-то!
Удивительные люди взрослые, они начисто забыли, что смеются над дурацкими обновками, а старую, испытанную одежду уважают, заплаты украшают штаны, как шрамы лицо пирата!
– Ладно, Паганель, теперь школьную форму надевай!
– Да ну ее…
– Два раза повторять не буду!
Я безропотно двинулся к шифоньеру и открыл скрипучие створки. Отец при этом равнодушно зевнул и отвернулся: форма висела рядом с его зимним пальто. Я нарочито долго искал ее в надежде, что родителям все это надоест.
– Быстрее, не спи на ходу! – погоняла Лида.
В пиджак мне удалось влезть с большим трудом.
– Жуть! – прошептала она. – Минь, ты видишь, как вымахал?
– Не слепой.
– Значит, так, – объявила парткомовским голосом маман. – Завтра точно едем в «Детский мир».
– Может, потом, когда с юга вернется? – усомнился отец.
– Правильно, потом, потом… – подхватил я.
– Почему – потом?
– Я же за месяц могу еще вымахать!
– Аргумент! – кивнул Тимофеич.
– Чепуха! Они же тридцатого возвращаются. Представляешь, что будет твориться в магазинах перед учебным годом?
– Представляю. Можно потом купить, через недельку, когда все успокоятся.
– Чтобы мой сын в таком виде явился в школу первого сентября?! – вскипела Лида. – Никогда! Заодно завезем Вальке желатин.
– И где достала?
Взрослые почти никогда не говорят «купил», а исключительно – «достал», реже – «оторвал», порой – «взял», иногда – «добыл». Есть еще слово «скоммуниздил», но оно неприличное.
– С «Клейтука» привезли, – сообщила маман.
– Несуны? – сквитался отец, криво усмехнувшись.
– С ума сошел? У них в буфете официально сотрудникам собственную продукцию продают. Ты бы Анне Павловне тоже завез. Я ей давно обещала. И мать заодно проведаешь!
– Посмотрим… Не знаю… Отстань…
Лида говорит, что Тимофеевич – человек волевой, но безынициативный, а она, наоборот, инициативная, но безвольная. Впрочем, порой, как сегодня, маман проявляет невиданную твердость духа, не позволяя отцу хлопнуть лишнюю рюмку…
Довольно долго мы пили чай в тягостном молчании, за это время князь Игорь успел добежать до Руси и обнять Ярославну. Лиду это долгожданное свидание и особенно слова «здравствуй, здравствуй, мой желанный!» взволновали, она посмотрела на нас влажными глазами и вздохнула:
– Какая все-таки отличная опера!
– Балет лучше, – буркнул отец, с отвращением наливая себе чая.
– Может, воду подогреть?
– Обойдусь.
Я, наверное, уродился в мать, которая не умеет выдерживать характер, хотя всякий раз клянется, что первой никогда не запросит мира. Ха-ха! Мне тоже приходилось ссориться с Шурой Казаковой, и хотя всякий раз перепалку начинала она, я не выдерживал и предлагал снова дружить. Однажды, незаметно взяв ее тетрадку по русскому языку, я потом догнал одноклассницу на выходе из школы и вернул, мол, лежала на полу, наверное, соскользнула в щель, когда поднимали крышку парты.
– Неужели? – удивилась она и пронзила меня своими зелеными глазами.
В телевизоре тем временем народ ликовал по поводу возвращения князя Игоря домой. Странно, ведь он, собственно говоря, эксплуататор! В СССР так радовались, наверное, только по поводу прибытия Юрия Гагарина из космоса. Вдоль всей улицы Горького стояли толпы счастливых людей и засыпали открытую машину цветами… Тогда телевизор был только у Коровяковых, и все общежитие набилось в их просторную комнату, чтобы посмотреть, как Гагарин идет по ковровой дорожке к Мавзолею.
«Здравствуй, батюшка, ты князь жела-а-а-нный на-а-а-а-а-а-ш!» – пропел народ, гурьбой высыпав откуда-то и заполнив всю сцену. Я подумал, что в Большом театре народу, наверное, работает не меньше, чем на нашем Маргариновом заводе. А то и больше!
Наконец сошелся занавес – и опера кончилась.
3. После продолжительной болезни
На телеэкран под звуки бодро-поступательной музыки выкатился, словно колобок, земной шар – и началась программа «Время». По вытянутым лицам Кириллова и Шатиловой я понял: в мире случилось что-то нехорошее, скорее всего, снова американская военщина насвинячила. Обычно же наши дикторы появлялись на экране радостные, словно их распирало от хороших новостей: запустили еще один спутник, открыли новую фабрику, засыпали в закрома родины тонны пшеницы, выдали на-гора угля без счета… А тут: лица хмурые, губы поджаты, глаза потуплены…
– Кто-то умер! – ахнула Лида.
– Почему? – удивился я.
– У Кириллова черный галстук. А у Шатиловой платье темное и бус никаких. А бусы-то она любит!
– Брежнев вроде еще молодой, рановато ему… – засомневался отец.
– Типун тебе на язык!
– Может, Косыгин? – предположил я: фамилии прочих руководителей мне запомнить пока еще не удалось.
– Помолчи! Мал еще. В школе, смотри, что-нибудь такое не ляпни…
Между прочим, во втором классе я, услышав вечером по телевизору, что в Америке застрелили президента Кеннеди, наутро явился в класс и первым делом спросил нашу учительницу:
– Ольга Владимировна, а вы слышали, Кеннеди убили?
– Как убили? Почему? Не может быть! Откуда ты знаешь?
– По телевизору сказали.
– Надо же, – огорчилась она. – Такой молодой и симпатичный! Пропустила. Совсем с вашими тетрадками зарылась, забыла новости посмотреть…
Еще долго потом меня переполняла гордость: я смог сообщить учительнице что-то такое, чего она еще не знала!
На следующий год, услышав по радио, что сняли Хрущева, я наутро загодя примчался в школу и с порога закричал:
– Ольга Владимировна, а вы слышали, Хрущева-то сняли! За волюн… волюн…
– Юра, не надо кричать! – улыбнулась она, озираясь. – За волюнтаризм. Про это все уже знают. Садись!
Потом я это слово накрепко запомнил, так как дядя Юра с тех пор все время повторял: «Я волюнтарист. Как Валюшка скажет, так и будет!»
Нехорошие предчувствия подтвердились.
«…С прискорбием извещают, что сегодня на семьдесят втором году жизни после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся военачальник, полководец Победы, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, кандидат в члены ЦК КПСС, член Верховного Совета СССР Константин Константинович Рокоссовский…»
Меня всегда удивляло выражение «ушел из жизни», словно жизнь – это какая-то проходная комната: посидел, встал и ушел…
– Мать честная! – крякнул отец.
На экране появился портрет усопшего полководца в черной рамке: лицо в жестких складках, стальной взгляд, строгие брови, короткие седые волосы, а широкая маршальская грудь так плотно увешана наградами, что почти не видно мундира.
«Константин Константинович Рокоссовский родился в городе Великие Луки в 1896 году в семье рабочего-железнодорожника…»
– А что главней – орден Победы или Звезда Героя? – задумчиво поинтересовался я, рассматривая награды покойного, хотя ответ на этот вопрос был мне прекрасно известен.
– Конечно, Орден Победы! – ответил Тимофеич.
– Он весь в бриллиантах, – добавила Лида.
– А почему? – глуповато уточнил я, пытаясь вывести отца из бирючьей хмурости.
Взрослые, когда отвечают на глупые детские вопросы, всегда почему-то добреют, преисполняясь глубокого самоуважения.
– Эх ты, почемучка с ручкой! – улыбнулся он, попавшись на удочку. – Сколько у нас в стране Героев Советского Союза?
– Много. Тысячи…
В первом классе я начал собирать портреты героев, которые печатались на отрывных страничках настенных календарей – численников. Все в общежитии знали о моем увлечении и не выбрасывали листочки, где, кроме изображения, имелись еще даты жизни и краткое описание подвига. У меня скопилось сотни полторы листочков, я расположил их в алфавитном порядке, поместив в длинную коробку из-под овсяного печенья, – и получилось нечто вроде библиотечного ящика с карточками. Я по наивности надеялся собрать в конце концов имена всех до единого, но когда наша учительница истории Марина Владимировна объяснила, что Героев Советского Союза у нас больше десяти тысяч, я немного остыл, хотя листки численников по привычке продолжал собирать.
– Правильно – тысячи, – кивнул, подобрев, Тимофеич, – а орденов Победы сколько?
– Мало.
– То-то и оно! Поэтому орден Победы самый главный!
– Наверное, рак у него был… – вздохнула Лида. – Как у Санятки…
Санятка, мамин двоюродный дядя, умер три года назад, но на похороны меня не взяли. Тетя Валя, навещавшая его в больнице, предупредила: страшное зрелище, детям лучше не смотреть!
– У Рокоссовского рак? – спросил я, удивляясь неожиданному созвучию.
– Конечно! Если рак, всегда объявляют: «После долгой продолжительной болезни…» А если говорят: «скоропостижно», значит – сердце, инфаркт, – подтвердила маман.
– А если «трагически ушел из жизни», значит, руки на себя наложил, – мрачно добавил отец.
– Или в аварию попал, как композитор Долуханян, – вздохнула Лида.
– Если авария, тогда говорят: «трагически погиб», – возразил Тимофеич.
– Нет, если «трагически погиб», значит, был на посту…
– Если на посту, тогда: «героически погиб, выполняя долг…» – Его лицо побурело: он терпеть не мог, когда с ним спорили.
– А помнишь, Гагарин в марте разбился, ни про какой «долг» по телевизору никто не говорил! – сварливо возразила маман.
…Когда по радио сказали о смерти Гагарина, я был дома один и сначала решил, что ослышался, но потом понял: это правда, и, заплакав, побежал по общежитию, чтобы всех оповестить. На Маленькой кухне стирала Ежова. Я крикнул ей, что первый космонавт погиб. Она не поверила и даже замахнулась на меня мокрой наволочкой: думала, дурачусь. Потом заметила мои слезы и тоже разрыдалась…
– Почему про «долг» не сказали? – противным голосом повторила свой вопрос Лида.
– По кочану! Кулема!
– …А ты… ты мартовский… отпускник!
– Что-о?!
Мне показалось, будто «чешихинский» чемоданчик сам, словно предлагая себя в дорогу, выдвинулся из-под кровати.
Ну просто как дети!
– А кто был главней на войне – Рокоссовский или Жуков? – с глуповатой пытливостью спросил я, рассчитывая этим дурацким вопросом снова отвлечь отца от назревающей ссоры.
Наши мужики за домино часто спорят, кто выиграл войну: Сталин, Жуков или другие маршалы. Они говорили почему-то «маршала́» с ударением на последнее «а»… Кричат до хрипоты, все их аргументы и доводы прекрасно слышны в нашей в комнате, так как стол и скамейки у нас под окнами.
– Ну, ты, сын, сравнил! – Тимофеич окинул меня всезнающим взором и опять подобрел. – Конечно, Жуков! Но и Рокоссовский – это тебе не хухры-мухры. Маршал Победы, слышал, что сказали? Другая жена налила бы помянуть…
Последние слова были произнесены мечтательно, насмешливо и куда-то вдаль, без всякой надежды на осуществление, однако вызвали отклик. Маман сочувственно кивнула, молча достала из холодильника и поставила перед отцом бутылку, в которой, как золотые мальки, плавали мелко наструганные лимонные корки.
– Помянуть – совсем другое дело. Это святое! Это можно…
– Есть такое дело! – просветлел Тимофеич.
Странные все-таки люди – взрослые. Абсолютно непредсказуемые. У дяди Коли Черугина есть рязанский родственник по фамилии Саблин, которому пить совершенно нельзя, так как он начинает буянить и может, к примеру, схватив нож, объявить, что вот сейчас на глазах у всех зарежется насмерть. Тогда на него по секретной команде наваливаются гурьбой все гости и вяжут полотенцами. Раз в год Саблин приезжает из Рязани на день рождения тети Шуры Черугиной, всегда трезвый, как стеклышко, в шляпе и галстуке. Нас тоже обычно приглашают по-соседски обмыть новорожденную. Кстати, мы тоже рязанские, и бабушка Аня, и бабушка Маня из тех же краев, но только из разных районов.
Из года в год происходит одно и то же. Тетя Шура просит Саблина выпить за ее здоровье одну рюмочку, но он, зная себя, наотрез отказывается, даже порывается уйти, но она настаивает, обижается, и рязанский родственник все-таки соглашается – пригубить, а вскоре уже мчится, выкатив белые глаза, на общую кухню, хватает первый попавшийся нож и угрожает немедленно зарезаться. Тогда его вяжут. Однажды Саблин, как обычно, рванув рубаху, приставил острие в груди и стал со всеми прощаться, но Лида увидела, что у него в руке наш новый хлебный нож, и строгим парткомовским голосом потребовала немедленно вернуть чужую собственность. Буян растерялся, покорно отдал нож и горько заплакал, как ребенок. Тогда его привычно связали полотенцами и унесли на диван.
– Пусть земля ему будет пухом! – Тимофеич торжественно поднес рюмку к губам, выпил и улыбчиво поморщился. – Как же ее пьют беспартийные?!
Это у них шутка такая. Смысл в том, что водка – настолько отвратительная гадость, что употреблять вовнутрь ее отваживаются только коммунисты, которые всегда готовы к подвигу и самопожертвованию: в фильмах про войну они выносят пытки гестаповцев без единого стона и плюют в лицо врагам. Водку я один раз из интереса пробовал (осталась на донышке в рюмке) – горькая, невозможная дрянь, от которой перехватывает дыхание, и пить ее я не собираюсь, даже когда вырасту. А вот советское шампанское с серебряным горлышком – совсем другое дело, оно сладкое и газированное, точно лимонад, да еще открывается с таким хлопком, словно бабахнул пугач. Но стоит оно почти три рубля. Дураку ясно: лучше выпить тринадцать бутылок «Дюшеса», чем одну шампанского…
После ужина отец ушел вниз «забивать козла». Лида убрала со стола посуду, вынула из комода жестяную коробку со швейными принадлежностями и села отпускать мои старые техасы, чутко прислушиваясь к тому, что происходит под нашим окном. Едва уловив среди стука костяшек подозрительный лязг стекла, она отложила рукоделье, легла грудью на широкий мраморный подоконник, глянула вниз и погрозила пальцем:
– Значит, все-таки распиваете?
– Не волнуйся, Ильинична, мы маршала поминаем, но только пивком! – послышался виноватый голос Петрыкина.
– Витя, мне сверху видно все, ты так и знай! – парткомовским голосом предупредила Лида и вернулась к штанам, обнаруживая на них все новые прорехи, пятна и потертости.
– Это надо ж так угваздать портки всего за год! – возмущалась она.
Решив не напоминать ей, как она опрокинула на светлое выходное платье противень с треской под майонезом, я тихо занялся моими рыбками.
Пока я набирался сил и бодрости в пионерском лагере, аквариум сильно зарос, заилился и замусорился, но вода осталась на диво чистой и прозрачной с «приятным озерным запахом», как написано в книжке «Подводный мир дома», а значит, «мы имеем дело с природным равновесием, установившимся в отдельно взятом искусственном водоеме, к чему должен стремиться каждый рыбовод-любитель».
Аквариум у меня небольшой: всего-навсего полтора ведра. Рыбок тоже немного: гуппи-вуалехвосты – три самца и две самочки, по паре: радужные меченосцы, полосатые барбусы, голубые гурами и еще неразлучная троица калихтовых сомиков, роющихся усиками в донном иле, изредка взмывая к поверхности – глотнуть, видимо, свежего воздуха. Были еще синие петушки, но сдохли один за другим. Неживучие они какие-то!
Конечно, я давно мечтаю о другом аквариуме – ведер эдак на пять. В зоомагазине такие не продаются, зато на Птичьем рынке, возле стены, можно найти любые емкости: круглые, квадратные, совсем плоские с крючками, чтобы вешать на стену вместо картины. Есть там крошечные, чуть больше отцовой манерки, садки для перевозки мальков. А рядом продаются огромные аквариумищи, в которых можно держать хоть карпов и сомов, как в рыбной секции 40-го гастронома. Все это, конечно, самодел, но качественный, считает дядя Юра. «Рукастый у нас народ! – говорит он. – Но прежде, чем купить, пощупай!»
Я присмотрел себе за двадцать восемь рублей отличный аквариум на полсотни литров, по форме он напоминает средней величины чемодан, с каким Тимофеич все время норовит отъехать на Чешиху. Каркас клепанный из нержавейки, а стекла посажены на эпоксидку. Башашкин обещал подарить мне его на день рождения, если хозяин сбросит пятерку, считается, на рынке покупать, не торгуясь, – преступление. Всякий раз, бывая на Птичке, чтобы взять свежего корма – трубочника и мелкого мотыля, я проверяю, на месте ли еще мой аквариум. На месте. Видимо, цена в самом деле великовата, коль никто не берет. Подхожу – щупаю. Хозяин посмеивается, говорит, что и на каркас без стекол покупатель рано или поздно найдется.
На Птичий трамвай ползет через Таганку примерно полчаса, и наконец водитель веселым голосом объявляет: «Следующая остановка – птичий, рыбий, кошачий, собачий, хомячий, крольчачий, свинячий рынок!» Наверное, он имеет в виду морских свинок. Там и в самом деле там есть все: черепахи, попугаи, щенки, котята, ангорские кролики, красные тропические тритоны, белки, ежи, ужи, даже удавчики… Но мой друг Василий, продавец-консультант магазина «Зоотовары», ползучую живность брать в дом не рекомендует – опасно.
Ходить по Птичке и глазеть можно целый день, но я направляюсь прямо в рыбные ряды, которые особенно впечатляют в зимнюю пору. Вокруг высокие сугробы, заснеженные деревья, с карнизов свисают сосульки, все продавцы в валенках, тулупах, ушанках и рукавицах, изо ртов валит пар, а в плексигласовых аквариумах, стоящих, словно мольберты, на ножках, плавают яркие тропические рыбки: «неоны», похожие на блестки, алые мечехвосты, плоские скалярии, напоминающие резные листики из гербария…
Но особенно я люблю смотреть на золотых вуалехвостов: взрослые величиной с хорошего карася, а хвост, словно длинная розовая фата, извивается в воде, заполняя все стеклянное пространство. Они пузатые и неторопливые, словно цари подводного мира. Подрощенный малек, уже пустивший вуаль, стоит целых три рубля! Молодь брать не стоит, могут подсунуть обычного карася. Но в моем аквариуме такой махине делать нечего. Нужен большой, и я терпеливо жду.
Зимой продавцы на электроплитках, подключенных к автомобильным аккумуляторам, греют воду и понемногу подливают, чтобы теплолюбивые существа не замерзли. Выбранную покупателем рыбку они ловко вылавливают сачком и мгновенно выпускают в баночку, которую тут же следует спрятать за пазуху и так везти, иначе дома обнаружишь ледышку. Сами продавцы греются чаем, от которого сильно пахнет коньяком или ромом. Однажды после Нового года дядя Юра поехал со мной на Птичку, заранее хорошо раскочегарившись. Бродя меж рядов, он весело задирал продавцов:
– Что ж у вас, мужики, какая-то синяя килька стоит дороже севрюги! ОБХСС на вас нет!
Они сердились, объясняли, что сапфировую рыбку доставили прямиком с Амазонки и что добиться от нее потомства труднее, чем закадрить Аллу Ларионову!
– Знаем мы вашу Амазонку! Яузой она называется. А посинела ваша салака оттого, что туда разную химическую дрянь все время сливают…
Тут продавцы просто озверели, стали Башашкин гнать, обзывая всякими словами, а он, смеясь, шел дальше, в другие ряды, чтобы расспросить, как лучше готовить трогательных мохеровых кроликов – тушить, вялить или жарить… Смехотура! Там его чуть не побили. Жаль, что в пересменок я не успею съездить на Птичку. Впрочем, Лида все равно отказывается в мое отсутствие давать рыбкам живую пищу, называя трубочника и мотыля «червяками». Интересно, что бы она запела, если бы ей давали только концентраты Пищекомбината!
Насыпав в плавающую стеклянную кормушку шепотку сушеных дафний, я обнаружил, что корма осталось на донышке железной банки и до моего возвращения явно не хватит. Некоторые идиоты в таких случаях начинают кормить рыбок хлебом, а это конец питомцам.
Приводя хозяйство в порядок, я первым делом заостренной деревянной лопаткой счистил зеленый бархатный налет, которым заросли изнутри стекла. В этот момент, наверное, для обитателей будто открылся театральный занавес, а когда я включил рефлектор, подводный мир совсем стал похож на освещенную сцену. Быстро похватав корм, рыбки собрались, вращая плавниками, перед стеклом, словно бы с удивлением рассматривая меня. А вот интересно, знают ли они мое лицо, могут ли отличить, скажем, от вредителя Сашки? И о чем думают, глядя на меня? О чем беззвучно перешептываются?
Размышляя об умственных способностях рыбок и вообще всякой живности, я сифоном (это стеклянным трубка с утолщением посредине) собрал со дна накопившийся ил, потом, опустив в воду руку, отщипнул пожелтевшие листья валлиснерии и роголистника, хотел еще проредить элодею, сильно разросшуюся, но передумал: благодаря растениям, обогащающим воду кислородом, можно обходиться без продува. А компрессор у меня кустарный, сделанный из обычной футбольной камеры. Она накачивается с помощью груши от пульверизатора, и воздух из раздувшегося резинового шара по длинной трубке через распылитель, выточенный из пемзы, попадает в воду, превращаясь в облако крошечных пузырьков, красиво сверкающих в лучах рефлектора.
Правда, накаченного воздуха хватает часа на три, потом снова минут десять надо «давить грушу». Но Сашка еще весной проткнул камеру иголкой. Вредитель! По уму, купить бы за шесть рублей настоящий электрический компрессор, он чуть больше майонезной банки, а гудит не громче комара. Но о такой роскоши я даже не мечтаю, так как печатать деньги пока еще не научился и клад, как Том Сойер, не откопал. Надо бы, наконец, заклеить камеру заплаткой из аптечки велосипедиста…
М-да, аптечка-то у меня есть, а велика нет. «Школьник», из которого я давно вырос, отдали, а вот «Орленок» никак не купят, хотя давно обещали. Весной уже собрались было в «Детский мир», и вдруг Лида посмотрела на меня, словно впервые увидела:
– Сынок, тебя же все лето в Москве не будет. Зачем сейчас велосипед покупать? Ну, согласись, это нерационально. Все равно будет стоять без дела.
Нерационально! Ха-ха! Не зря же она у нас член бюро рационализаторских предложений! А когда я вернусь из Нового Афона, Лида снова поглядит на меня и задумчиво заметит, что скоро зима, поэтому с велосипедом можно подождать до весны. Потом вдруг окажется, и «Орленок» для меня уже маловат… Морочат детей! А ведь ребенок без велосипеда – это как буденновец без лошади.
Я достал из письменного стола пластмассовую коробочку велоаптечки и громко, в сердцах задвинул ящик.
– Сынок, ты что собираешься делать?
– Камеру заклеивать.
– Зачем?
– Компрессор не работает.
– Успеешь. Ты вот что…
И она «не в службу, а в дружбу» отправила меня проверить – освободилась ли Маленькая кухня. Узнав, что там уже никого нет, Лида сложила в таз мои грязные вещи, привезенные из лагеря, пошла к двери, но на пороге оглянулась:
– Потом заклеишь. Сначала сходи на завод – ополоснись. Завтра некогда будет. Поедем в «Детский мир».
– В спортивный отдел зайдем?
– Зачем?
– У меня же маски нет. И ласт.
– А у меня денег!
– Ясно, мамочка! – ответил я, вкладывая в последнее слово всю горечь обездоленного детства.
– Вот и хорошо, что ясно! После душа переоденься в чистое. Вас в лагере-то хоть мыли?
– Раз в неделю.
– Не заметно. Я тебе мыло детское купила, чтобы глаза не щипало. Дверь не захлопывай, поставь на «собачку».
– Рыба! – донеслось со двора.
– Хорошо вам, мужчинам! Никаких забот… – упрекнула меня Лида, хотя в домино стучал не я, а взрослые дядьки.
Вздохнув, она достала из выдвижного ящика красно-желтую коробку порошка «Новость» и, уперев таз с бельем в бок, ушла на Маленькую кухню. Не любит маман стирать, но особенно – гладить. А что поделаешь – супружеские обязанности!

Кстати, в последнее время я стал как-то стесняться слова «мама», а уж «мамочка» – и подавно. Даже в уме я их избегаю, тем более – вслух. Есть, есть в них какая-то сюсюкающая нарочитость, недостойная человека, перешедшего в седьмой класс. Терпеть не могу ровесников, которые чуть что благодарно бросаются предкам на шею со всякими там слюнявыми «папочка-мамочка»! Смотреть противно! Я тоже люблю родителей, но позориться-то зачем? Как-то по телеку показывали комедию «За двумя зайцами», там дочка постоянно повторяет: «Маман, маман, маман…» С тех пор я стал про себя звать Лиду – «маман». Конечно, если бы она узнала про это прозвище, то жутко бы обиделась, даже по лбу мне дала бы, как за вопрос о специальной парикмахерской. Но мысли, к счастью, бесшумны, как рыбки в аквариуме…