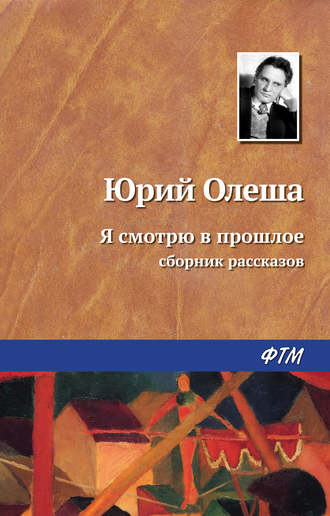
Юрий Олеша
Я смотрю в прошлое
Ты кладешь ладонь мне на голову.
– Читаешь?
И улыбаешься при этом так, точно хочешь кому-то подмигнуть: «Дося читает!»
И совершенно неинтересно тебе, что происходит в моем сознании, когда я читаю.
Тебе не так важно видеть путь, по которому я иду, как наблюдать мою походку, – зрелище это вызывает в тебе самодовольство, и мысль о каких-то никогда не совершенных тобою заслугах, и гордость, и почему-то смешливость, которая кажется мне дурацкой. Я не люблю читать у тебя на виду. Я убегаю.
Лето, синеют небеса, я сижу во дворе на ступеньке железной лестницы. Я читаю, книга лежит на коленях, во дворе пусто, все на дачах, воскресный день.
Вчера я порезал указательный палец стеклом. Порез был глубокий, меня водили в аптеку, заливали рану коллодием.
В аптеке было прохладно, темно, и вместе с тем именно в аптеке больше всего сказывалось, что сейчас – лето, как больше всего ощущается лето в спальне утром, когда открытие ставней начато и не завершено.
Меня посадили на деревянный диван, мама держала мою руку, кровь разливалась по всей ладони, отчего выступили и обозначились хиромантические линии. Коллодий мгновенно засох, стянув кожу и утвердив палец в полусогнутом состоянии; его забинтовали, обхватив кисть концами повязки и связав их на запястье маленьким бантом.
Повязка была ослепительно бела, она сделала руку тяжелой, самостоятельной и красивой. Затем я стал отрывать отдельные нити марли: они не отрывались – они нежно отъединялись, причем обнаруживалась решетчатость ткани; когда они падали на одежду, их никак нельзя было снять, и, нагибаясь за ними, мешала поврежденная рука, все время приподнятая, устремленная к пальцу, который в бинте своем, к концу дня разбухшем и расслоившемся, стал походить на горлышко бутылки с наливкой.
Я читаю, сидя на железной лестнице. Все уехали на дачу, у меня болячка на пальце, мне приятно оттого, что у меня болячка; я одинок, никто не обидел меня, но искусственными мерами – раздумыванием о болезненности раны и о том, что на даче сейчас веселятся, – я вызываю чувство обиды.
Оно появляется, и целый сонм спутников сопровождает его. И это веселые спутники, их лица смеются, и я тоже начинаю смеяться. Я смеюсь, удивляюсь тому, что грусть, и чувство обиды, и одиночество приятны и бодрящи.
Я владею секретом превращения грусти в бодрость. В любой момент я могу воспользоваться им. Но мне приятней грустить: я закрываю глаза, сладкая дрожь пронизывает меня. Я открываю глаза и среди синего неба вижу радугу, потому что на ресницах у меня слезы.
Я люблю читать, кривляясь перед самим собой. Я плачу, отлично сознавая веселость свою, я ставлю себя на место героя и хочу быть таким, как он.
Иногда он кажется мне недостижимым, а иногда я говорю себе, что не было в мире такой судьбы – ни действительной, ни вымышленной, – которую можно было бы сравнить с судьбой, предназначенной мне, что я лучше всех и жизнь моя будет замечательной.
Герой живет во Франции.
Я поднимаю взгляд. Передо мной кирпич и зелень, по кирпичу движется листва, – это моя Франция, сочетание кирпича и зелени! Вместе с героем идем мы под кирпичом и зеленью, в некоей Франции, стране моего будущего… Вот как я читаю, папа!
Мне кажется, что развитие мужской судьбы, мужского характера не в малой степени предопределяется тем, привязан ли был мальчик к отцу.
Быть может, можно разделить мужские характеры на две категории: одну составят те, которые слагались под влиянием сыновней любви, другую – те, которыми управляла жажда освобождения, тайная, несознаваемая жажда, внезапно во сне принимающая вид постыдного события, когда человека обнажают и разглядывают обнаженного.
Так возникает мысль о бегстве, о дороге, о сладости быть униженным, о вознаграждении жалостью, о войне, о солдате, о безрукости.
Так образуются ночи, когда мальчик думает о том, что он подкидыш.
Так начинаются поиски: отца, родины, профессии, талисмана, который может оказаться славой или властью.
Так создается одиночество – навсегда, одинокая судьба, удел человеку оставаться одиноким везде и во всем. Его называют мечтателем, над ним смеются; он допускает это, он и сам смеется с другими, – и люди объясняют это тем, что он ничтожен, угодлив, он идет одиноко, втянув в плечи голову, в которой тщеславие, высокомерие, самоунижение, презрение к людям, сменяющееся умилением, мысли о смерти образуют никогда не утихающую бурю.
Она не вырывается за пределы этого болезненного черепа, человек укрощает ее, втягивая голову в плечи, и только иногда он оборачивается вслед засмеявшимся, и засмеявшийся видит тогда, что на лице, которое его всегда смешило, сверкает собачий оскал.
1929
Мой знакомый
Многое зависит от квартирных условий. Скажем, если бы в квартире, где я живу, была ванна, душ, я принимал бы каждое утро душ. Душ можно было бы принимать и перед отходом ко сну.
У меня есть спокойный, жизнерадостный знакомый.
Он говорит замечательные вещи о проживании в квартире с ванной и душем. У него имеется специальный халат, бог весть откуда пришедший к нему, – заграничный купальный халат.
Приняв ванну, жизнерадостный знакомый надевает халат и направляется… куда он направляется, в точности не представляю. Возможно, просматривать иностранный журнал, возможно – любить молодую жену.
Я вижу его входящим в комнату, где от паркета исходит соломенное сияние; халат – длинен и художественно неуклюж, как риза; над полом раскачиваются кисти.
Что же, это правильно: надо жить так, вот именно так… Надо любить себя, воспитывать вкус к жизни, а главное, не торопиться, не суетиться.
Жизнерадостный знакомый говорит:
– Мы оторваны от Европы. В Европе установлен культ спорта, гигиены и комфорта. На этой триаде покоится здоровье, уравновешенное и победоносное сознание современного европейца.
Он молод, ему двадцать пять лет. Он служит, состоит в профсоюзе и числится на военном учете.
Размышляя о нем, я раздражаюсь. Размышляя о своем раздражении, я раздражаюсь еще более, потому что явственно обнаруживаю в природе этого раздражения зависть.
«Он прав, – думаю я. – И не прав я, восставая против комфорта, спорта и гигиены. И не прав я, думая, что он ничтожен и глуп, потому что моется, приобретает халат и играет в теннис».
Я никогда не умел наслаждаться жизнью.
Мне тридцать лет.
В литературе о тридцатилетнем герое говорится так: «Он был молод, ему едва исполнилось тридцать лет». Едва! Правда, в «Войне и мире» Андрей Болконский на тридцать первом году жизни вдруг почувствовал себя старым и решил, что жизнь прошла. Но он же через несколько страниц воскликнул – это в тридцать один год: еще не прошла жизнь!
Я чувствую себя старым. Не знаю, когда оно наступило, это постарение. И может быть, оно не наступило вовсе; быть может, сознание постарения ошибочно; быть может, виной всему квартирные условия, отсутствие ванны и душа и утр, сияющих соломенным блеском!
Я думаю так: мы, тридцатилетние – целое поколение тридцатилетних, так называемых интеллигентов, – мы слишком скоро постарели.
Почему?
Революция произошла в тот год, когда мы получали аттестаты зрелости. Большинство из нас думало: вот мы кончаем гимназию, вот цветут акации в гимназическом саду, лепестки ложатся на подоконники, на страницы, в сгиб локтя, – вот весна нашей жизни! О, какими замечательными мы будем людьми!
Так думали мы.
У нас были отцы, дедушки, дяди, старшие братья.
Это была галерея примеров.
Нас с детской вели по этому коридору, повертывая наши головы то в одну, то в другую сторону. В этом коридоре слова произносились шепотом, шепотом назывались имена дядь и двоюродных братьев.
Это были инженеры и директоры банков, адвокаты и председатели правлений, домовладельцы и доктора. Это были бороды, расчесанные надвое, – обязательно бороды: пенящиеся, а также длинные, как мечи, и короткие – котлетообразные.
И часто в тени бороды, как дриада в лесу, ютился орден. Руки были скрещены на груди, что говорило об исполненных задачах, и головы несколько откинуты, чтобы виден был блеск честных лбов.
Каждый из нас, семнадцатилетних, должен был стать инженером, адвокатом; у нас должны были вырасти бороды.
Все было известно: были известны магазины, где покупается сукно для студенческих мундиров, и рестораны, подходящие для выпускных пирушек.
Было известно, какой подарок получает сын после окончания гимназии, какое благословение присылает главный родственник, – и всегда находился сбившийся с пути талантливый дядя, который присоединялся к торжеству племянника, вел его в публичный дом, пировал, веселился и плакал, вспоминая на живом примере свою растраченную молодость.
У каждого из нас имелся такой дядя. Считалось, что у такого дяди – золотое сердце. Его погубила женщина… нет, не женщина! Игра в карты? Нет! Неизвестно, что погубило золотосердного дядю. Братья отвернулись от него. Он был предосудителен, но семья немножечко им кокетничала.
При воспоминании о нем говорилось: каждый кузнец своего счастья. Дядя не сковал своего счастья.
Все было известно.
В семнадцать лет оканчивали гимназию, пять лет полагалось на университет, к тридцати годам уже сказывались первые результаты ковки счастья. В тридцать лет начиналось положение в обществе.
Разве большинство из нас предполагало, что порядок изменится?
Он изменился.
Мы собрались ковать свое счастье, а материал, из которого мы должны были его ковать, уничтожился.
Главным в этом материале было стремление к независимости. Независимость достигалась обогащением.
Нас учили: учись, будешь богатым. Деньги дают свободу.
Мальчик, росший в нищей семье, талантливый сын бедных родителей, в лишениях находил даже радость.
Применялось так называемое стискивание зубов. Это было приятно и почетно – стискивать зубы. И это бывало началом многих великих биографий.
Юноша стискивал зубы. Это значило: ничего, ничего, подождем, я беден, но я добьюсь, но я заставлю, мы посчитаемся…
И он добивался. Он учился, опережал сверстников, вступал в общество победителем, был богат и славен.
С революцией стискивание зубов стало бесполезным. Одинокий путь нищего, обретающего богатство и признание, разом оборвался.
Буржуазия принимала в свой круг разбогатевших нищих и прощала им мстительную их заносчивость и кокетничала ими и даже кичилась.
После революции запальчивому нищему стало некуда идти. Гадкие утята перестали превращаться в лебедей.
Кузнецы своего счастья остались с молотами в руках и без материала. Широко размахнувшийся молот – и не по чему бить.
Так некоторые стали авантюристами и лжецами. Так большинство повисло в воздухе.
Мы знали, как начинается самостоятельная жизнь члена общества, как она развивается, как достигает расцвета и как переходит в галерею примеров.
Мы усвоили закономерность и чередование сроков.
Была логика брака, отцовства, семейственности, долга, совести; были твердо установленные нормы: боязнь крови, хвала великодушию, прощению, оправдание компромиссам, цена девственности.
Был образец человека. Это был отец кого-нибудь из нас, дядя, дедушка, знакомый директор гимназии.
Он произносил слова: невеста, жених, жизнь, душа, награда. Мы не только слышали их – мы их видели! Они распускали лучи, их можно было нести в руках, как хрустальные сахарницы. Они жили – эти слова, – как природа, как деревья, образовывали ландшафт, возвышенный и печальный, как встреча или расставание с родиной.
И все это оказалось ложью.
И все это исчезло, испарилось, развеялось по ветру. И не успели разлететься последние листья, как мы уже прошли по ним без всякого сожаления.
Нам много говорили о справедливости. Нам говорили о том, что бедность – добродетель, что заплатанное платье прекрасно. Эти слова волновали нас, и мы давали обещание быть добрыми.
В один год все полетело к черту. Не все заплатанные платья оказались прекрасными, и не всякая бедность – добродетелью. Справедливостью стало только то, что полезно угнетенному классу.
О, какими серьезными, умными, какими взрослыми должны были бы мы оказаться в тот год, мы, семнадцатилетние юнцы, уважавшие старость, авторитет и знатность.
И вот теперь нам тридцать лет.
Прошлого у нас нет.
Настоящее наше – мысль. Мы думаем, мы мучительно думаем, мы хотим быть мудрыми.
Мы хотим все наши понятия о добродетелях подвергнуть переработке ради того вывода о справедливости, который стал для нас единственно важным в тот год, когда произошла революция.
Мы гораздо умнее и лучше, чем наши отцы.
Не надо упрекать нас в том, что мы не умеем устроить нашу жизнь. Мы часто неряшливы, у нас нет душей, мы нервны через меру, крикливы, задумчивы, рассеянны, и щеки у нас не всегда выбриты.
Мы прекрасно понимаем, что неврастеничность наша противна революционной молодежи, над нами смеются. Это делает нас еще более старыми.
Жизнерадостный мой знакомый в хороших отношениях с портным. Они советуются о покрое, долго советуются, устраивают встречи, – покрой должен быть самым последним, модным, – крик. Как в Европе.
Он говорит:
– Сейчас это уже не носят.
Где не носят? В Европе.
Он не был в Европе, но ему известно все.
– Сейчас это уже не танцуют.
Он все знает. (О, я просто завидую ему!)
Он островитянин среди нас. Расстояние, отделяющее его от европейских границ, – только лишь география. Это расстояние можно проехать. Так просто.
Я ненавижу моего жизнерадостного знакомого. Он тень того меня, которого уже нет. Я шел, я дошел до года, ставшего рубежом, – дошел и исчез. И вот меня нет такого, каким я был, когда подходил к рубежу. Я стал другим.
И вдруг я вижу: появилась тень! Моя тень существует самостоятельно, а я стал тенью. Меня считают тенью, я невесом и воздушен, я – отвлеченное понятие, а тень моя стала румяной, жизнерадостной и с презрением поглядывает на меня.
Откуда он появился, этот лебедь, никогда не бывший гадким утенком? Кто его воспитал? На что он рассчитывает? Неужели он твердо убежден, что расстояние между нами и Европой есть только географическое расстояние?
Я хочу быть неряшливым и небритым. Я подожду. Мне ничего не жаль.
У меня нет прошлого. Вместо прошлого революция дала мне ум. От меня ушли мелкие чувства, я стал абсолютно самостоятельным. Я еще побреюсь и приоденусь. Я еще буду наслаждаться жизнью.
Революция вернет мне молодость.
1929







