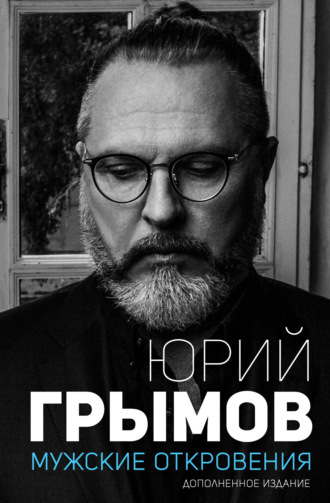
Юрий Грымов
Мужские откровения
Про борщ, женские прокладки и загадочную русскую душу
Занимаясь рекламой в тот период, когда ее почти не было, я еще не осознавал, какие мы счастливые люди. Снимая по наитию, радуя заказчика и зрителя и поднимая при этом продажи, мы радовались сами: мы занимались интересным делом, настоящим творчеством. Мы были близки к советскому кинематографу, питались его идеями. Слова «креатив» тогда еще просто не существовало. Вместо него было слово «сценарий». Не было «клипмейкеров», были режиссеры. До сих пор считаю, что такой профессии – клипмейкер – нет. Клипмейкеры – это те, кто работает на создании клипа. А это и режиссер, и сценарист, и костюмер, и водитель. Есть профессии режиссера, сценариста, актера, драматурга.
Выросшие на отечественном кино, мы, конечно, поглядывали на Запад. Нам тогда казалось, что совершенство – оно где-то там, далекое и труднодостижимое. Мы продолжали так думать, даже когда многие из нас завоевали признание на этом самом Западе и стали получать самые высокие награды профессиональных международных конкурсов. И вот, в России появился Procter & Gamble. Появился на фоне ощущения, что на рынок пришел мегазаказчик с гигантскими бюджетами и высочайшим уровнем качества. И, когда мне предложили поработать с этой компанией, я, конечно, согласился. Забегая вперед, скажу, что этот опыт был первым серьезным поводом задуматься над тем, чтобы из рекламы уйти.
В общем, знакомимся мы с американскими продюсерами, начинаем работать. Задача – снять ролик про стиральный порошок. Работа начинается с брифинга. Это было для меня ново – и само это слово, и такая схема, вообще. В комнате собираются человек десять-двенадцать. Сюжет – герой ролика пачкает рубашку на кухне. Предмет обсуждения – рубашка героя, которая должна быть испачкана, причем испачкана именно борщом. Borsch, Vodka, Balalayka – это было практически «за веру, царя и Отечество», в понимании наших зарубежных коллег.
Два часа (!) они рассказывали нам, что этот борщ должен быть настоящим, что он должен быть со свининой, а ни в коем случае не с говядиной или – Боже упаси! – с бараниной. Нам показали формулу – рецептуру этого идеального рекламного борща, с расписанным количеством ингредиентов. Мы кивали головами, делали вид, что что-то записываем, дружно не понимая, зачем так долго об этом говорить. Дальше нам предстояло решить, в каком месте должна была быть испачкана рубашка. Американцы попытались вовлечь в это обсуждение нас. Ну как же: обязательно нужно учитывать национальный менталитет. И тут перед всеми нами открылась бездна, которая разделяет сознание американца и русского.
– Где должна быть испачкана рубашка? Ну, на груди, естественно! Человек пробует борщ, капает себе на грудь. Если человек плотного телосложения – на живот. – Такую коллективную версию выдвинули мы, русские.
– Нет, – ответили нам американские продюсеры. – Наши исследования на двадцати фокус-группах, которые мы провели в Америке и потом проверили во многих других странах мира, показали, что в первую очередь пачкаются манжеты.
Пока они демонстрировали нам какие-то графики и диаграммы, я честно пытался представить себе – как надо готовить или как вести себя за столом, чтобы испачкать манжету. Не смог. Следующие два часа мы знакомились с результатами исследований и слушали лекцию про манжеты, обсуждали оптимальный диаметр пятна, его цвет. В какой-то момент я решил снова привнести в обсуждение рациональное зерно.
– Ребята, если мы с вами сейчас макнем белую сорочку в настоящий борщ, на экране пятна фактически не будет видно.
К тому времени я имел достаточный опыт практической работы, чтобы говорить об этом не теоретически.
– А когда мы включим свет во время съемки, оно вообще почти исчезнет. Пятно ваше будет бледное, – заявил я, чем привел продюсерскую группу в состояние легкой оторопи. На их лицах читался ужас от встречи со знаменитой русской непредсказуемостью и революционной тягой к ниспровержению основ.
Когда шок миновал, они согласились на эксперимент. Хотя делали они это, ломая себя: зачем все это нужно, если в брифе ясно написано – борщ со свининой?! Жаль, рабочий день к этому моменту уже закончился. На следующий день наш брифинг продолжился. В офис привезли несколько кастрюль с борщами, сваренными в разных местах, – для чистоты эксперимента. Соответственно, куплены несколько белых рубашек. Начали. Макаем манжету одной рубашки в первую кастрюлю, подсушиваем, вешаем, освещаем – не видать пятна, ни на камере, ни на мониторе! Макаем следующую – то же самое, еле видно. Рубашки все грязные, а результата нет.
Через час к нам в офис начинают заглядывать соседи, сотрудники других компаний:
– Это так теперь пахнет самое крутое рекламное агентство России?
– Именно так и пахнет: борщом! Борщ плюс «Проктер энд Гэмбл» – формула успеха! – отбрыкивались мы.
– А что вы вообще тут делаете?
– Рубашки в борщ окунаем.
– Э-э-э… Что?
– Рубашки. В борщ. Позже приходите – накормим. Борщом, не рубашками.
Продолжаем изыскания. Результата ноль. Американцы начинают прятать глаза.
– Хорошо, – говорю. – Давайте так: я сейчас уйду и через десять минут принесу вам настоящее пятно. Окей?
– Окей, – устало-обреченно отвечают мне эти ребята.
Я взял единственную оставшуюся чистой рубашку, взял своего художника-бутафора, мы ушли в другую комнату и там красками нарисовали на манжете пятно – настоящее, убедительное, жирное пятно, с капельками и подтеками: художник-то был профессионал, работать умел.
Вернулся, показал. Первое, о чем меня спросили:
– Юрий, а что за борщ вы использовали? В чем секрет? Не зря вас называют лучшим в профессии: идеальное пятно!
Не удержался я, дал волю фантазии:
– Отправил человека в «Метрополь». Только там в Москве готовят настоящий русский борщ.
– О-о-о…
– Пойдет? Снимаем?
– Снимаем! Yes! Yes! Yes!.. Thank you, my friend!
В обеденный перерыв офис нашего рекламного агентства выглядел и пах как заводская столовая, с той лишь разницей, что народ был одет помоднее, да меню состояло из одного блюда – Borsch. Зато кормили бесплатно. Понятное дело, людей из соседних контор набилось прилично.
– А вы только с борщом работаете?
– Ну да. Нужно типичное русское блюдо.
– Тю! А шашлык? А оливье?! А макароны по-флотски? Это ж самое наше, родное!..
В общем, борщ был съеден весь.
С пятном кое-как разобрались – вскоре новая напасть: подбор актеров. В этот момент я узнаю, что Раиса Рязанова, замечательная советская актриса, сыгравшая Антонину в «Москва слезам не верит», сидит без работы и подрабатывает извозом. Мы не были знакомы, но эта история на меня сильно подействовала: Москва, конечно, слезам не верит, но когда лауреат Государственной премии «бомбит» на своей машине на столичных улицах – это стыд и срам. Я позвонил ей, говорю: «Рая, есть возможность заработать двести долларов за два часа». Она с радостью согласилась, приехала на кастинг. Еще несколько дней ушло на то, чтобы фотографии отобранных актеров отправили в штаб-квартиру компании в Америку. В результате ее утвердили, и роль Эммы Петровны в рекламе стирального порошка исполнила заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии СССР.
К этому моменту я уже настроился однозначно: чем бы дитя ни тешилось – лишь бы не плакало. Мы внимательно выслушивали очередные рекомендации американцев и делали все, чтобы только поскорее развязаться с этим цирком. Дитя было довольно. Мне, правда, было жаль огромного количества времени, потраченного на не самую сложную задачу. Но, надо признать, все эти бесконечные брифинги, совещания и эксперименты с борщом и пр. оплачивались, так что жаловаться не на что. Хотя надо понимать, что за всю эту дурь платит, в конечном счете, потребитель. И понятно, почему стиральный порошок так дорого стоит: в его цену заложена оплата «труда» немалого количества дармоедов в дорогих костюмах.
По контракту я должен был еще снять рекламу женских прокладок. По сценарию это была серия роликов, в которых на среднем плане на фоне каких-то березок сидели девушки, которые что-то говорили о своих «трудных днях». Вроде бы – тьфу, раз плюнуть: посадили девчонок, сняли, ушли. Конечно, все оказалось гораздо сложнее.
Снова на сцену вышли американские маркетологи со своими фокус-группами, тестами и соцопросами. Снова пошли многочасовые совещания-брифинги. Но у нас уже был какой-то опыт – мы сумели сократить всю эту говорильню примерно вполовину. Как бы то ни было, продюсеры решили отобрать по всей стране восемьдесят молодых женщин самых разных профессий и «социального происхождения» – учителей, бухгалтеров, швей-мотористок и т. д. Главные условия – хорошие зубы и хороший цвет лица, в общем, подходящая для съемок внешность. Нашли, утвердили. Из этих восьмидесяти надо было выбрать шестнадцать «финалисток». Этих шестнадцать женщин привозят в Москву и селят в гостиницу «Балчуг». Хорошее питание, тренажерный зал, массаж и прочие атрибуты, и на этом фоне – каждодневные беседы с психологом о «критических днях». В течение двух недель. Две недели эти простые женщины, выросшие в Советском Союзе, жили в настоящей капиталистической сказке. Как сложилась их судьба, когда они вернулись в свои Пензы и Саратовы, никто не знает. Но что-то мне подсказывает, что их жизнь разделилась на две части: до и после съемок в рекламе прокладок.
Когда эти две недели подошли к концу, мы должны были всех их привезти на «Мосфильм». Причем это надо было сделать на машинах бизнес-класса и так, чтобы сами женщины не поняли, что их привезли на киностудию. Это были настоящие шпионские игры. Мы полчаса возили их по Москве, чтобы окончательно запутать, а потом потихоньку заехали на территорию «Мосфильма» и провели в павильон. Там были сделаны декорации, которые в точности воспроизводили обстановку помещения, где предыдущие две недели проходили их собеседования с психологом. Наши подопечные ни в коем случае не должны были почувствовать себя некомфортно – не дай Бог. И здесь, в павильоне, с ними снова беседовала психолог. Только теперь, когда они привыкли к этим странным разговорам, это все снималось на скрытую камеру. И вся цель этих колоссальных усилий состояла в том, чтобы камера зафиксировала тот момент, когда кто-то из этих женщин в разговоре случайно что-то скажет про свои «трудные дни». Таким способом американские продюсеры рассчитывали получить «достоверные эмоции».
Наверное, никто не удивится, если я скажу, что это ожидание эмоций длилось несколько месяцев. Ну понятно же: ни одна советская женщина (а все это были советские женщины: прошло всего несколько лет после падения СССР) по своей воле не станет разглагольствовать на темы, касающиеся интимных вопросов. Продюсерам никак не удавалось получить нужный результат. Что идет не так, они понять не могли: загадочная русская душа снова проявляла себя во всей непонятной и пугающей красе.
Я снова попробовал положить конец этому безумию: «Ребята, – говорю, – давайте я возьму профессиональную актрису, мы напишем ей текст, от жизненности и достоверности которого все женское население страны будет рыдать у экранов, и ваши прокладки купят все, даже те, кому это не нужно».
Тут, однако, нашла коса на камень. «Нет, – сказали продюсеры, – нужны настоящие женщины. Эффективность этого метода доказана исследованиями». Я плюнул, доснял все, что требовалось по контракту, и распрощался с этими людьми.
Для меня именно появление американских продюсеров и маркетологов стало тем переломным моментом, который положил конец настоящей рекламе в России. То, что исповедовали мы до того момента, – это была идея игры с потребителем, игры, которая побуждала бы его обратить внимание на нас и на наш продукт. Простое убеждение зрителя в том, что наш товар лучший, – это казалось настолько примитивным, что даже не рассматривалось в качестве варианта сценария.
Но довольно скоро стало понятно, что ситуация начала меняться, и не в лучшую сторону. Особенно явственно я ощутил этот разворот во время предвыборной кампании Ельцина в 1996 году. Там я поработал и как режиссер, и как сценарист, был тем, кого сегодня назвали бы креативным директором. У нас уже были целые полки уставлены международными призами, но все равно все с придыханием говорили: «А вот у них…» и считали, что мы – свиное рыло, а они – калашный ряд. В общем, «Знакомство с иностранцем – повышение в чине», – как гласит народная поговорка. Наша работа становилась все более «американской»: редкий день не начинался с очередного брифинга в предвыборном штабе, а имя Огилви проскальзывало в разговорах едва ли не чаще, чем имя самого нашего заказчика – Бориса Николаевича Ельцина. И вот, на одном из совещаний кто-то из участников (хорошо, что уже не помню – кто именно) всерьез выступил с такой идеей:
– А давайте сделаем рекламные плакаты в виде автомобильных номеров, на которых вместо обычных цифр и букв будет текст «ЕБН 96» – ну, типа «Ельцин Борис Николаевич, выборы 1996 года»?
Я поперхнулся чаем. Между тем, пока я откашливался и вытирал рот, вокруг этого предложения развернулась нешуточная дискуссия. Люди с самым серьезным выражением лица принялись обсуждать перспективы этого рекламного хода.
– Ну а что? На грани, конечно, но люди поймут…
– Поймут, сто процентов. Его ж так и называют: «Ебээн».
– Ребята, вы что, совсем обалдели? – я, конечно, в тот эмоциональный момент прибег к куда более экспрессивным выражениям, которыми сегодня пользоваться в общественном пространстве запрещено, а жаль. – Ну какой, к свиньям, «Ебээн»? Вы и получите тогда на выходе «ебээн»!.. Вся страна этим «ебээном» накроется!
Тогда мне удалось переубедить этих «креативщиков». Но стало понятно, что дальше лучше не будет.
И что же в результате? Сколько прошло времени с 90-х годов? Тридцать лет? Сколько денег было угрохано на рекламу за это время? Миллиарды? Сколько книг написано, может, даже диссертаций защищено. Так вот, для меня чертой, которая подводит итог всему этому пафосному процессу, символом того, к чему мы пришли в результате тридцати лет создания «креатива», служит главная рекламная витрина современной России – Рублево-Успенское шоссе, Рублевка. Самый дорогой район Подмосковья, необыкновенные красоты вокруг, уже почти повсюду – следы больших денег, ухоженность и «особенность». Рекламные билборды: «Элитная недвижимость, дорого!», «Новая коллекция часов Patek Phillippe», «Эксклюзивные модели автомобилей класса люкс», «Уникальная лакшери-вечеринка», «Дорого!», «Еще дороже!» Но вдруг – тут же, рядом, на огромном полотне, тем же самым «эксклюзивным» шрифтом: «Бетон. Дешево!»
Можно потратить годы, изучая механизмы воздействия рекламы на людей. Можно написать тома по истории и теории рекламы. Можно, как я, постичь все на практике и стать членом Российской академии рекламы. А можно зазубрить каноны американского маркетинга, удобрить их отечественной традицией освоения бюджетов и – все: победил дешевый бетон. Причем он победил не только в рекламе – в кино, на ТВ, в политике.
А борщ по рецепту американских маркетологов я потом как-то приготовил, ради интереса. Ну, что сказать – обманули их с рецептом. Видимо, за большие деньги обманули.
Помятый кубок
Долгое время я верил, что награды что-то дают, что это неотъемлемая часть успеха и, вообще, творческой деятельности. Со временем у меня сложилось уже другое понимание того, чем можно измерять успех. Сегодня у меня несколько десятков разных наград, и, скажу честно, я не помню, какая из них была первой. Но с этим – с ожиданиями наград, желанием их получить, борьбой за них – была связана масса иллюзий, впечатлений, ошибок.
Как-то на очередном международном конкурсе рекламы мой рекламный ролик занял второе место. Меня пригласили для получения награды в Англию. Я прилетел в Лондон, приехал по указанному адресу, в большой, красивый, старинный дом в пригороде. На лужайке возле дома собралась почтенная публика, играла музыка – все было очень достойно и красиво. В то время, в начале девяностых, я еще не так далеко ушел от моды и старался следить за своим внешним видом, но не был готов к тому, что мой облик произведет такое впечатление на собравшихся. Ко мне периодически подходили знакомиться англичане, американцы, голландцы, и каждый второй задавал мне один и тот же вопрос: «А вы правда русский?» Многие буквально трогали пальцем, чтобы удостовериться, что я настоящий. Они никак не могли поверить, что в природе существуют русские без шапки-ушанки, балалайки и прочих национальных атрибутов.
После коктейля началась церемония. Объявили мое имя, сказали, что меня удостоили серебряной награды конкурса. Я вышел на сцену, мне пожали руку – и все. Мне ничего не вручили. А я готовился именно к этому: получить диплом, какой-то приз – статуэтку, кубок, тарелку, что-то такое. А тут – ничего. По пути в отель я осознаю всю катастрофичность происходящего: на родине я ничем не смогу подтвердить факт награждения. «Без бумажки ты букашка». И у меня нет бумажки, нет даже самого завалящего диплома! Я не смогу ничего сказать журналистам, мне нечем порадовать коллег. Спасение оказалось близко: рядом с гостиницей, где я жил, был спортивный магазин. Недолго думая, я иду туда и покупаю себе кубок. Поискал среди наград для победителей соревнований по единоборствам – чтобы была какая-нибудь фигурка. Нашел что-то подходящее – кажется, это был кубок для чемпионов по карате, такая серебряная фигурка человека в странной позе. Никаких ненужных надписей, символов – подходит! Купил.
По возвращении в Москву я понял, что мой вариант решения проблемы шел вразрез с тем планом, который был припасен для меня у мироздания. Кубок оказался сильно помят. Не пережил перелета. Мое малодушие продолжало душить меня: я попытался было выправить вмятины, но безуспешно. Хорошо, через пару дней из Лондона пришла посылка с настоящим дипломом – огромным, роскошно оформленным, в красивой позолоченной рамке. Помятый кубок до сих пор стоит у меня в кабинете. Как памятник трусости.
В 2007 году я пришел на церемонию вручения премии «Ника». Незадолго до этого на НТВ вышел «Казус Кукоцкого». Идет награждение, никаких сюрпризов: на сцену поднимаются заслуженные люди, публика вежливо хлопает – все чинно-благородно. И вдруг в этом плавном течении образуется водоворот: со сцены звучит моя фамилия, и объявляют, что мне вручается премия «Ника», и не простая, а «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа». Потом я узнал, что это решение состоялось только потому, что оно не зависело от членов академии. Тогда бы мне не светило ничего, точно; я хорошо знаю, как голосуют наши киноакадемики. Решение наградить меня принимали члены Попечительского совета «Ники» – Рязанов, Абдрашитов, Баталов, люди, которые могли себе позволить собственное мнение.
Это была полная неожиданность для меня. Я волновался, когда шел на сцену. Конечно, мне было очень приятно. Тем более что «Казус Кукоцкого» дался мне очень непросто. Я выхожу на сцену и в порыве эмоций решаю поделиться историей, которая, как мне тогда казалось, должна тронуть сердца сидящих в зале.
– Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья и коллеги! Мне вдвойне, втройне приятно сегодня получить эту премию. Двадцать лет назад, когда ее вручали в первый раз, я имел к этому событию некоторое отношение: тогда первую статуэтку «Ники» на эту сцену вынес замечательный актер Александр Балуев, а вслед за ним – ваш покорный слуга. Тогда в церемонии принимали участие манекенщики Славы Зайцева, которые помогали при награждении, выносили статуэтки. Так вот, одним из тех манекенщиков двадцать лет назад был я.
Момент был для меня очень яркий. Перевожу дух:
– Я помню, как я держал на вытянутой руке эту тяжелую статуэтку, помню, как меня потряхивало от волнения, как я смотрел на актеров и режиссеров, смотрел в зал, – и вот, ровно двадцать лет спустя происходит то же самое. С той лишь разницей, что сегодня «Нику» получаю я сам. Я снова взволнован до мурашек и глубоко тронут.
Смотрю в зал. И вижу, что там, в зале, не происходит ничего. Никто не хлопает. Никто не улыбается. Полная тишина. Несколько сотен человек просто молча смотрят на меня. Я произнес слова – они смотрят. Эту страшную паузу я запомнил на всю жизнь. Эта тишина в ответ на мою искренность стала одним из самых тяжелых моментов в жизни. Но еще и моментом, который показал мне истинную ценность профессиональных наград, званий, официального признания и тому подобных внешних атрибутов успеха.
Были и другие примеры, слава Богу. Одна из наград, которыми я до сих пор горжусь, – это награда Департамента ООН по борьбе со СПИДом. Тогда я видел, что киноискусство даже в виде коротких роликов, тех самых, которые потом назвали социальной рекламой, способно довольно сильно воздействовать на людей. Что, показанные по ТВ, такие ролики могут очень мощно влиять на сознание. Ведь телевидение тогда было еще актуальным, оно было живым и интересным, разнообразным и острым, – его еще смотрели.
Вообще, я понял, что настоящие творческие идеи приходят только тогда, когда ты занят правильным (не скажу «праведным»: слишком громко) делом, когда ты идешь по пути созидания чего-то хорошего. Так, например, родился у меня ролик против курения, наверное, самый популярный и известный не только у нас, но и за рубежом. Идея пепельницы, в которой лежат люди-«окурки», пришла мне в голову буквально на ходу. Когда мы обсудили идею, мы отправились в бассейн по соседству (офис нашего рекламного агентства был в спорткомплексе «Олимпийский») и «наловили» плавающих там студентов, предложив им сняться в нашей социальной рекламе. Львиная доля времени ушла на придумывание композиции – поз, в которых лежали наши герои в пепельнице. Камера «отлетала», в тишине звучало придуманное мной «Закуривай». Все. Полдня работы. Этот ролик потом получил кучу призов на разных конкурсах.
Так получилось, что, первым занявшись социальной рекламой, я так же первым и отказался от нее. Довольно быстро стало понятно, что в этом деле оказалось намешано много разного, социальная реклама часто становилась орудием манипуляции в руках политиков. Стало очевидным: нельзя снять три ролика и решить проблему. Эффект возможен, только если на достижение цели направлены все силы государства и общества. И социальная реклама, просветительские проекты и тому подобные вещи хороши только тогда, когда решены или хотя бы решаются более важные, базовые вещи, связанные с соцзащитой – вроде строительства больниц, поликлиник, домов культуры, библиотек, стадионов, бассейнов, пансионатов для стариков, санаториев и пр. Когда стало ясно, что ничего этого не делается и даже не планируется – чего стоит все наше творчество?
Поворотным моментом для меня стала история с роликом, посвященным гемофилии у детей. Мы решили напомнить, рассказать, что есть люди, страдающие от этой страшной болезни. Но мне как режиссеру показалось, что просто рассказать об этом недостаточно. Я решил найти какой-нибудь интернат, где занимались бы такими детьми, чтобы мы могли в конце ролика дать его координаты и пригласить людей помочь. Мы взяли «Желтые страницы», нашли там одно такое заведение, дали в конце адрес интерната, и ролик благополучно пошел в эфир.
Через месяц примерно секретарь мне говорит:
– Юрий Вячеславович, вам звонят из интерната, того самого, который в ролике упомянули.
Беру трубку в полной уверенности, что сейчас услышу слова благодарности: все-таки телевизионная реклама – мощная штука. В трубке слышу срывающийся женский голос. Это директор интерната, и она плачет.
– Юрий, я вас очень прошу, пожалуйста, уберите ролик из эфира, – всхлипывает она.
– Господи, что такое, что случилось?
– Пожалуйста, уберите.
Немного успокоившись, женщина рассказала мне, что произошло. Когда ролик пошел в эфир, на счет интерната стали поступать деньги. С каждым днем все больше денег. Они смогли купить кровати, телевизоры, книги, игрушки, игровую приставку. А потом одна за другой в интернат стали приезжать проверки и инспекции всех видов, какие только можно себе представить, – пожарные, милицейские, налоговые, санэпидстанция, еще кто-то.
– Нам перекрыли все, – рассказала она. – Нас заподозрили в отмывании денег, в коррупции, начался какой-то ад. И теперь мы просто не можем выполнять свою обычную работу, мы полностью парализованы! Спасибо вам, конечно, но уберите, Бога ради, этот ролик.
Ролик убрали. Из социальной рекламы я ушел.


