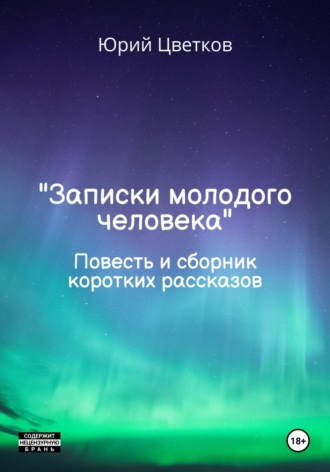
Юрий Цветков
Записки молодого человека. Повесть и сборник коротких рассказов
7
Кроме друга у меня была еще и любимая учительница. Но эта любовь была уже безответной.
Отроду ей было лет двадцать пять, преподавала она математику, была очень энергична и красива какой-то особой энергической красотой, умна и предмет свой любила самозабвенно. Вообще, я встречал несколько типов учителей: одни и сами ничего не знают и ученики у них не знают ничего; другие сами знают, но ученики у них не знают ничего; знал я одного чудака, который в учителя попал случайно, в силу обстоятельств и о предмете своем имел довольно смутное представление, но умел сделать так, что мы у него знали этот предмет великолепно. Эта же учительница и сама знала превосходно (ее после института оставляли в аспирантуре, но она по молодости и горячности своей не осталась, а пошла – на наше счастье – сначала в школу), и мы у нее знали предмет без всяких учебников. У нее был преподавательский талант, которого не было у самых опытных учителей. Она умела объяснять так, что даже самым тупым все становилось ясно с первого раза. Но главное – она заразила нас своей неистовой любовью к математике.
А еще она была очень своенравна, знала это, нисколько не скрывала и немного даже бравировала этим. Все у нее зависело от настроений. Вот она стремительно летит по коридору так, что полы ее красной, расстегнутой кофточки развеваются по ветру, влетает в класс, с размаху шлепает классный журнал о стол, окидывает глазами весь класс, и класс замер, пытаясь по выражению ее лица и глаз определить, в каком она сегодня настроении. Правда, большей частью, она бывала в великолепном, брызжущем энергией настроении, сходу встряхивала весь класс, задавала ему такую работу, что ни одному даже самому отчаянному лентяю и в голову не приходило не то что заняться, но и подумать о чем-нибудь постороннем. В такие дни она была с нами очень дружелюбна и ласкова, называла нас «ребятки». Плохих настроений у нее не бывало, бывали грозные. Иногда она влетала в класс чернее тучи, и класс трепетал, предчувствуя, что им придется пережить кошмарный урок, и не все надеялись выжить. Иногда же настроение у нее менялось прямо на уроке, и чаще всего это бывало от не выученного кем-нибудь урока. Тогда она приходила в расстройство или давала волю гневу. Иногда это ее негодование было искренним, иногда она кокетничала своей одержимостью. Но нужно было видеть ее в те минуты, когда она как разъяренная молодая тигрица металась по классу, останавливалась то у одного, то у другого ученика, поднимала их с места и заставляла отвечать то, что не сказал отвечавший у доски. От парт она кидалась к столу чтобы влепить в журнал жирную двойку (она их ставила огромными, размашистыми в две – три графы ростом, так что потом сама не могла разобрать, кому эта двойка была поставлена), тонкие ноздри ее при этом хищно раздувались и напрягались, с шумом втягивая воздух, потом она снова бежала к очередной жертве. Иногда же, выслушав два – три не понравившихся ей ответа, она подавленно сидела за столом, одной рукой подперев высокий, чистый лоб, другую руку безвольно опустив на колени, и молчала. Тогда нам было жалко ее и стыдно за себя.
Да, она была грозой для нас. Какие проклятия сыпались за глаза в ее адрес, но в тайне все ее любили, или, может быть, мне только так казалось, потому что я любил ее всеми силами своей души.
Замечательные способности ее не остались незамеченными, и года через два она стала завучем, а вскоре и директором нашей школы. Боже, какая перемена произошла с нею. На урок она уже не летала по коридору, как прежде, а медленно и важно шествовала. Она вообще больше не бегала, разве иногда, увлекшись, забудется в классе и побегает между рядами парт или у доски, объясняя что-нибудь, но прозвенит звонок, и опять перед нами солидный директор, а не девчонка. Мы все посмеивались над нею, но прощали ей эту слабость: еще бы, в ее возрасте стать директором школы! В первое время от нее нередко можно было слышать серьезно сказанное: «Это я тебе поручаю, как директор…». И как бы ни смешно нам было все это, но, разговаривая с нею, мы старались придать лицу и голосу больше почтительности, чем раньше, чтобы и в наших глазах она читала, что она теперь директор – мы из солидарности молодых сочувствовали ее успеху и хотели дать ей возможность полностью насладиться им.
Но была она молода, горяча, мнения и суждения у нее были все свои, и только их она считала непреложными: опыта жизненного своего и опыта обращения с людьми у нее не было, а потому с учителями, попавшими под ее власть, она обходилась порой жестко. Требовала, чтобы учителя засиживались после уроков с отстающими или на внеклассной работе, часами держала их на педсоветах, до которых была большая охотница, наверное, хотя бы уже потому, что на них она сидела во главе стола и сразу было видно, что она здесь самая главная. У учителей были семьи, дети болели, она же была не замужем и вставала на дыбы, когда те пытались отказываться или отпрашиваться, ссылаясь на детей, семью. Работа в школе была налажена превосходно, но учителя стенали под ее игом.
Я знал все это, но все прощал ей и любил ее. Даже ее своенравие казалось мне проявлением той огромной жизненной силы, которая была в ней заключена. Именно эту жизненную силу, проявлявшуюся в ее энергичности, и в красоте, и в уме, и в своенравном характере, я любил в ней больше всего. Мне доставляло огромное удовольствие видеть ее энергическую, ладную фигурку, когда она бегает по классу, склоняется то возле одного, то возле другого ученика, нравилось смотреть и в ее ласково улыбающееся, красивое, чистое лицо и в рассерженное, покрывшееся гневным румянцем, нравилась ее одержимость математикой, нравилось все, что она делала, даже когда поступала несправедливо.
Она была очень пристрастна, заводила себе любимчиков и не стеснялась открыто баловать их, иногда умышленно бравируя своей пристрастностью. Что нравится, то и делаю, и никто мне не указ, было ее девизом. Она вообще была порядочная хвастунья – хвасталась собой. Мне кажется, она любила себя за то же, за что и я ее любил.
И конечно же, первым ее любимчиком стал мой друг, а я не стал. Но я этому не огорчался и даже заранее знал, что она меня не будет любить, и именно за то, за что я и сам себя недолюбливал. Мне кажется, я бы даже стал меньше ее любить и уважать, если бы она могла любить такого человека, как я. Настолько я сам себя не любил. А не огорчался я потому, что у меня уже выработался иммунитет к неприязни. И я считал, что люди правы по отношению ко мне, но уже не переживал по этому поводу, как раньше.
С моим другом мы шли вровень в математике, поэтому получалось что-то вроде соперничества за первенство и в математике, и за любовь учительницы. Впрочем, не за любовь, конечно. Раз и навсегда поняв невозможность ее любви ко мне, я и не искал этой любви, не добивался и даже не мечтал о ней, но я поступал так, как поступают все отчаявшиеся добиться взаимности влюбленные (или даже мужья) – я всякий раз добивался сиюминутных, разовых ласк. От этого невозможно удержаться, только это и остается им, только этим они и живут.
Но вся беда в том, что моя учительница не знала ничего об этом. Она полагала, что раз я ее люблю (чего она не могла не заметить), значит, естественно, претендую и на ее любовь ко мне. И это создавало некую напряженность в наших отношениях. Она невольно испытывала ко мне определенную враждебность из-за возможности моих притязаний. Ну не мог же я ей объяснить, что мне нужно от нее не любви, а всего лишь приласкать хоть иногда.
Наверное, она досадовала на меня и за то, что я стоял на пути ее симпатии к моему другу. Каждый раз, когда она склонялась над его партой и, ласково воркуя, начинала объяснять ему что-то в решении задачи, она уже знала, что если она поднимет голову, то поймает мой ревнивый, мрачноватый взгляд – я тоже претендовал на ласку. Ей становилось жаль меня, она выпрямлялась, голос ее становился громче, суше – она умеряла свою ласковость, чтобы я не так завидовал и не мучился, но, конечно же, ей было досадно, что вот из-за меня она не может побаловать своего любимца так, как хотела бы.
Надо отдать ей должное, она все же была добрая женщина и пыталась быть ласковой и со мной, но разница была очевидна: когда она говорила с ним, лицо ее светилось радостью жизни, когда она подходила ко мне и склонялась над моей партой, губы ее тоже улыбались приветливой улыбкой, и она произносила ласковые слова, но она как-то вся внутренне напрягалась (я всегда очень остро и болезненно чувствовал это), а в глазах мелькало такое выражение, какое бывает у человека, который старается, чтобы по его глазам не было видно, что он лжет. Это было невыносимо.
Иногда после долгих комплиментов в адрес моего друга по поводу какой-нибудь контрольной, она вдруг спохватывалась – ей начинало казаться, что она была жестока ко мне, и тут же начинала хвалить и меня, на ходу придумывая какую-нибудь явную чушь, но на середине запутывалась, не зная, чем закончить и за что бы такое меня еще похвалить, конфузилась, но потом принимала строгий вид – это очень ей удавалось – и, наконец, спасала нелепую похвалу силой своего непререкаемого авторитета – раз она так сказала, значит, так оно и есть.
Обычный порядок работы на ее уроках был таков: она задавала всему классу несколько задач из обычного задачника, а пяти – шести самым сильным своим ученикам давала отдельно на весь урок более сложную задачу на сообразительность. Именно сообразительность ценилась у нее наиболее высоко. Условие было такое, что первый решивший такую задачу получает пятерку в журнал. Но пятерка – не главное, главным была ее похвала – она всегда очень радовалась, если комму-то из нас все же удавалось решить очень трудную задачу. Благодаря этой радости, даже я получал, действительно, искренние похвалы и ласковый взгляд. Это был мой единственный шанс, поэтому не трудно представить, как я при этом старался.
Самыми сильными в группе сильнейших были я и мой друг, и практически борьба за первенство шла между нами. До сих пор помню я почти физически ощущаю лихорадку, охватывавшую меня на таких уроках: кусая ручку и костяшки пальцев, бьешься над геометрическим чертежом, пытаясь найти решение. Задача с секретом, нужно сообразить, в чем секрет, и не просто сообразить, а как можно быстрее, чтобы тебя не опередил соперник. Поэтому голова занята не столько задачей, сколько мыслями о скорости и о сопернике: как он там? Каждую секунду ждешь, что вот сейчас раздастся его торжествующий возглас: «решил!» Голова моя то и дело невольно поворачивается посмотреть, не тянется ли уже рука, возвещая о победе. Заставляешь себя не смотреть в ту сторону, но это невозможно. Наконец, только сосредоточишься на задаче, как и в самом деле слышишь: «решил!» затем похвалы… ты обмякаешь над чертежом, дальше решать не имеет смысла, ты сидишь облитый позором побежденного и стараешься не смотреть в сторону победителя. Впрочем, часто побеждал и я, во всяком случае, не реже, чем он. Но радость моя умалялась тем, что, как мне казалось, учительница болела не за меня, а за моего соперника, и ей было приятнее хвалить его, а не меня.
Но вот мой друг выдумал как-то новый способ порисоваться перед учительницей. Однажды, решив задачу первым, он не стал тянуть руку, а просто откинулся небрежно на спинку парты и сидел так с равнодушной миной, дожидаясь, когда учительница заметит это. Расчет оправдался – учительница, естественно, пришла в восторг и даже не столько от решенной задачи, сколько от того, что ее любимчик обнаружил такую широту натуры и равнодушие к награде за свою победу. «Ты что бездельничаешь?» – в обращении с ним она применяла фамильярно-ругательный тон, который никогда не применяла со мной. «А я решил,» – следовал небрежный ответ (они, вообще, очень подходили друг к другу по любви к пижонству и хвастовству – пожалуй, единственная черта, которая мне не очень нравилась в обоих моих любимцах). «Решил?! – она просияла – так что же ты молчишь?!.. Решил и молчит!» – она сказала это нарочито ворчливым, как будто недовольным тоном, но в голосе ее прозвучало столько восхищения и радости, что все это было куда более сладкой наградой, чем просто похвала и пятерка.
В следующий раз я первый решил задачу и тоже не стал тянуть руку, а откинулся на спинку парты и стал равнодушно смотреть в окно, несколько обеспокоенный однако тем, как бы какая-нибудь выскочка не подняла руку. Учительница заметила мою позу и все поняла. «Ты что, решил?» «Решил,» – сказал я скромно и сконфузился – я чувствовал, что небрежность не идет ко мне, я не владел ею. «Так что же ты молчишь?! Решил и сидит молчит!» – произнесла она ту же фразу, постаравшись вложить в нее те же интонации. Она поняла, что мне нужна не пятерка и не просто похвала, а похвала такая же, какую в прошлый раз получил мой друг.
Нередко фальшивость ее похвал вызывали во мне не только отчаяние, но и злобу. Я восставал против этих похвал, которых только что сам добивался. Обычно я – в отличие от моего друга, который развязно и самоуверенно улыбался на ее похвалы – выслушивал ее с серьезной миной, скромно потупив глаза в парту. Но когда я бунтовал, моим излюбленным приемом было выслушивать ее, вперив в ее глаза свой мрачноватый, немного исподлобья взгляд моих умных, откровенных глаз. Я пытался сказать ей этим взглядом, что я не нуждаюсь в ее милостынях, и что презираю их. Мою враждебность она видела, но сомневаюсь, что она понимала, что я хотел этим сказать. Может быть она принимала все это просто за строптивость и высокомерие, как и многие тогда.
Иногда на ее уроках во мне поднимался злобный бунт против соперничества, в которое нас втравливали. Я мрачно сидел над условиями задачи и твердил про себя, что нет, не буду решать, из принципа не буду. Когда мне удавалось скопить в груди достаточно уже злости, я выражал свой протест тем, что откидывался вызывающе на спинку парты и глядел в окно. Но учительница, чувствуя, что это серьезно, и что я сейчас отчаянный, делала вид, что не замечает моего поведения, хотя не заметить моей задранной головы среди единодушно склоненных усердием голов было невозможно. Она знала, что если заметит, примет мой вызов, то ей нужно будет ругаться со мной, а этого она избегала, она вообще почти не делала мне замечаний даже за явные проступки – наверное, боялась, что вместе со строгостью вырвется и ее неприязнь ко мне. Она с холодной корректностью обходила конфликты со мной, и слава Богу, потому что с первого же резкого замечания я мог закусить удила и совершить немало злобных поступков по отношению к ней. Зачем ей это было нужно?
Она немного боялась меня, часто я своим присутствием портил ей веселье: балуя при всем классе своего любимчика, она бывала очень фамильярна с ним, и, порой, разыгравшись, развеселившись, вела себя, как девчонка. Класс, радуясь ее хорошему, мирному настроению, подхалимски смеялся вместе с нею ее шуткам. И только я не видел ничего смешного в этом ее панибратстве, мне искренне было неудобно за нее. Чем солнечнее становилось ее настроение, тем мрачнее становилось мое лицо, и иногда она словно обожжется, натолкнувшись на мой угрюмый взгляд, и веселье оборвется. Я был взрослее ее, серьезнее. Она чувствовала это и испытывала безотчетное, может быть, чувство неловкости передо мной за свое ребячество. Она еще могла так резвиться и находить в этом удовольствие, я уже не мог. Мы вообще часто сталкивались, не встречались, а именно сталкивались с ней глазами на уроках, и она знала уже, что я очень внимательно наблюдаю за ней. Но далеко не всегда моральная победа была за мной – взгляд у меня никогда не был веселым. Бывало она в прекрасном своем настроении мечется энергически у доски, объясняя геометрический чертеж, и вдруг столкнется глазами со мной, задержит свой искрящийся улыбкой взгляд на моих неоправданно мрачных глазах и улыбнется так дружелюбно и насмешливо-ласково, как маленькому ребенку, который строит из себя буку. Мне становится неловки, досадно на себя, на свои вечно и некстати мрачные глаза, и я опускаю взгляд. Тут я, конечно, чувствовал себя ребенком, но бывали ситуации, при которых я чувствовал себя ее судьей, сидел в классе, словно инспектор из РОНО. Чуть она забылась, разыгралась, пошутила, вдруг вспомнила о моем присутствии, погаснет вся, снова сделается серьезной, строгой, скучной. А я иногда, будучи в оппозиционном настроении, нарочно «жег» ее своим взглядом – уставлюсь и не свожу целый урок, да еще стараюсь придать взгляду всякие выражения. Но иногда она переставала на меня реагировать и резвилась от души. Напрасно тогда я жег ее мрачным взглядом – она даже не смотрела в мою сторону, делая вид, что забыла о моем существовании.
Так мы и жили. Вначале в моем отношении к ней постоянно чередовались два мотива: то я в оппозиции, то снова тих, смирен и ищу ее расположения, ласки, похвалы хотя бы. Но постепенно отношения наши портились. Она стала меньше со мной церемониться, временами уже не скрывала своей неприязни, хотя по-прежнему все было в холодно-корректной форме. И вскоре между нами установилась постоянная стена отчуждения. Я совсем затосковал, нарочно ей не готовил домашние задания, на уроках вызывающе бездельничал, и все ловил момент, чтобы ввернуть ей какую-нибудь шпильку репликой с места, чтобы спровоцировать скандал. Но она совершенно игнорировала меня. Она словно предоставила мне полную свободу в моих действиях, словно вообще уже не желала иметь со мной никаких дел. Это было убийственно безысходно. Не знаю, чем бы дело кончилось, но она скоро ушла от нас в аспирантуру, а при встрече на улице перестала меня узнавать – наверное, я стал самым неприятным воспоминанием ее такой триумфальной во всем остальном школьной жизни. Одноклассники потом долго ходили к ней домой навещать. Я никогда не ходил.
8
Как ни недолюбливали меня одноклассники за мое усердие и пятерки, но к десятому классу они все-таки прониклись ко мне определенного рода уважением. Все дело было в том, что год был выпускной, все засуетились готовиться к поступлению в институт. Вот тут-то и оказалось, что дело не столько в способностях, которые можно заменить знаниями, и не столько в знаниях, которые можно получить зубрежкой, сколько в привычке заниматься. За малым дело. Выяснилось, что многие и светлые, и не светлые головы могут пролететь «только» из-за того, что просто не могут при всем желании заставить себя сидеть за учебниками весь день. Именно тогда они с уважением и завистью обратили взоры на меня, стали отмечать мои упорство и силу воли. Правда, некоторые нетактично называли это неприятным словом – усидчивость. Но зависть все-равно оставалась.
К этому времени и по той же причине у меня установился солидный авторитет и у родителей моих одноклассников, которые слышали обо мне на родительских собраниях. Я стал для них эталоном серьезного и волевого парня. Они ставили меня в пример своим детям, кололи им глаза моими пятерками и завидовали моим родителям. Дружба со мной всячески поощрялась – родители надеялись, что это благотворно повлияет на их детей; ко мне уже обращались и не раз несчастные родители двоечников и разгильдяев или «способных лентяев» с просьбами повлиять как-нибудь на их ребенка, «поговорить по-товарищески». Моим именем освящались любые неблаговидные, сомнительные дела и поступки. Так родители моего друга долгое время противились тому, чтобы он ходил в клуб на танцы, но стоило ему соврать, что и я туда хожу, как они дали согласие. Они думали, что раз такой серьезный и положительный человек, как я, ходит на танцы, то ничего дурного в этом нет и учебе это не помешает.
К десятому классу у одноклассников сложилось твердое представление обо мне, как о человеке неглупом и серьезном, но скучноватым, для которого вся жизнь заключается в учебе. Они не считали меня интересным. А я был интересным! Учеба – это было не главное, это был мой долг и только. Зато какие страсти бушевали в моей душе! Какие мысли горячили голову! Наедине с собой я был мечтателем и романтиком, но ни с кем, кроме своего друга, я не говорил о вещах, действительно волновавших меня. Поэтому-то мы и дружили, начитавшись одних и тех же приключенческих книг и фантастики, поэтому-то все не могли понять секрета нашей дружбы, не понимали, как мой друг может дружить с таким скучным типом, как я.
Я заметил об ту пору, что не узнаю себя в зеркале: судя по своим мыслям и чувствам, я представлялся себе этаким парнем с выразительным, волевым лицом, пронзительными, бунтарскими глазами и насмешливым ироническим ртом, когда же я подходил к зеркалу полюбоваться на все это великолепие, я к изумлению своему видел перед собой постную, вытянутую физиономию с потухшим взглядом, а черты лица казалось, раз и навсегда застыли в маске благопристойности. Единственно, что совпадало – губы, действительно, кривились очень даже насмешливо и ехидно, но это ничуть не украшало моего лица, напротив, придавало ему какое-то двусмысленное выражение.
Но, помню, я был где-то даже рад этому открытию – я решил, что все известные только мне сокровища моей души спрятаны глубоко в самых сокровенных тайниках, и что далеко не всякому они открываются. То, что меня не понимают, мне очень льстило. Это еще больше укрепило меня во мнении об исключительности и силе моей натуры. Я ждал от себя чего-то необыкновенного. Нет, не блестящей карьеры, не славы даже, я просто ждал от себя необычных поступков, необычной исключительной жизни, потому что чувствовал себя способным на все, не важно, на что – на хорошее или плохое, добре или злое – именно на все. Поэтому я приходил в волнение от предчувствия той жизни, которая мне уготована после школы. Я все терялся в догадках, чего-то я натворю в новой вольной жизни, как только разделаюсь с пятерками. Жизнь моя бунтарская, может, будет даже ужасна в чем-то. Предчувствие этих ужасов давало мне какое-то мрачное спокойствие. И это было очень сладкое предвкушение. Но… после школы я всего навсего оказался в институте, и жизнь моя почти никак не изменилась. Я был, по существу, человеком очень наивным, душа моя жила совершенно отдельно от разума. Например, в душе моей давно жила мечта о море, но об учебе в мореходке я даже не думал, потому что море – это праздник души и свободы, а море в узде меня не интересовало.
В десятом классе перед выпуском я часто думал, буду ли я потом жалеть о школе, об этой, как все твердят, неповторимой поре? Я не видел в своей тогдашней жизни ничего, о чем бы пришлось пожалеть потом. Но я помнил предупреждения учителей, что пока учишься, никогда не замечаешь всей прелести школьных лет – только потом, с годами начинаешь ценить это и до слез жалеть о безвозвратном. Предвидя это, я сказал себе тогда: «Если будешь жалеть, вспомни все, что было! Вспомни, и не будешь жалеть.» Но мои опасения оказались напрасными – я ни разу не пожалел ничего из пережитого. Когда я переступил порог института, сердце мое сжалось от предчувствия, что все повторится в этих стенах. Нужно ли говорить, что предчувствия не обманули меня, хотя поначалу все имело несколько иную окраску.
Мы все предстали, наконец, перед наукой и с самым бескорыстным энтузиазмом (все, кроме обычных лентяев, на которых мы тогда еще смотрели с недоумением) бросились срочно развивать и себя и науку. И я тоже. Я набросился на все предметы сразу, но не просто ради науки – для меня вдруг с огромной остротой встал очень личный вопрос: умный я или нет? Я был не глуп, но был ли я умен? Ведь я не в школе, а в институте! Я видел, что все студенты были веселыми, остроумными, шутки по любому поводу так и сыпались из них с необыкновенной легкостью. А я не был таким веселым и остроумным. Кто-то из них самодовольно и ехидно сказал мне, вечно молчаливому, что юмор – это первый и необходимый признак хорошей «соображаловки». Боже, как я расстроился! Я даже с лица спал. Когда кто-нибудь при мне сыпал остротами, я мучительно пытался придумать тоже что-нибудь смешное, но безуспешно, а шутки все сыпались, я мрачнел и отходил в сторону. Потом умение шутить легко и непринужденно пришло ко мне, но это было где-то двумя годами позже, а тогда я чувствовал себя очень тупым и несчастным. Я проверял себя в науках, выступал на семинарах, где тогда все ревниво следили друг за другом – кто окажется умнее, а кто – самым умным? Я тоже сравнивал себя с другими и пытался понять, умный я или нет?
И еще очень болезненной была моя реакция на полное равнодушие и отсутствие интереса ко мне у однокурсников и преподавателей. В школе я был первым, а здесь меня решительно не желали замечать, хотя по привычке я думал, что на меня все сразу обратили внимание или хотя бы просто заметили. Но о моих подвигах в школе здесь никто не слыхал, и я с изумлением обнаружил, что даже фамилия моя здесь ровным счетом никому ничего не говорит, а моя реакция на звуки моей фамилии вызывала какое-то недоумение. Но потом я привык и уже не высовывался.
К тому времени на семинарах уже выделились сами собой светлые головы, действительно, способные ребята. На них смотрели с уважением или восхищением, а я с ревностью. Институт – это был шанс для меня доказать в споре с одноклассниками, да и с самому себе, что я не зубрила старательный, а умный человек, и надеялся оправдать свои надежды на себя. Я набрасывался на все науки сразу, мне было все равно, что я там учу, мне было важно проявить в них необычайный ум. И вот какой-то половинчатый результат – ни глупый, ни гений, так – серединка какая-то. И что теперь со мной будет?! То же, что и было?! Я по-прежнему, повинуясь многолетней привычке, перемалывал весь требуемый материал, все до последней буквы, а оправдания этому труду не было. Все оставалось по-прежнему, и перспектива жить «по большому счету» рушилась. Это был очередной кризис.



