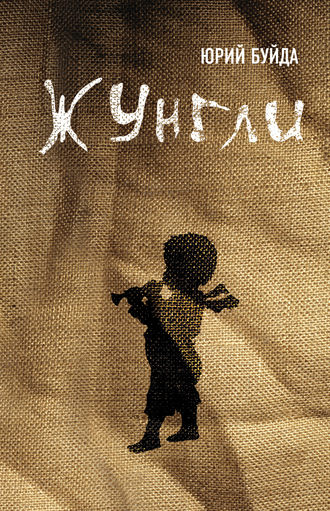
Юрий Буйда
Жунгли
– Алешенька! – пропела на четыре тона Катя из спальни. – Иди ко мне в чертог златой!
Среди ночи он вышел в кухню покурить. Затягиваясь сигаретой, тупо смотрел на тусклое зарево, поднимавшееся в небо над Москвой и слабо шевелившееся, и ему казалось, что там живет и шевелится огромное и беспокойное животное, сам факт существования которого отравляет мир и бесстыдно напоминает о древней, дочеловеческой тайне жизни… «Бог, Бог… Чего они все про Бога? – думал он, прикуривая новую сигарету. – Явится – не явится… Зачем Ему являться?» По настоянию жены он читал Библию, ходил иногда в церковь и на выступления проповедников, но так пока и не понял, зачем ему этот самый Бог, о котором с легкостью болтают все вокруг. Он подозревал, что настоящий Бог существует, но это такой Бог, которого человек ни за что не пустит в свою жизнь с будильником, зарплатой и премией, с газетами и теплым туалетом, выпивкой и телевизором. И если Он и явится, его и впрямь не узнают. «Христос был преступник, нищий и еврей, то есть трижды гад, – думал Алеша. – Хуже Громобоя или Пиццы. Кто ж Его такого готов принять? Само собой, если и явится, Его или прибьют по пьянке, или по тюрягам замотают…»
Жена во сне всхлипнула, забормотала, и сердце Алеши болезненно сжалось от любви и жалости к ней, к Мишутке, к дураку Овсеньке, к себе, наконец, к миру, которому уже не дождаться Спасителя…
Овсенька вздрогнул, проснулся и сел на постели.
– Кто тут? – шепотом спросил он, вглядываясь в темноту. – Есть кто? Нет?
Ему показалось, будто кто-то коснулся его щеки, и от этого прикосновения ему стало так хорошо, тепло и легко, что это напугало его.
Осторожно выбравшись из-под одеяла, он подошел к окну и отвел штору.
Падал снег.
– Вон чего! – прошептал Овсенька. – Это снег пошел…
Редкие снежинки плыли в темном холодном воздухе, плавно опускаясь на асфальт.
Старик поправил одеяло и посмотрел на Мишутку. Мальчик улыбался. Овсенька знал, что Мишутка улыбается только во сне, и никому об этом не рассказывал: это была его тайна. Он лег, вдохнул запах детских носочков («Пора мыть мальца…») и закрыл глаза.
– Первый снег, значит, – пробормотал он, засыпая. – Вон чего…
Закон Жунглей
Вечером Франц-Фердинанд упал с крыши и разбился. Он часто забирался куда-нибудь, падал и ломал то ноги, то руки, а то и ребра. Старик – соседи дали ему кличку Штоп – считал, что внук поступает правильно: если родился с крыльями, то нужно летать. После таких попыток Франц-Фердинанд ходил в гипсе, а потом все повторялось: он залезал на крышу типографии или на высокое дерево, прыгал, падал и орал. Старик относил его домой, поил самогоном с ложечки, после чего мальчик обычно засыпал. А если не засыпал и ныл, старик ставил ему градусник в задницу – это было лучшее средство, чтобы утихомирить пацана.
Но на этот раз Франц-Фердинанд, похоже, разбился по-настоящему. Притащив его домой, Штоп ощупал мальчика, но так и не понял, что же тот сломал: ноги, руки и ребра были вроде целы, но парень кричал, не хотел самогона, а когда увидел градусник, вообще зашелся ревом. Он лежал на боку в обнимку с черным деревянным пингвином, которого Штоп называл дроздом, и ныл не переставая.
Пришла Гальперия и вызвала врача. В «скорой» знали Франца-Фердинанда и его деда, поэтому приезжать не хотели. Врачи «скорой» вообще неохотно выезжали в Жунгли – поселок за кольцевой автодорогой, входивший в состав Москвы и официально называвшийся Второй Типографией, где жили по большей части старики, инвалиды и алкоголики. Здесь стояли здание типографии, где печатали бухгалтерские бланки, четыре пятиэтажки с потеками гудрона на стенах, десяток приземистых бараков из красного кирпича, множество сараев, гаражей, каких-то покосившихся хибар – вот что такое были эти Жунгли. Вдобавок здесь, в этих самых покосившихся хибарах, жили нелегалы – таджики, узбеки, афганцы и бог весть кто еще. «Не удивлюсь, если встречу здесь у вас Осаму бен Ладена, – говорил участковый Семен Семеныч Дышло. – Тут его никакое гестапо не найдет».
«Скорая» приехала часа через два. Молодая женщина в белом халате осмотрела мальчика и сказала, что его нужно везти в больницу.
– Господи, – сказала докторша, – что это у него?
Старик перевернул внука на живот, чтобы докторша могла разглядеть крылья. Это были уродливые полуметровые отростки на лопатках – из-за них мальчик мог спать только ничком и был похож на какое-то насекомое – то ли на паука, то ли на кузнечика. Женщина покачала головой: ей еще никогда не доводилось сталкиваться с таким уродством.
– Тощий-то он у вас какой, – брезгливо сказала она.
– Дрищет много, – сказал Штоп. – Другим звезду подавай, а ему – подристать. Ты ему давление померь – сразу полегчает.
– Не учите меня жить, – сказала докторша. – Может, у него позвоночник сломан. Или еще что-нибудь. – Она протянула руку к мальчику – тот взвыл. – Ты можешь помолчать?
Франц-Фердинанд завыл еще громче. Гальперия дала ему пингвина, но мальчик стал бить пингвина ногами.
– Медведь! – закричал Штоп, топая ногами. – А ну, медведь!
Парень попытался спрятаться под кроватью, но старик схватил его за ногу.
– Не удивлюсь, – сказала докторша, оглядывая захламленную комнату, – если у вас тут медведи водятся.
– На хера им тут водиться? – удивился Штоп. – Медведей тут нету. Это он медведя боится. Скажешь ему медведя – он и боится.
– Вы когда-нибудь моете тут полы? – Докторша подняла ногу, пытаясь отодрать что-то от каблука. – В больницу надо, а не медведем пугать.
– Не, – сказал Штоп, – в больницу я его не дам, его там ампутируют. Ты ему лучше укол сделай.
– В больницу он его не даст, – с удовольствием подтвердил шофер «скорой», покуривавший у двери. – Мы его давно знаем. Здесь все они такие, в этих Жунглях. Боевые.
– А если умрет?
– Не, – сказал Штоп, – не умрет: мы Бога любим.
– Верите в Бога?
– На хера нам в Его верить? – снова удивился старик. – Мы Его любим, а не верим.
– Он-то у вас хоть знает, кого любит? – Докторша кивнула на мальчика. – Или вы за двоих любить собираетесь?
– Мы обое, – закивал старик, – обоим сподручнее любить. – Подмигнул докторше. – Парочкой всегда сподручней.
Докторша сделала укол – мальчик затих.
– Иди сюда. – Штоп поманил докторшу к комоду. – Глянь-ка.
В руках у него было пасхальное яйцо с надписью «Христос Воскрес». Штоп открыл яйцо с таким хитрым видом, словно это был ларчик с сокровищами, и показал докторше крошечную тушку Ленина, который лежал внутри – при галстучке, в пиджачке, брючках, ботиночках, со сложенными на груди ручками.
– Видала? – Старик лучился счастьем. – Как живой, сучара!
Докторша потрогала Ленина, вздохнула, собрала чемоданчик и уехала. Трясясь в машине, она вспомнила слова своей бабушки: «Где один, там и дьявол, где двое, там и Бог», но ее бабушка была опрятной старушкой, которая не пользовалась носовым платком больше одного раза, а от этого старика пахло перегаром и потом.
Франц-Фердинанд сполз на пол, лег в обнимку с черным деревянным пингвином и заснул. Гальперия укрыла его суконным одеялом. Штоп занялся любимым делом – он стал зажигать спичку и ждать, пока она догорит до ногтей, а потом зажигал следующую. Он мог заниматься этим часами.
– Не понравилась мне эта докторша, – сказал вдруг он.
– Чем это она успела тебе не понравиться? – удивилась Гальперия.
– Руки горячие, – ответил Штоп. – А у настоящих докторов руки холодные, как у мертвых трупов.
В молодости Штоп отличался тем, что не мог пройти мимо какого-нибудь крана, кнопки или рычага, чтобы не повернуть, нажать или дернуть. Однажды он дернул или нажал что-то не то, в результате сгорел склад пиломатериалов, и его посадили в тюрьму. На суде от него все пытались добиться ответа на простой вопрос – почему, зачем, с каким умыслом он это сделал, но он только и отвечал: «Ну штоп, значит, штоп…» «Штоп посмотреть, что из этого выйдет?» – не выдержал наконец судья. «Ну, – с улыбкой ответил подсудимый, – просто, значит, штоп это самое». Так его и прозвали – Штоп.
После выхода из тюрьмы он, к всеобщему удивлению, женился на довольно яркой и дерзкой женщине. Она родила ему дочь, которую Штоп – он этим гордился – назвал Камелией. «Это цветок, – объяснял он соседям. – Как роза, только камелия».
Его жену прозвали Велосипедисткой: она раз пять уезжала от него навсегда, к другим мужчинам, оседлав велосипед с ржавой провисшей цепью, который скрежетал на всю округу, но потом возвращалась как ни в чем не бывало. Первым делом Штоп бил ее изо всей силы под дых, а потом волок в спальню, где они долго приходили в чувство, вопя на всю округу.
Штоп восхищался ногами своей жены и по первому требованию покупал ей новую обувь. Стоило ей надеть туфли и пройтись по комнате, как он прощал ей все ее грехи. «Ну нога! Ну сучара! – кричал он в восторге. – А жопа? Играет жопа! Это не жопа – это же веселая ярмарка!» И хлопал в ладоши, приседая и топая ногами.
Велосипедистка ненавидела Жунгли. В последний раз она не успела уехать от мужа: на ночном шоссе ее сбил грузовик.
На память о ней у вдовца остались сорок пар ее обуви – лодочки, босоножки, танкетки, которые он иногда доставал из кладовки, раскладывал на полу и принимался вертеть в руках, обнюхивать, бормотать и цокать языком. Туфли были, разумеется, все ношеные, со стоптанными, сломанными каблуками – покойная была женщиной корпулентной, большегрудой и задастой – и пахли потом, въевшимся в стельки, но Штоп и слышать не хотел о том, чтобы их выбросить.
Еще у него осталась дочь Камелия, которая в девять лет надела лифчик покойной матери, а в пятнадцать весила более ста кило.
Он пил самогон с вареньем, называя это пойло пуншем, от которого беспрестанно пердел, и целыми днями ходил в кальсонах с желтой от мочи мотней. А вечерами снимал со шкафа гармошку и бездарно наяривал какую-нибудь польку корявыми черными пальцами, припадая щекой к мехам, топая босой корявой ногой и выкрикивая отчаянно, с надрывом, со слезой: «Ай да Чайковский, сучара! Ай да Моцарт, сучара ты моя милая в жопу!»
Первого мая и Седьмого ноября Штоп надевал пиджак со значком общества книголюбов и выходил во двор с гармошкой и бутылью самогона. Самогоном он угощал всех желающих, поздравляя их с праздником. При этом он то и дело принимался играть что-то бодрое, маршевое, ухмыляясь и подмигивая всей своей полубритой рожей старухам-соседкам, которых зазывал потанцевать или хотя бы спеть хором. Но старухи только смотрели на него из окон и одобрительно покрикивали: «Так их, Алешка! Так их!»
Собирались соседи, иногда присоединялся участковый Семен Семеныч Дышло. Они выпивали за столом, который был вкопан в углу двора, под черемухой, потом мужчины потихоньку разбредались кто куда, за столом оставался один Штоп. Он сидел на лавочке и наигрывал на гармошке, прерываясь лишь затем, чтобы приложиться к бутыли.
Наконец Штоп набирался до кондиции, после чего начинал маршировать в одиночку с гармошкой по улице. Он нещадно рвал меха и орал, опасно кренясь: «А ну, сучара! А ну!» Дойдя до конца улицы, он поворачивал назад и снова маршировал. И так он и ходил туда-сюда, пока не падал. Или шел за дом, где в огороде стоял небольшой – «с собаку, блядь» – памятник Сталину, который Штоп случайно обнаружил, когда затеял капитальный ремонт ограды. Памятник был спрятан в гнилом дощатом гробу на полутораметровой глубине, и кому он принадлежал и как здесь оказался – выяснить не удалось. Он был отлит из чугуна, и Штоп время от времени пытался очистить его от ржавчины, но бросал дело на полпути, так что Сталин, хотя и стоял под старым зонтиком, был весь какой-то пятнистый. Штоп с ним разговаривал на своем языке, называя его, конечно, сучарой, а то и ругая за что-то, но потом играл ему что-то похожее на «Амурские волны», маршировал и кричал: «А ну, бляди, по стойке лежа!»
Штоп работал слесарем в домоуправлении и считался мастером на все руки. Ему отдавали сломанные электробритвы, охотничьи ружья, швейные машинки, и он все это добро возвращал к жизни. Он никогда не расставался с маленьким перочинным ножичком, которому дал когда-то имя Леопольд. Он резал им хлеб, ковырял в ушах, чесал затылок, делал свистульки для Фердинанда, а когда ему приносили какой-нибудь сломанный фотоаппарат, он первым делом доставал из кармана свой ножичек и говорил: «Ну что, Леопольд, хватит мне тут дрыхнуть там, сучара, пора бы и это самое вот». Женскую задницу он называл европой, лысину – лениным, а вот свой член – гитлером.
Он обожал футбол. Стоило на лужайке за типографией появиться мальчишкам с мячом, как там возникал и Штоп. Деваться было некуда – его брали в игру. А ему важнее важного было ударить мяч головой. Он носился по полю, раскрасневшийся и потный, терял ботинки и орал отчаянно, с надрывом: «На головку! На головку подай, сучара!» И если ему навешивали мяч на голову, он подпрыгивал с зажмуренными глазами и посылал мяч лысиной куда угодно, только не туда, куда нужно, но после этого был счастлив. «Ну что, Иван Горыныч? – ехидно говорил он потом мячу. – То-то, Иван Горыныч, сучара!»
У старика были какие-то особые, загадочные отношения со словами вообще и с человеческими именами в частности. Покойную жену, например, он называл Жозефиной, хотя по документам она была Зинаидой, а если сердился на дочь Камелию, то ругал ее Вирсавией. А вот Галину Леонидовну Татаринову – она жила напротив – он прозвал Гальперией.
В Жунглях, впрочем, многие называли Галину Татаринову другим, еще более странным прозвищем – Извольте Соблаговолить или Соблаговолите Изволить. Всю жизнь она работала учительницей русского языка и литературы. Высокая, стройная, миловидная, всегда аккуратно одетая и сладко пахнущая, она воротила нос от Жунглей и их обитателей, влачивших растительную, бездуховную жизнь. Однажды на уроке она сказала: «Воспитанный человек знает, чем извольте соблаговолить отличается от соблаговолите изволить». И за это ее, конечно, невзлюбили, потому что она так и не соизволила объяснить, чем же одно отличается от другого. Для Жунглей она была слишком уж столичной штучкой.
Ее муж-инженер попал в аварию и двадцать шесть лет, до самой смерти, провел в инвалидном кресле. Галина Леонидовна мыла его, кормила и читала ему вслух. Муж лежал опухший, с мешками под глазами, от него всегда пахло мочой, хотя Галина Леонидовна мыла его два-три раза в день и еще протирала нашатырным спиртом, чтобы не было пролежней. Он смотрел на нее из-под полуопущенных век и говорил: «Заведи нам ребенка», но жена только в ужасе трясла головой: как это она заведет ребенка от другого при живом муже? Конечно, он раздражал ее своим угрюмым молчанием, вспышками язвительности. Иногда ей казалось, что он ненавидит ее, и тогда она тоже начинала его ненавидеть. Но он был ее мужем, ее первым мужчиной. Вдобавок такие понятия, как «стыд» и «душа», были для нее не пустыми звуками, поэтому мысль о ребенке от чужого мужчины казалась ей дикой и даже унизительной.
Когда она однажды выложила все это мужу, он ответил усталым надтреснутым голосом: «Запомни, Галя, жизнь подчиняется только одному закону – второму закону термодинамики. То есть теплота сама собой переходит лишь от тела с большей температурой к телу с меньшей температурой и не может самопроизвольно переходить в обратном направлении. Из этого следует, что душа, возможно, и есть, но бессмертия не может быть, а поэтому ты дура, если отказываешься завести ребенка». И заплакал.
Когда он умер, она решила подчиниться второму закону термодинамики и перестала красить губы. Но ребенка так и не завела: у нее были свои законы.
Штоп часто заходил к одинокой женщине – починить электропроводку, утюг или подтекающий водопроводный кран. Однажды она попросила его починить туфли. Штоп починил, велел Галине Леонидовне надеть туфли и пройтись по комнате. Она надела, прошлась – и попалась. Когда потом изумленные мужчины спрашивали старика, как ему удалось уговорить эту фифу, Штоп отвечал: «А чего уговаривать? Я ж мужик, и гитлер у меня еще ахтунг, а не хенде хох. Всех делов-то. Чего товару без дела валяться?» Товар был еще неплох: бездетная вдова сохранила девичью фигуру и упругую грудь.
С того дня Галина Леонидовна стала Гальперией. Поначалу она воспринимала такую перемену судьбы как катастрофу: Штоп никогда в жизни не чистил зубы, потому что в Якутии никто их не чистит.
– При чем тут Якутия? – удивлялась Гальперия. – Ты же не был никогда в Якутии и не знаешь даже, где она находится.
– А на хера мне ее знать? – упорствовал Штоп. – Не чистят, и все. И я не стану: я с этой вашей пасты дрищу.
Гальперии было стыдно: соседи, конечно, сразу узнали, что она стала женщиной этого невразумительного пьяницы с гармошкой. Она кляла себя за минутную слабость. Первое время она днями не показывалась на улице, запиралась, умоляя оставить ее в покое. Но Штоп колотил в дверь изо всех сил и орал на всю округу, и она ему открывала.
Он приходил к ней в пиджаке со значком общества книголюбов на лацкане, с бутылкой самогона и гармошкой. Она сидела как замороженная на стуле, сложив на всякий случай руки на Библии, смотрела расширенными глазами на этого дикого мужчину, который пил самогон с вареньем, пердел, нес какую-то ахинею, состоящую из одних местоимений и междометий, а потом играл на гармошке свои ужасные частушки, подмигивая несчастной женщине:
Мы ебали все на свете,
Кроме шила и гвоздя:
Шило колет нам залупу,
А гвоздя ебать нельзя!
Потом Штоп хватал Гальперию за руки и заставлял кружиться с ним в каком-то папуасском танце, залихватски ухал и свистел, а после этого тащил в соседнюю комнату и наваливался, бормоча: «Трусов-то понадевали, сучары!»
Но больше всего Галину Леонидовну ужасало то, что она испытывала удовольствие и помимо воли начинала совершать непристойные в ее возрасте и давно, казалось, забытые движения, а потом и вовсе обнимала мужчину изо всех сил, обхватывала его своими длинными столичными ногами и кричала так, что из носа шла кровь.
Потом Штоп сидел на краю кровати, задумчиво курил и похлопывал ее по европе, а она держала его за руку, сонно улыбалась и хотела еще.
Со временем она перестала стесняться Штопа, иногда даже готовила для него еду и читала вслух Библию. Для нее Писание было литературным произведением – довольно грубым и бессвязным, полным насилия, непристойностей и безмозглой любви к Богу – точно такой же, впрочем, любви, какую испытывал Штоп к Гальперии и внуку. Штоп слушал Библию внимательно и только иногда покачивал головой: «Чего творят, сучары!»
Все эти древние цари, воины и пророки были одной крови с Штопом из Жунглей и бесконечно далеки от Галины Леонидовны. Поэтому когда врач сказал ей, что она беременна, Гальперия растерялась: она хотела ребенка, потому что ей было сорок восемь, но боялась, что от Штопа можно родить либо Франца-Фердинанда, либо Камелию.
Никто не знал, от кого Камелия родила Франца-Фердинанда. Ей было шестнадцать, когда на Павелецком вокзале она попала в переделку. Выходя из женского туалета, Камелия увидела у входа в мужской троих солдат. Один из них держал что-то в руках, а друзья с интересом это что-то разглядывали и оживленно комментировали. Камелия замедлила шаг, солдат ей подмигнул, и она ему, конечно же, кокетливо улыбнулась. Ее подозвали: «Глянь-ка сюда!» Ей, конечно, стало любопытно, а вдобавок она надеялась хоть глазком посмотреть на писсуар, который еще никогда не видела. Она подошла, ее втолкнули в мужской туалет, – время было позднее, там никого не оказалось, – двое стали срывать с нее одежду, а третий поднес что-то страшное к ее лицу и прошипел: «Пикнешь – змею в жопу засажу!» Они изнасиловали ее и смылись, а на прощание сунули ей что-то в руку. Когда Кама пришла в себя, она обнаружила у себя в кулаке огурец. Это был самый обыкновенный огурец с черной попкой – его-то солдаты и выдали за змею.
«Зато теперь я знаю, что такое писсуар, – сказала она соседу Генке Никитину, которого все звали Крокодилом Геной. – И теперь мы можем трахаться как порядочные. Даже при свете». И включила свет, чтобы Крокодил мог получше ее разглядеть.
Камелию часто сравнивали с коровой или даже с двумя коровами, но на самом деле она была огромной страной. На юге ее лежали две громадные волосатые ноги с коленями, которые тонули в наплывавшем отовсюду жире. К северу ноги сходились, образуя глубокое, мрачное и сырое лесистое ущелье, над которым крутой рыжий лобок пылал, как храм Божий на солнце. Мелкий кустарник, который торчал из расселины, переходил в непроходимые заросли, тянувшиеся до самого пупка, напоминавшего глубокую воронку, и подступавшие даже к подножию грудей. Собираясь на свидание, Камелия брила живот, но дня через два-три он снова покрывался густым колким волосом. Тяжелые складки пересеченной местности поднимались к груди, на которую Творец израсходовал всю подручную мировую материю, создав два умопомрачительных купола и увенчав их коричневыми сосками необыкновенной высоты. Груди ее матери Велосипедистки были прыщиками по сравнению с сиськами Камелии, которые могли бы спасти от голода все население Черной Африки, включая миссионеров, их собак, котов и мышей, а заодно заправить их джипы. Однажды девчонки устроили представление в душевой школьного спортзала: каждая закладывала под грудь карандаш и выпрямлялась, и если карандаш падал на пол, грудь признавалась классной. Камелия неделю ходила с карандашом под грудью, не испытывая при этом никаких неудобств. Ее подбородок и нос лишь угадывались в пышном изобилии пунцовых щек. Даже лоб у нее был пухлым и мягким, а если что и было у Камы твердого, так это пятки – расплющенные, желтые, с черными трещинами, чудовищные, как пустыня Каракумы с ее выжженными такырами. Тощий и злобный мужичонка – метр с кепкой – по прозвищу Антон Иванович Сердится, у которого при виде Камелии в глазах появлялось отчаяние, называл ее задницу фортецией, и для осады этой фортеции потребовалось бы немалое богатырское войско с пушками вроде тех, что использовались при штурме Севастополя: выпущенная из них стальная болванка летела на пятьдесят километров и зарывалась в землю на тридцать метров. Камелия была державой, стобашенной твердыней, одним из тех китов, благодаря которым земля держалась над поверхностью кипящего мирового молока, или одним из трех слонов, на которых стоял мир, или хотя бы ногой того слона. Господь сотворил ее лично, с таким же рвением, с каким творил землю, небо и Великую китайскую стену. На Камелию пошло так много стройматериалов, что на Европу уже не осталось: взгляните на карту, найдите там Бельгию или, например, Данию, и вы поймете, чем все это обернулось для Старого Света. Словом, чтобы поцеловать Камелию, нужны были надежные карты, компас и недюжинная отвага.
Она проводила перед зеркалом часы, подрисовывая глаза, крася губки и томно щурясь, а потом, натянув насколько только можно черный кружевной чулок, чуть не лопавшийся на ее ляжке, выпячивала грудь, грозно топала высоким каблуком и говорила совсем детским, тонким голоском: «Ну не красавица! И что? Но ведь хорошенькая!» В голосе ее звучал вызов – вызов матери, которая не любила свою дочь.
Камелии было шесть лет, когда мать сказала ей: «Нет, не красавица!» Она собиралась в первый класс, крутилась в новом платье перед зеркалом в прихожей, и вдруг мать остановила возбужденную, раскрасневшуюся девочку своим ледяным указательным пальцем, уперев его дочери в лоб, и проговорила задумчиво: «Нет, не красавица!» От неожиданности, от ужаса, от ледяной иглы, пронзившей лоб и залившей холодом голову, Камелия обмочилась. К тому времени она уже понимала, что отличается от других детей: сверстники смеялись над ее непомерностью, но она особенно не обижалась. А вот слова матери и ее ледяной палец погрузили Камелию во мрак и хаос.
Каждую ночь она мочилась в постель, и каждое утро ее простыня вывешивалась на забор, и это видели все соседи, что, конечно, только усугубляло мрак и хаос. Мать стала будить ее среди ночи, усаживала на горшок и шипела: «Ссы же, горе мое, ссы!» Камелии казалось, что всю оставшуюся жизнь она проведет на горшке под это змеиное «Ссы!»
Вечером после похорон матери она устроила торжественные похороны горшка: обернула фольгой, обвязала красной ленточкой, навалила в него кучу, закопала в чахлом садике за домом, плюнула и помочилась сверху, а потом напилась и дала Крокодилу Гене.
Зато теперь Камелия носила короткие парчовые майки, из-под которых торчало золотое кольцо, вделанное в пупок, и самые короткие в мире юбки или шелковые шорты, туго обтягивавшие ее стоквартирную задницу. А когда она шла по Жунглям, покачиваясь на двадцатисантиметровых каблуках, ее тело источало такой аромат, что у мужчин начинали слезиться глаза.
Трахаться с Камелией было то же самое, что воевать со всей Россией – со всей ее ленью, пьянью и дурью, с ее лесами, полями и горами, великими реками и бездонными озерами, с медведями, зубрами и соболями, со всеми ее цивилизованными народами и дикими племенами. Ведь кажется, что все эти народы и племена только и ждут, чтобы их кто-нибудь заставил наконец работать, они гнутся как солома и непрочны как глина, они терпят и только таращатся, но вскоре, однако, от битья звереют, хватаются за дубину и ну долбать сырым комлем по башке и гнать врага, пока не загонят насмерть, а потом еще метра два будут гнать мертвого.
Камелия никому не отказывала, и за это владельцы ларьков и киосков, где она работала продавщицей, ее просто обожали. Она их всех называла черножопенькими, принимала от них подарки вроде жевательной резинки или недорогих трусиков «с кружавчиками», а после рюмочки запросто расстегивала лифчик, потому что ей становилось жарко. И потом все эти здоровенные ребята, уроженцы великих гор, трудились до седьмого пота, а она все лежала себе на спине, раскинув свои огромные ноги, и сонно улыбалась. Но уж если кому-то удавалось ее расшевелить, тогда да, тогда она просыпалась, тогда она преображалась, и тогда разверзались ее хляби телесные. Она обхватывала мужчину своими громадными ручищами и ножищами, прижимала его к своей немыслимой груди и вздымалась вместе с одуревшим любовником, как гигантская волна, что убивает беспечных жителей земли и разрушает прибрежные города, она содрогалась так, что трескалась земная кора, она билась, как исполинский Левиафан, и бездна под ней была сединой, и кричала она, как полки со знаменами, а потом бережно откладывала полузадушенного, полураздавленного любовника в сторонку и, склонившись над его лягушачьим тельцем, говорила нежным девчачьим голоском: «Вот и поебушкались, котинька, вот и ладушки, мой молодец». После чего она мирно лежала рядом с обессиленным любовником, до которого не сразу, нет, но мало-помалу, постепенно начинало наконец-то доходить, что вот он хотел взять ее в глазах ее и проколоть ей нос багром, а на самом деле получилось так, что это она его только что оттрахала как кутенка, а потом еще и пожалела, как только Господь жалеет своих заносчивых, но неразумных детей.
Когда соседки начинали ругать Камелию за непотребство и обзывать Жопой, Штоп только ухмылялся: «С блядцой девка, это да, в мать. А жопа что ж, без жопы женщина – стрекоза китайская, а не женщина».
Раз-другой в месяц она обязательно выбиралась на Тверскую, в кафе. Она заказывала маленькую чашку эспрессо, закуривала тонкую сигарету и прикладывала к уху мобильный телефон. Телефон ей подарил один из ее «черножопеньких». Разговаривать ей было не с кем, да и денег на телефонном счете не было, но Каме нравился процесс: сидеть в кафе с телефоном у уха – это так круто, так гламурно…
По вечерам за нею заезжал на мотоцикле Крокодил Гена, и они часами гоняли по окрестностям, вопя во все горло и швыряя в собак пустые жестянки из-под пива.
Крокодил часто ночевал у Камелии, потому что жить в одной квартире с бабушкой становилось все труднее. Она боялась, что внук-пьяница вынесет из дома все мало-мальски ценное, что можно обменять на водку, и потому на ночь надевала ожерелье из фальшивого жемчуга, два платья, летний сарафан, обезьянью шубу и туфли-лодочки, привязывала к себе веревками серебряные ложки, часы-луковицу с цепочкой, хрустальную вазу и аккордеон покойного мужа. Всю ночь она боялась пошевелиться, потому что под подушкой у нее были спрятаны три фарфоровые тарелки со скрещенными голубыми мечами на донышке, а на груди спала дряхлая персидская кошка, из которой старуха мечтала построить дорогую зимнюю шапку.
Крокодил, однако, из дома никогда не таскал. После того как его мать умерла от рака, а отец погиб на стройке, Гена стал главой семьи, поскольку полувыжившая из ума бабушка была не в счет. Троих сестер-толстушек Веру, Надежду и Любовь Крокодил воспитывал как мог и как умел: кормил пельменями, заставлял менять трусики каждый день, выдавал деньги на школьный буфет, а вечерами трахал по очереди, чтоб не забывали, кто в доме главный. И вообще он считал, что девственность – причина безнравственности: «С целками сладу нету – тарелку вымыть не заставишь».
Он помогал местным бандитам, которые занимались угонами машин, и этих денег вполне хватало на еду и одежду. Все продукты, которые он покупал в магазине, Крокодил делил на две категории: напитки у него были «чем поссать», а твердая пища – «чем посрать».
Гена был добрым парнем и редко пользовался своей силищей, но если перебирал водки, то мог ни с того ни с сего ввязаться в драку с кем угодно. Однажды он набросился на компанию дворников-таджиков, которые покуривали во дворе, сидя на корточках. Гена расшвырял их, а одного схватил за горло, пригвоздил к стене и заорал: «Знаешь, кто я? Я Москва. А ты – Америка. И сейчас Москва покажет тебе дружбу народов! В глаза смотреть, тля!» И, все так же прижимая тщедушного таджика к стене, ухитрился расстегнуть ширинку, извлечь свою огромную дружбу народов и помочиться на эту Америку, которая только таращилась на страшную Москву, боясь опустить глаза.
Из армии – он служил в Чечне – Крокодил вернулся с орденом. Вспоминать о службе он не любил. А когда его донимали расспросами, за какие такие подвиги он получил награду, Гена только и выдавливал из себя со смущенной ухмылкой: «Один раз выстрелил – два раза попал».
Сестра его Любовь вышла замуж за небритого бетонщика и родила двойню. Вера же с Надеждой торговали на рынке мороженой рыбой и жили с татарами.
Гена устроился слесарем в автосервис и по-прежнему помогал бандитам-угонщикам.
Штоп не спал. Он слышал, как по крыше стучал дождь, к утру перешедший в ливень, как ворочалась Гальперия, как Камелия с Крокодилом прокрались в спальню, возились, а потом блевали. Штоп прислушивался к дыханию Франца-Фердинанда – оно было неровным, учащенным. А под утро, когда усталось взяла свое и старик наконец погрузился в сон, Франц-Фердинанд умер. Он весь задрожал, тоненько заныл, засучил ногами и вдруг вытянулся и замер.







