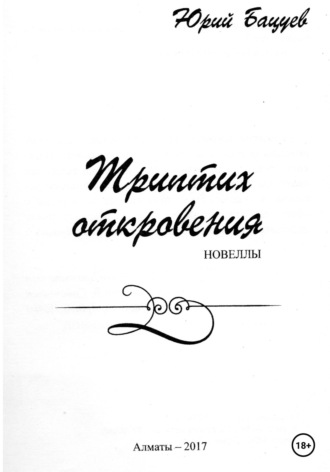
Юрий Андреевич Бацуев
Триптих откровения
– Про песок, Серёжа, в котором мы вязли на твоей машине. Но, безусловно, хорошо то, что ты это воспринимаешь по-своему. И мне уже самому кажется, что это мы с тобой желаем страстно катиться прямо в океан мечты своей. Спасибо тебе.
Меня понесло, и я заговорил: – А когда я уже на своём объекте работал, то прямо у входа в кашару, где мы жили, написал плакат:
Наш канал – это стройка века,
Человеку на прочность проверка!
Это для шоферов, чтоб уважали своего шефа, то есть меня. Для меня хуже всего было общаться с этой категорией людей. Куда-нибудь самовольно зафитилят на машине – а у меня рация – и три раза в день надо докладывать обо всём на базу. Скрываешь, конечно, а сам дёргаешься. В песках редкие селения и находятся за сорок-пятьдесят километров, всё что угодно может случиться. Я там мало писал, некогда было. Но одно стихотворение прочту, оно повеселее чем прежнее, называется «Три Пери».
В пустыне знойной, близ Арала –
Чуть-чуть южней горы Карак, -
В тот день палящая стояла
И нестерпимая жара.
И вдруг из-под земли ударил
Искристо-яростный фонтан,
А вместе с ним под дробь литавр
Три девушки явились там.
И зазвенели птичьи трели –
Забыли все о духоте, -
Очаровательные Пери
Кружились в танце на воде.
Тела их гибкие ласкала
Струя, как светлая роса,
И степь мужская трепетала –
Горели цепкие глаза…
Вот так и родилась легенда
О Пери трёх, а быль проста:
Купались девушки-студентки
У водной скважины в песках.
– Кстати, девушки были из Одесского университета, – завершил я своё выступление.
Пиринский молчал, но чувствовалось, что не остался равнодушным.
– Ну, а книжку не думаешь издать? – после паузы спросил он.
– Думать-то можно. Это заветная мечта любого поэта. Пытался я, Санёк, осуществить такую мечту. Сделал подборку стихов, отнёс в издательство, и получил такие рецензии, что мне дурно стало. Особенно от «чёрного рецензента» досталось. Это тот, который тайно, без указания своего имени отзыв делает. Просто я понял, что надо среди этих шелкопёров находиться, там они все заодно, и свежему человеку трудно пробиться.
…Однако в тот раз мы говорили не только обо мне и моих стихах.
Сергей Червонных рассказал, как он когда-то по назойливой просьбе жены, оставил полевые работы и переехал в город; кстати, так не полюбившийся Сане – город Фрунзе. Но не мог больше года пробыть там. Вернулся в полевую экспедицию опять на съёмку в пустынные пески.
– В городе и работа была посильная – в проектном институте, и благоустроенная квартира, – говорил он, – но в свободное время сидеть в доме на четвёртом этаже мне было просто невмоготу.
А Веприцкий напомнил, что неоднократно бывал на курсах именно здесь, как только менялся профиль работы:
– Меня здесь многие знают. А некоторые преподаватели знакомы ещё по учёбе в институте, – и добавил: – Да и в этот раз я приехал сюда только для того, чтобы развеяться. Я занимаюсь мелиорацией, для меня это дело знакомо. Это уже второй массив орошения, который я осваиваю.
– Так вот почему ты опоздал на занятия. Двое суток тебя не было здесь. Мы уже думали с Серёгой, что вдвоём будем «прозябать» в номере, – заметил я.
– Прежде всего, когда я приехал в Москву, я заскочил к своим старым друзьям, у которых останавливался во время сессий в институте. Посетил бабу Шуру и деда Ивана – прекрасных старичков с богатой биографией. Старушка необычайно добрая, а дед – участник войны, был в плену, дважды бежал, потом оказался в сталинских лагерях. После освобождения работал на шахтах в Казахстане. Мы с ним хорошо погрелись коньячком. Вот я и задержался. Тем более мне тут всё известно. И ко мне за прогулы особых претензий не будет.
…Так мы дружески беседовали «под кедровку», иногда и пели, в основном про «очаровательные глазки» и, конечно же, про Костю-моряка, которого обожали на Молдованке и Пересыпе. Теперь уже, на радость Пиринскому, пели только правильно.
На третье утро после нашего совместного проживания мы вышли из номера и, смешавшись с другими курсантами, направились в сторону учебного здания, а когда расселись в аудитории, после первой лекции Сергей Червонных произнёс: «Что-то не видно здесь нашего доблестного одессита. Куда он подевался?» Придя же с занятий в номер, увидели Пиринского, спящим на кушетке. На столе стояла бутылка с недопитой кедровкой.
К вечеру мы, как всегда, возобновили разговоры. У Саши тактично не спрашивали, почему не был на занятиях, думая, что встретил кого-то из знакомых.
С утра снова пошли на занятия все вместе, а вернулись только с Сергеем. Саша, как и прежде, по пути отстал.
Этой ночью после полуночи я сквозь дрёму услышал шаги. Открыв глаза, увидел силуэт движущегося человека, который то и дело ходил от двери к окну и обратно. Не придав значения и укрывшись одеялом с головой, я уснул.
Утром снова выходим на занятия втроём, возвращаемся только с Сергеем. В номере застаём Пиринского со стаканом кедровки в руке.
– Завтра я еду в Москву, – говорит Саша. – От жены получил телеграмму, надо её встретить.
А ночью под утро опять послышались беспокойные шаги. На этот раз я приподнялся и спросил: – Саша, что с тобой? Тебе плохо?
– Лежи, лежи, Юрец, не тревожься, – глухо произнёс он.
В тот день мы остались с Сергеем вдвоём. Пиринского не было два дня, которые выпадали на субботу и воскресенье. В понедельник встретились с ним на занятиях, куда он прибыл прямо из Москвы.
– Жена остановилась в гостинице, – сказал он, – и я теперь нахожусь при ней. На занятия буду ездить оттуда. « Что ж, – подумали мы, – пусть будет так, как ему лучше».
После занятий он зашёл в номер за кое-какими личными вещами. Мы заметили, что Саша не столь доброжелателен, каким был раньше. Особенно он как-то резко осуждающе
глянул на нас, когда увидел в руках наших стаканы, наполненные всё той же кедровкой. К вечеру он уехал в Москву.
Теперь на занятиях мы видели Сашу предельно серьёзным. В перерывах он рассказывал, что каждый вечер они с женой посещают театры. Уже побывали в Большом, на Таганке и в Современнике. В выходные дни ходят в музеи. Посетили Третьяковку и Пушкинский. Зашли и в дом Достоевского. В общем, ведут праведный образ жизни.
В конце курсов все слушатели защищали рефераты, которые подготовили в процессе занятий. Но Саша руководителем занятий был выделен особо:
– Сейчас перед вами выступит, – сказал он, – знакомый вам курсант – начальник Одесской гидрогеологической партии Александр Сильвестрович Веприцкий. Он имеет большой опыт проведения инженерно-геологических работ на массивах орошения в пределах Юга Украины. И сейчас расскажет вам о практическом применении методики, которую вы осваивали на наших курсах.
Саша был серьёзен, он заговорил уверенно как специалист, хорошо знающий своё дело. Одет он был безукоризненно, чувствовалась заботливая рука женщины. Только галстук, как и прежде, был подтянут не вплотную к шее, так как верхняя пуговица белой рубашки была расстегнута.
…Курсы закончились. При прощании Саша, имея в виду жену, задумчиво произнёс: «Это она меня вытащила из состояния вседозволенности. И, надо сказать, своевременно. – А потом добавил: – Я рад, коллеги, что пообщался с вами. А ты, Юрец, пиши. Хорошие у тебя стихи. Желаю вам всего доброго, приезжайте в Одессу, увидите, какая там «Пересыпь», а то «перессы, перессы» – обалдели все.
ПОКАЯНИЕ АГНЦА
«Они стояли бледные посреди улицы и держались за руки. Их только что вытащили из подвала, где застукали. Он – немецкий солдат, она – русская.
Я снял чехол с пушки и сделал прямую наводку. Расстрелял артиллерийскими снарядами сначала его, а потом её. Случилось это, когда освобождали Белгород».
Не знаю, зачем и почему мне рассказал об этом отец после десятилетней разлуки, когда я приехал на практику по его вызову из Иркутска, где учился на гидрогеолога.
На Дальнем Востоке я был впервые. И край поразил меня ещё в Заливе Петра Великого, когда катался на лодке в ожидании поезда на Сучан. Сидя за вёслами, я ощутил мелкую водную пыль, которая сыпалась с небес, незаметно увлажняя одежду. Такой микродождь был новинкой. Там, где я жил, были грозы мгновенные и водообильные, а тут – водная пыль. Не знал тогда, что здесь бывают такие ливни, которые мне и не снились.
Там, в краю у моря
В Заливе Петра Великого
В далёком Приморском крае,
Где гуща лесная дикая,
Я мысленно пребываю.
Я в грёзах на самом Востоке
Российского морекрая.
Здесь где-то живут недалёко
Таинственные самураи.
Плыву, как когда-то, на лодке,
Ведомою взмахами вёсел,
Дождинки туманные, лёгкие,
Сыплют с небес белёсых.
Там дальше за окоёмом
Не «тихими» волнами дышит
Большой океан неуёмный,
Насмешником названный «Тихим».
…Мне всё было здесь непривычно –
Я юным тогда был студентом,
И был поражён необычным
Холмистым лесным континентом.
Встретив в Сучане, отец привёз меня в Находку, чтобы заночевать у «своих» – тёще с тестем, а на утро сесть на поезд, идущий в Сергеевку, где находилась экспедиция.
После небольшого застолья нас уложили, как «дорогих гостей» на широком топчане с роскошной пуховой периной. Здесь-то, не придумав ничего лучшего, он и рассказал мне
перед сном о расстреле из пушки двух бедолаг, оказавшихся не в то время и не в том месте. Больше о войне я ничего от него не услышал.
…Последний раз, когда я видел отца, мне было восемь лет. Он приехал в Защиту с новой женой и новорождённым сыном. Ребёнок был грудной, отец поднёс его ко мне со словами: «Смотри, вот твой братик». Это было как-то неожиданно. Ведь у меня уже был брат Шуня. Я оттолкнул ребёнка и замкнулся в себе с огромной обидой на то, что он нас покинул, и теперь кого-то называет моим «братиком»: «Мой брат, вот он рядом со мной, и других мне не надо. Он что вызвал матушку и нас из Белоусовки, чтоб показать «братика» и свою другую жену, которая сейчас скрывается у соседей?..»
…Отец рано познал секреты любовных таинств между мужчиной и женщиной. О таких говорили «первый парень на деревне». Он сочинял и пел тенористым голосом частушки, в которых высмеивал сельчан и их жизнь, а на вечеринках плясал «цыганочку с выходом», и дробно выбивал чечётку. В девушках не испытывал нехватки, потому что сам был тот ещё «хват». Но однажды «положил глаз» на более солидную даму, чем привычные зазнобы. И хотя его «внимание» походило на детскую выходку, он оказался не по-детски настырным. Сидя на дереве, стрелял из трубочки косточками черёмухи, целясь в неё. Подруга возмутилась: «Кто там стреляет?» «Да это Андрюшка, соседский парнишка преследует меня, не поймёт, сопляк, что не дозрел ещё». Эту женщину звали Татьяной. Она была старше его и уже испытала замужество. Слова её глубоко задели парня. С этого момента он заметно посерьёзнел. Светлый воротник рубахи теперь всегда прикрывал ворот пиджака – так было модно, а сапоги начищены до блеска. На галифе из габардина он потратил немало денег, работая тогда подручным в депо. И Татьяна, видя как из «сопливого» пацана, который год назад стрелял из трубочки черёмухой, получился видный парень, не устояла. А он добился, чего хотел. Вскоре Татьяна, не уследив, забеременела и родила дочку. Андрей уже работал на буровой вышке, часто бывал в отъезде, а в дни отдыха наведывался к ней на правах любовника.
…Но через два года, когда буровая бригада вела разведку на руднике Белоусовка, отец встретил мою матушку, которая была и внешне красива, и по характеру непохожа ни на одну из его подружек. Было в ней какое-то неповторимое своеобразие и одновременно подкупающая наивность. Отец пришёл к родителям и сосватал её. Девушка тогда работала в гостинице рудоуправления. За ней ухаживал шофёр Костя, но «от него сильно пахло бензином», говорила она, и это ей не нравилось. Зато Андрей был «весь из себя» – видный, аккуратный, а главное, уже опытный в обращении с подружками. Ей как раз исполнилось восемнадцать лет, они оформили брак, и она стала его женой.
…А сейчас я танцевал лезгинку, но, по-чеченски: почти не двигался на носках, зато усердно вколачивал свои пятки в землю под выкрики «асса!» Танцевал так, как танцевали её чеченцы, живущие у нас в Белоусовке. Ещё я спел две английские песенки, которые разучивали в школе. Все были уже пьяные, ведь гуляние длилось целых три дня. Мой приезд был только поводом для организации застолья. Там у геологов так принято: была бы только причина собраться.
А отец пел:
Я немало по свету хаживал,
Жил в таёжных безлюдных местах –
И повсюду бурил скважины,
С молотком проходил в руках.
И в пределах седого Урала,
В кишлаках азиатских степей,
Где и ваша нога не ступала,
Там бурил уже недра Андрей.
… «Ну, застали в страстных объятьях немца и русскую женщину в укромном месте, хотя этого делать почему-то было нельзя, даже и при обоюдном согласии, если государства находятся во враждебном противостоянии. А насиловать в военное время можно? Разумеется, нет, хотя это происходит».
.
Такие мысли теперь постоянно мне приходят на ум. Правда, сейчас это общие рассуждения. Меня же интересует в первую очередь мотив, по которому отец расправился с «преступниками». «Где и ваша нога не ступала, там бурил уже недра Андрей». «Да вот же она разгадка, – подумал я, – так бахвалиться и заявлять о себе, да ещё публично, в лучшем случае – не скромно. Может, и тогда ему захотелось «выпендриться», и он устроил публичную казнь, зная, что всё сойдёт с рук».
…Мы сидели вдвоём с ней на брёвнах – пьяные, и она жаловалась мне на отца. На то, какой он неугомонный бабник: «Не считается даже с тем, чья это жена. Год назад его застал со своей женой лучший друг – сменный мастер Григорий. Помню, пришёл к нам домой и говорит: – Андрей, возьму сейчас топор и отрублю тебе голову прямо здесь на глазах у твоей жены. «А он что?» – спрашиваю. – Сидит и молчит. Ничего не говорит. Сидят друг перед другом, между ними на столе бутылка, и выясняют отношения. «Слушай, Юра, не зови меня Марией Ивановной, зови просто – тётя Маруся». Об этом она всё время в промежутках беседы меня просила…
К Марии Ивановне в экспедиции относились недоверчиво, после того как обнаружили, что вскрывает чужие письма. Она работала почтальоном. Но я понял, почему она это делала. Тогда на брёвнах она говорила: «Он не только всех баб «огуливает», но и переписывается с теми, с кем раньше имел «шашни». И такой хитрый: делает это через адреса своих рабочих. Одной из них я написала: «На что ты надеешься, оставь его. Неужели ты хочешь стать его четвёртой женой? Зачем тебе это надо, ведь у него семеро детей?» И тут она опять: « Нет, Юра, я прошу тебя, зови меня тётей Марусей». Тогда мы уже сидели, обнявшись, и целовались, отнюдь не отчуждённо. «Что-то не то, как-то мы не так целуемся», – шевельнулось во мне. Своими губами я даже почувствовал отсутствие бокового зуба на её верхней десне.
Тогда же на срубах осины –
В дни первые, как повстречались, -
Взасос под парами винными
Мы с мачехой целовались.
Из уст между тем в промежутках
Струился поток её жалоб
О том, что отец мой беспутный,
Совсем её не уважает.
О том, что он бабник, изменщик,
Каких только свет не видел,
Пожизненный алиментщик,
Большой ловелас и бесстыдник.
Похоже, она тоже спохватилась, и заговорила вдруг о дочери: «Обрати внимание на мою Тамару. Она славная девушка. А вы молодые. Правда, с Андреем она не ладит…»
Не знаю, как мы расстались. Помню, я шёл к дому возбуждённый какой-то новой для себя внутренней дрожью. А на утро Мария Ивановна прикладывала к голове холодные компрессы и нюхала нашатырный спирт.
…Через три недели с Чукотки прибыла сестра отца, моя тётя Вера, с мужем и сыном. Перед этим Мария Ивановна в спешке уехала в Находку к своим родителям, где мы с отцом ночевали. Оказывается, исчезла она неспроста, потому что опасалась встречи с Верой. Этому была причина. Когда отец работал тоже на Чукотке, она пыталась, а может, и совратила Петра – мужа Веры. Могла произойти неприятная скандальная встреча.
Обычно мы сидели за столом втроём – отец, Пётр и я – и распивали всё, что хотелось (коньяк, шампанское, водку и прочее), разумеется, за счёт отпускников.
– Надо купить телёнка, – говорил Пётр, – заколоть, и поесть свежего мяса. Так и сделали. На Чукотке такого мяса не было.
Однажды засиделись допоздна, вдруг слышим тревожные крики о помощи. Это кричала Вера. Постель гостям стелили на чердаке. Пётр бросился по лестнице туда. Испуганная Вера возбуждённо рассказала, как кто-то только что залез наверх, и стал пробираться к постели, где она спала с сыном Вадиком. Пётр вмиг спустился и кинулся в клуб, который находился напротив. И через некоторое время вернулся с «ночным гостем».
Им оказался матрос из воинской части, а приходил он к Тамаре – дочери Марии Ивановны, зная, где та спит по ночам. На этот раз она была с матерью в Находке, и матрос нарвался на Веру. За столом он сообщил, что девушка давно ему нравится. «Ну, если имеешь серьёзные намерения, – сказал отец, – то можно на первых порах оказать вам помощь». Однако «серьёзные намерения» осуществились у другого ранее демобилизовавшегося матроса.
Сразу после отъезда гостей мы получили известие о том, что Тамара выходит замуж и просит прибыть в Находку, где состоится бракосочетание. Мы поехали на свадьбу. Суженый Тамары мне понравился. Он даже подарил мне импортную зажигалку. Вскоре новоиспечённый муж увёз Тамару к себе на родину в Новосибирск. А мне довелось побывать в воинской части, где служил тот самый матросик, который лазил на чердак нашего дома.
Поначалу в экспедиции меня зачислили дублёром, то есть работником без зарплаты. Я ездил с отцом, знакомился с буровыми работами. А тут в воинской части задумали построить баню, и надо было решить проблему обеспечения её водой. Обратились в экспедицию с просьбой направить специалиста. Старший геолог, вспомнив, что я учусь на гидрогеолога, направил меня в часть. Так я попал в расположение матросов, где был поставлен на довольствие в пожарную команду и, по моему желанию, стал жить в казарме. Воинская часть представляла собой подразделение морской пехоты. Все здесь были одеты в морскую форму, хотя в море не бывали. Когда я подружился с матросами, помню, посмеивался над тем, что они, небось, девчонкам своим, высылая фотки, пишут: «Прости, любимая, за долгое молчание, но я не мог иначе, так как находился в плаванье». В общем, смеялись. Но и они, словно в отместку, подтрунивали над тем, что мне было далеко не безразлично. Оказалось, что девочку Тамару – дочь Марии Ивановны здесь хорошо знают, а ведь она приходилась мне сводной сестрой. Тамаре шестнадцать лет. Она симпатичная девушка, но, наверное, была предоставлена сама себе, и вместо того, чтобы усердно заниматься уроками, хорошо подружилась с матросами воинской части.
Потом, словно вдруг спохватившись,
Мне дочку свою предлагала,
Которая с ранних лет стала
Подругой морских пехотинцев.
После обследования территории было установлено, что подземная вода собирается в трещинных породах, находится неглубоко от поверхности, и добывать её можно без особого труда. Достаточно сделать в ложбине водоём, для чего можно взорвать две-три бомбы, расчистить воронку и запрудить русло. Водоём будет заполняться за счёт притока подземных вод, а далее вода по трубе самотёком будет доставляться в баню. Об этом я доложил интенданту. На том и завершилось моё знакомство с морской пехотой.
Вскоре мне поручили документировать канавы. Велась предварительная разведка на уголь. Отцовская скважина бурилась на вершине сопки, а по склонам рабочие копали канавы, вскрывая угольные пласты. Я шёл по заросшему деревьями и кустарником склону от одной канавы к другой. Вдруг в стороне слева раздался треск и шум от падения чего-то тяжёлого. Спрашиваю у землекопа: – Что это может быть, что-то шарахнулось, когда я подходил сюда? – А это Мишка-медведь шалит, – ответил тот. – Как это «шалит»? И ты не боишься? – удивился я. – А чего мне бояться? Снизу кайлой полосну его, и только. «Ты-то «полоснёшь», – не на шутку встревожился я, направляясь к следующей канаве, – а мне-то что делать, и как защищаться?..»
В лесах виноград и лианы,
И красные грозди женьшеня.
Грибные повсюду поляны,
А речки от раков кишели.
Там в зарослях тигры и вепри,
Медведи и прочие звери.
Там «зыркают» рыси свирепо,
Следя за добычей с деревьев.
Кроме основных работ по разведке залежей угля, экспедиция занималась поисками вулканических пород под названием перлит. Иногда старший геолог Подолян брал меня с собой в маршруты. В тот раз, кроме меня, его сопровождали две студентки из Дальневосточного института. Продвигаться приходилось буквально по руслам ручьёв, потому что на пути были густые заросли. Запомнился маршрут скорее борьбой с клещами, чем описанием горных обнажений. Клещёй было великое множество. Мы снимали их с одежды друг друга, помещали на плоскую поверхность одного геологического молотка, а другим били. Запомнилось и другое. Возвращаясь с объекта, одна из девушек у обочины тропы подняла обломок со следами оруденения и показала Подоляну. «Молибденит», – сказал он, и отметил место обнаружения обломка на карте. «Надо будет провести здесь поисковые маршруты», – добавил он. И вскоре сюда была направлена женщина-геолог. Звали её Валентина Алексеевна. Я же понял, как удивительно просто начинаются порой серьёзные работы по выявлению полезных ископаемых, стоит только найти обломок.
С тех пор мы уже с ней ходили в маршруты. И однажды попали в такой ливень, что за несколько минут промокли до нитки. Тогда-то я и вспомнил «дождичек », который мелкой водной пылью осыпал меня в Заливе Петра Великого. Оказывается, то были лишь «цветочки» морского климата. К счастью, мы наткнулись на заброшенный скит, и по инициативе моей опытной спутницы, там, отвернувшись друг от друга, отжимали одежду. А когда ливень закончился, продолжили путь.
Ходить приходилось в маршруты
Ручьями сквозь заросли бродом –
Искали мы ценные руды,
В пути, изучая породы.
Одетые в «энцефалитки»,
Клещей мы друг с друга снимали,
И гнусные злые москиты
Назойливо нас донимали.
Однажды попали под ливень –
Промокли до самой макушки.
Потом отжимались стыдливо
Со спутницей в дикой избушке.
Валентина Алексеевна была в разводе с мужем. Ей было лет тридцать. После маршрута с ливнем мы подружились, и по вечерам в клубе геологов танцевали вальс. Как-то после танцев я проводил её до дому. Она жила в коммунальной комнате одного из бараков и предложила зайти к ней. За ничего незначащими разговорами попили чаю, и я, чтобы не беспокоить соседей, перелез через окно. На прощание взял в ладони её руку и сказал: «Валентина Алексеевна, а вот когда Жульен держал руку госпожи де Реналь (это я вспомнил Стендаля), она ощутила трепет». Валентина Алексеевна мило улыбнулась, заглянула мне в глаза и сказала: – Юрочка, да от моего «трепета» растёт шестилетняя дочка. Она сейчас у мамы, и я думаю, поскорей бы её забрать сюда ко мне…
Пришло время, и уже я ощутил «свой трепет», который случился в родной Белоусовке.
…Мы познакомились с ней в парке на танцплощадке. А на следующий день встретились в центре около клуба. Я предложил прогуляться.
– Куда же мы пойдём? – спросила она.
– Да хоть куда. Можно по этой дороге, она ведёт сначала к сопке, потом огибает её.
И мы пошли. Я, как мог, развлекал её разговорами о достопримечательностях нашего посёлка, а сам между тем поглядывал на неё с боку, и чувствовал, что меня невероятно влечёт к спутнице. От этого всё окружающее воспринималось с ореолом восхищения. Она доверчиво слушала, и в её больших голубых глазах порой вспыхивал живой интерес, тогда она с любопытством бросала взгляд на меня. Светлые волосы свисали с её плеч, а изящная фигурка скрывалась под тонкой летней одеждой.
Перейдя по мостику речку, мы вышли на окраину посёлка. День был тёплый и солнечный. Мы свернули с дороги и направились к одному из стогов сена.
«Боже мой, как хорошо мне с этой девушкой, – думал я, – и как меня влечёт к ней всё сильней и сильней». Мечта моя, земная и желанная – именно тогда зародилась поэтическая строчка, потому что до этого я ещё не испытывал такого радостного волнения…
К стогу мы приблизились, держась за руки, и расположились в тенёчке. Я расстегнул пуговицы своей рубахи. Она распахнула кофту. Я поцеловал её сначала в щёчку, затем в губы. Потом прижался устами к её светлым волосам. Она скинула сначала кофту, а затем юбку и всё остальное. Я, совершенно ошалевший, смотрел на неё восторженными глазами и испытывал трепетную радость от её чудной красоты.
Она лежала передо мной, моя божественная Фея, обнажённая и очаровательно-красивая. Очертание тела её напоминало гитару. Линия плеч сужалась к талии. А затем расширялась в бёдрах. Хотя (что я говорю?) всё было наоборот: это гитара сделана мастерами-умельцами по подобию женщины, чтобы не только исторгала как инструмент сладкозвучные мелодии, но и напоминала о самом чудесном существе на земле. Бесспорно то, что формы женщины Господь ваял такими, какими они должны были радовать взор и услаждать душу…
Я опустился перед ней на колени и, как дитя, толкаясь лицом в грудь, стал целовать эти девственные бугорки, телесные холмики, которые допустили меня к себе. Она была нежна и податлива. Её широко распахнутые глаза выплёскивали небесный свет, а руки тянулись навстречу мне…
До этого поцелуи мои с девушками были скорее символичными, чем страстными, а отношения чисто платонические. А сейчас, целуя сначала холмики грудей и ложбинку между ними, мои губы бессознательно приближались к талии. При этом руки, обвив стан, нежными движениями осязали овалы её бёдер. На миг, чтобы восстановить дыхание, я приподнялся, и мой взор проник туда, где сгусток шелковистых палевого цвета волосиков прикрывал сокровенное лоно. И тут она резко притянула меня, побудив войти в себя. И я вошёл, вернее, «провалился», не чувствуя преграды. «Что-то не так, – мелькнуло в сознании, – я должен был не упасть в пропасть вожделения, а прорваться в лоно любви сквозь естественную препону, чтобы навеки стать преданным воздыхателем и единственным возлюбленным своей божественной Феи». И вместо того, чтобы раствориться в ней и насладиться соитием, постигая тайны любви, как это делают все люди, и не только они, но и всё живое на свете, я, вырвавшись из объятий, вскочил на ноги и стал лихорадочно натягивать на себя одежду. «Как же это? – недоумевал я, – та ли ты, божественная Фея, с которой я готов был пройти по жизни, или всё это пригрезилось мне?..» Я оторопел, беспомощно озираясь по сторонам. И она, только что мной обласканная Фея, всё поняла, поняла моё разочарование, и заплакала. Едва прикрыв тело платьем, она рыдала без слов оправдания…
Откуда-то взялся и остановился у нашего стога объездчик. Сидя на коне, он молчаливо уставился на нас. Я резко сделал ему рукой знак, чтобы он удалился. «У вас всё тут в порядке?» – спросил он. «Иди, иди», – тихо сказал я. И он медленно поехал восвояси. А потом и мы, уже не глядя друг другу в глаза, пошли назад туда, откуда начали свою романтическую прогулку….
На другой день, увидев меня, идущего от парка к клубу, она радостная кинулась навстречу с распростёртыми руками. «Отчего такая радость?» – подумал я, – ведь чувства раздельны: твои и мои – вырвалась в сознании строчка, которая непременно когда-нибудь займёт место в моих стихах.
И я встретил её сдержанно, не раскрыв рук для объятий. Это была обида невинного «чистого» мальчика за обманутые надежды. Хотя, какой «обман», и какие «надежды»? Ведь мы были едва знакомы.
Не помню даже, как мы расстались, но расстались навсегда. Мне было неполных восемнадцать лет, а ей чуть больше. Да, это была Любовь невинного Агнца.
Остался я девственником, или уже нет, трудно было понять, но что-то во мне изменилось: безудержное очарование девушками исчезло, взамен появилась некоторая сдержанность и «философская» рассудительность. А так как я уже никогда не мог не думать о нелепом поступке отца в дни войны, то и своё внутреннее перевоплощение тоже связывал с этим.
«А разве я не уподобился отцу, отвергнув девушку, бегущую навстречу мне с распростёртыми руками после «романтической» прогулки? – думал я.– И, может, если бы представился случай, то и я «расправился» бы с той, которая до меня отдалась другому?»
Теперь мне казалось, что какая-то есть аналогия между двумя событиями: «смертельной» – фронтовой и «романтической» – мирной.
…Отец до войны и в самом её начале бурил скважины, имея бронь от призыва в армию. Но с января 1942-го и до осени победного 1945-го года находился на фронте.
Мой брат Шуня собирал около клуба разноцветные стёклышки, когда отец подошёл и спросил: «Ты кто – Шурик или Юрик?» «Шурик», – ответил он. «А я твой папа, вот вернулся с войны. Здравствуй, сынок».
Но «папа» не долго пробыл с нами. Весь в медалях и орденах он был нарасхват, и вскоре оказался в объятьях другой женщины, которая давно его поджидала, живя по соседству с «бабкой Рипкой» – матерью отца.
Когда он воевал, матушка два раза в год пешком с нами навещала его мать – бабку Рипку. «Рипкой» её звали мы – внучата. На самом деле её имя было «Агриппина». Мы жили на руднике в шестнадцати километрах от Защиты. Чаще всего матушка нас отводила к бабушке, а сама «обудёнком», то есть в тот же день, возвращалась домой, так как надо было выходить на смену в шахту, где она работала камеронщицей.
…Мария Ивановна появилась в Защите при странных обстоятельствах. Она в конце войны пришла с девочкой к Маханьковым, которые жили по соседству с бабкой Рипкой, и объявила, что её дочка Тамара родилась от их сына, погибшего на войне. Девочке было пять лет. Мария Ивановна поселилась у них и стала работать в паспортном столе. Через отцовских сестёр она заочно познакомилась с Андреем Васильевичем, который вскоре должен был вернуться с фронта, «задурила» сестёр (Веру и Наталью), «разрисовав» им совместную жизнь, возможную после приезда их брата. А когда появился он, она сначала вкрадчиво, а затем и более увлечённо расписала лучезарные горизонты их возможной жизни в далёком Приморье. Отец находился в состоянии эйфории. Его здесь все любили и восхищались им. Ведь он прошёл всю войну и вернулся живым и здоровым. Многие женщины завидовали матушке, говорили: «Твой-то вернулся, прямо кавалер, а наши…»
Гулянки продолжались ежедневно, но тогда он, уже одержимый страстью, даже в присутствии матушки, когда она пришла вместе с нами в Защиту, выйдя в сенки, украдкой
прижимал к себе появившуюся вдруг Марию Ивановну. А появилась она не вдруг и не случайно. Её легко можно понять, ведь могла сорваться наживка, которую она тщательно готовила. К тому же она была готова к борьбе, и не только противостоять моей наивной матушке, но и другим соперницам. Их было много, а мужчин, да ещё таких, как этот сияющий в полном здравии орденоносец – единицы.







