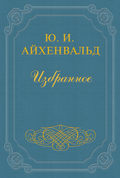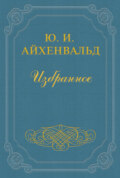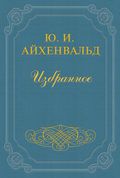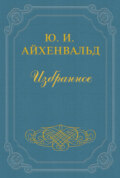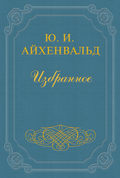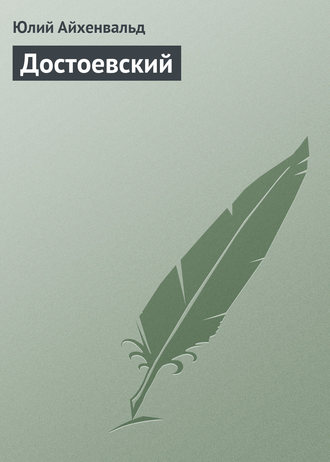
Юлий Исаевич Айхенвальд
Достоевский
Но бесконечность насыщена у Достоевского человеческим, исчерпана этим, его неодолимо тянет к себе исключительно наша специфичность, исключительно homo sapiens или homo insipiens (что, впрочем, для него одно и то же), так что космическое у него отступает и природой он не занимается. Не то чтобы он Совсем затенял ее чудищем Петербурга, Минотавром огромного города: он редко ее описывает, ландшафтом не дорожит, чаще всего замечает в ней тоны и тяжесть свинца, но ее значение и целительность все-таки понимает, и герой «Белых ночей» сбросил бремя со своей души тогда, когда он вышел за городской шлагбаум; и Алеша Карамазов стал целовать землю и обливал ее «слезами радости своей» именно тогда, когда он лицом к лицу увидел природу и «над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд» и «тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною». И все же Достоевский не почувствовал бы выражения Толстого «жениться на природе»; он не ощущает тоски по этой мистической жене. И в противоположность Толстому, сыну «великих матерей», принципиально не выделяющему человека из остальной семьи космоса, он не опускается в недра всеобщего бытия. Далекий от пантеизма и от вольного язычества, ненасытимо алкающий только человеческого, он – не в природе, а над нею, в культуре взрослого, слишком взрослого ума, переходящего в безумие, в тревогах миросозерцания, в перепроизводстве души. Природа для него – ребенок; человек – взрослый. Острая мысль, неугомонная, бессонная, отлучила его от природы, заслонила перед ним внешние декорации мира, всю красоту божьего пейзажа.
И вот, с такими приемами, так понимая всю исключительность и неиссякаемость индивидуального внутреннего мира, проникая в самые подполья его, сыщик души Достоевский раскрывает перед нами ту картину страдания и скорби, которая делает его книги такими страшными. Все противоречия жизни и сердца, все невыносимое, все вопиющее дано у него в своей предельной потенции, и не только не скрыты, в угоду беллетристике, в угоду читательской пугливости, все выступы и пропасти существования, но они еще более обострены и углублены, – ничего не смягчено, ничто ничем не сглажено. Он, при всем романтизме иных его страниц, ничего не стесняется, не боится никаких низин – не всякий бы решился заговорить о Смердякове и его матери Лизавете. Он не дает оправиться от одного впечатления, как уже истязает нас другим, не допускает передышки, взгромождает Пелион на Оссу и нарочно ставит своих героев не только в самые трагические, но и в самые конфузные, стыдные, нестерпимые положения. Он труднее делает жизненные трудности. Нормальное страдание любви усиливается у него тем, что любящее сердце его героев часто не может разобраться, кого же оно собственно любит, и в мучительном недоумении рвется на части. И великое терзание переживают соперники, иногда – отец и сын. Две женщины, две львицы, борьба ожесточенная, и сфинкс любви, на потеху Достоевскому, заостряет свои когти. Он беспощаден и неумолим, он изобретателен в своих муках, этот «жестокий талант», и, может быть, это – единственный писатель, которого хочется и можно ненавидеть, которого боишься, как привидения. Это – писатель-дьявол.
И потому его трудно читать, как трудно жить. Он воплощает собою ночь русской литературы, полную тягостных призраков и сумбурных видений. Ночь объяла Достоевского, и страшно грезил, и безумно бредил этот одержимый дух. Солнце заглядывало в его произведения, чтобы осветить умиление, чистую любовь Лизы к Алеше Карамазову, «детей играющих, возлюбленных детей», их «вечно бегущие ножки» – но оно скоро уходило, и еще тяжелее и гуще опускалась тьма. Достоевский, помимо всего прочего, – замечательный карикатурист; он очень способен к остроумию и шутке, и порою они вспыхивают у него радостными, сверкающими искорками; он умеет быть ласковым и шутливым, он любит этого милого, задорного мальчика Колю, который великодушно заявляет: «Напротив, я ничего не имею против Бога», или этого девятнадцатилетнего прогрессиста Сашеньку, который хочет жениться на Наденьке и, как честный человек, собирается ее обеспечить: получая на службе в конторе двадцать пять рублей в месяц, он в самый день свадьбы выдает невесте вексель на себя в сто тысяч рублей… – но гаснут и они, эти светлые искры, и остается лишь тяжкий юмор над бездной, и если рассказывается анекдот, то непременно скверный, и если раздается музыка, то это играет скрипач над трупом своей жены. Достоевский все отравляет, он все губит кругом себя, и потому так мало вокруг него природы, зелени, что она блекнет и чахнет от его проклятого приближения.