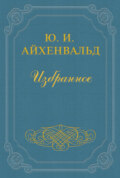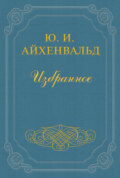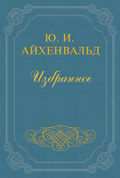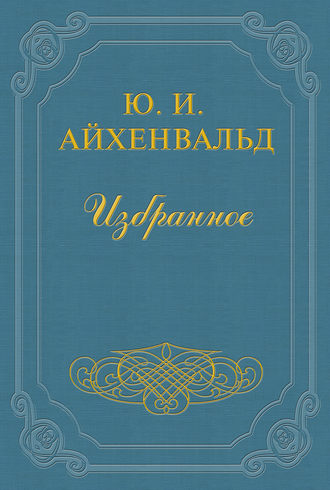
Юлий Исаевич Айхенвальд
Чехов
Дети рано узнают это «многое другое». В одно страшное утро Вася, собираясь в школу, не находит своего пальто: его пропил отец. «Вася в ужасе. Его пальто, прекрасное пальто, сшитое из суконного платья покойной матери, пальто на прекрасной коленкоровой подкладке, пропито в кабаке! А вместе с пальто, значит, пропит и синий карандаш, лежавший в боковом кармане, и записная книжка с золотыми буквами: „Nota bene“! В книжке засунут другой карандаш с резинкой, и, кроме того, в ней лежат переводные картинки. Вася охотно бы заплакал, но плакать нельзя. Если отец, у которого болит голова, услышит плач, то закричит, затопает ногами и начнет драться, а с похмелья дерется он ужасно. Бабушка вступится за Васю, а отец ударит и бабушку… Оттого, что нельзя плакать и возмущаться вслух, Вася мычит, ломает руки. Глаза его безумны, и лицо искривлено отчаянием». Когда, полчаса спустя, Вася, окутанный в бабушкину шаль, уходит в школу, Путохин, его отец, «с лицом, которое я не берусь описать, выходит на улицу и идет за ним. Ему хочется окликнуть мальчика, утешить, попросить прощения, дать ему честное слово, призвать покойную мать в свидетели, но из груди вместо слов вырываются одни рыдания». На следующее утро Вася не находит уже бабушкиной шали. Скоро Вася уж и совсем перестает ходить в школу, скоро он поступает в прачечную, а из нее куда-то дальше, куда-то хуже…
Отец просит у Васи прощения – момент виноватого отца нередко встречается у Чехова. Они, эти люди «не в духе», эти «необыкновенные», – они мучат своих детей, и семилетний Федя с бледным, болезненным лицом, от нелепых окриков своего отца часто за обедом перестает есть и опускает глаза, наполняющиеся слезами. И пусть на следующее утро встает отец в хорошем настроении, Федя все равно уже бледен, растерян, серьезен и молчаливо дрожащими губами касается его щеки. Или вот гимназистик, тоже бледный (как много бледных детей!), пьет утренний чай, а против него стоит отец и говорит своим мерным, ровным голосом: «Ты умеешь есть, умей же и работать. Ты вот сейчас глотнул, но не подумал, вероятно, что этот глоток стоит денег, а деньги добываются трудом. Ты ешь и думай…»
Петю Зайкина, шестилетнего мальчика, обижает уже не папа, а мама. Папу, напротив, он сам обидит. Ведь его папа – в числе обиженных, в числе «лишних людей». Он возвращается из города на дачу. «Петя сидит за столом и, громко сопя, вытянув нижнюю губу, вырезывает ножницами из карты бубнового валета». Оказывается, мама «поехала с Ольгой Кирилловной на репетицию играть театр»; никого нет дома («Только я один дома», – заявляет Петя), обеда не готовили, а Петя «ел молоко» – для него купили молока на шесть копеек. Петя не смущен своей голодной участью и засыпает отца вопросами: зачем комары сосут кровь? папа, ты умеешь представлять в театре? Раздраженному и голодному Зайкину не до вопросов – он сердится на ребенка, придирается к нему, грозит ему «уши оборвать»… «Петя вскакивает, вытягивает шею и глядит в упор на красное, гневное лицо отца. Большие глаза его сначала мигают, потом заволакиваются влагой, и лицо мальчика кривится. „Да ты что бранишься? – визжит Петя. – Что ты ко мне пристал, дурак? Я никого не трогаю, не шалю, слушаюсь, а ты… сердишься! Ну, за что ты меня бранишь?“ Мальчик говорит убедительно и так горько плачет, что Зайкину становится совестно». Они мирятся, отец и сын; Петя утирает рукавом глаза, садится со вздохом на прежнее место, показывает свою «насекомую коллекцию» – ведь Ольга Кирилловна, спутница мамы по репетициям, научила его прикалывать насекомых.
Но все это – преходящие горести, сравнительно мелкие уколы жизни. Все это – ничтожные капли в том море детского страдания, которое разливается по свету. Что «молоко» Пети перед «устрицами» того голодного мальчика, который осенними сумерками стоит на московской улице рядом с голодным отцом? Гнетет сознание эта живая скульптура голода. Или вспомните тринадцатилетнюю убийцу, девочку Варю, которая укачивает неспящего ребенка, а самой ей так «спать хочется». Или этот несчастный, трижды несчастный Ванька Жуков, со своим письмом к дедушке: «Милый дедушка, Константин Макарыч! И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался». Каждый день его бьют у сапожника, и каждый день ему «еды нету никакой». «Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают». Каждую ночь ему не дают спать, он качает люльку. И вообще – «нету никакой возможности, просто смерть одна». «Милый дедушка, – стонет Ванька, надрывая свое и чужое сердце, – приезжай, милый дедушка, Христом Богом тебя молю, возьми меня отсюда. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу… Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой… А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай».
Все человеческое в каждом из нас вместе с Ванькой взывает к милому дедушке – приезжай. Но дедушка не приедет. До него не дойдет письмо Ваньки с наивным адресом, не повезут этого письма «на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами» – дедушка не узнает, дедушка не приедет. Много писем в мире, много жалоб не доходят по назначению, к мировому дедушке, – и люди тщетно ожидают себе заступника…
Нет большей печали, чем когда ребенок принимает на свои плечи горе взрослое. Как в осажденной крепости, счет жизни превращает месяцы в годы, и дитя до времени становится человеком, и человеком страдающим. Однако сквозь гнетущую пелену страдания все-таки сквозит детская радость, детская шалость и удивление. Ванька жалуется на голод и побои, но в то же время он описывает и Москву, чудеса ее лавок и то, что «со звездой ребята не ходят». Это детское, это малое еще сильнее и мучительнее оттеняет большую скорбь ребенка – скорбь не по росту. Грезится Ваньке родная деревня, и дед на печи, и собака Вьюн; грезится ему, что дедушка исполнил его просьбу, взял с елки у господ золоченый орех и спрятал в зеленый сундучок – но от этих грез сейчас пробудит Ваньку пинок сапожника. Дедушка не приедет, и в детском сердце застынет горе, никем не услышанное, никем не облегченное, и на всю жизнь – вероятно, на жизнь короткую – останется глубокая обида и боль, боль…
Ребенка сживают со свету. Ванька Жуков так мало занимает места на этом свете, и все-таки его сживают, и «нету никакой его возможности», и он «помрет». Еще меньше места занимает ребенок безответной, кроткой Липы («В овраге»). «Это был маленький ребеночек, тощенький, жалкенький, и было странно, что он кричит, смотрит и что его считают человеком и даже называют Никифором. Он лежал в люльке, а Липа отходила к двери и говорила кланяясь: „Здравствуйте, Никифор Анисимыч!“ Кому он мог помешать? Ведь даже и в будущем Липа сулила ему так мало и скромно – она пела над его колыбелью: „Ты вырастешь большой, большой! Будешь ты мужик, вместе на поденку пойдем! На поденку пойдем“. Только. Между тем как она его любила! „Маменька, отчего я его так люблю? Отчего я его жалею так? – продолжала она дрогнувшим голосом, и глаза у нее заблестели от слез. – Кто он? Какой он из себя? Легкий, как перышко, как крошечка, а люблю его, люблю, как настоящего человека. Вот он ничего не может, не говорит, а я все понимаю, чего он своими глазочками желает“. Легкий как перышко ребенок, единственное достояние Липы, кому-то мешал. Оказывается, ему завещали клочок земли. Этого не выдержала хозяйственная Аксинья, и она плеснула на Никифора кипятком. „После этого послышался крик, какого еще никогда не слыхали в Уклееве“», – такого крика, быть может, никогда еще не слыхали и в русской литературе…
Никифор умер, освободил то маленькое место, которое он занимал на земле, – освободил его для взрослых. Борьба за существование происходит не только между равными силами: нет, большие борются с маленькими и, как Аксинья, выходят из этой борьбы победителями.
Дети скорбят и недоумевают. Ребенок идет мимо кладбища; он знает, что за его оградой под вишнями день и ночь спят его отец и бабушка. «Когда бабушка умерла, ее положили в длинный, узкий гроб и прикрыли двумя пятаками ее глаза, которые не хотели закрываться. До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики, посыпанные маком; теперь же она спит, спит… Думает дитя о смерти, которая так недавно взяла к себе мать и дядю Сережи. „Смерть уносит на тот свет матерей и дядей, а их дети и скрипки остаются на земле. Покойники живут на небе где-то около звезд и глядят оттуда на землю. Выносят ли они разлуку?“ Вот на кладбище говорят девочке, что „тут лежит ее мама“, но девочка, маленькая, радостная, счастливая, жмурясь от яркого света, играет на могиле своей матери. Быть может, именно это неведение, эта игра и утешит маму? Но ведь не все девочки-сироты играют.
Две из них, бледные, печальные, недавно потерявшие мать, сидят обе в одном кресле, „прижавшись друг к другу как зверьки, которым холодно, и прислушиваются к шуму на улице: не отец ли едет?“ По вечерам, в темноте и при свечах, они испытывают тоску. И непонятно им: как это можно говорить о чем-нибудь и смеяться, когда умерла мама? И можно ли внимательно относиться к урокам, когда умерла мама? „Итак, у Адама и Евы было два сына, – сказал Лаптев. – Прекрасно. Но как их звали? Припомни-ка!“ Лида, по-прежнему суровая, молчала, глядя на стол, и только шевелила губами, а старшая, Саша, смотрела ей в лицо и мучилась. „Ты прекрасно знаешь, не нужно только волноваться, – сказал Лаптев. – Ну, как же звать сыновей Адама?“ – „Авель и Кавель“, – прошептала Лида. „Каин и Авель“, – поправил Лаптев. По щеке у Лиды поползла крупная слеза и капнула на книжку. Саша тоже опустила глаза и покраснела, готовая заплакать». Плачут девочки. Их утешает чужая женщина: «Жаль мамы, и мне жаль, сердце разрывается, но что же делать? Ваш папа приедет сегодня». Папа действительно приехал, но какой папа! Дети целовали ему холодные руки, шапку, доху, а он не спеша приласкал девочек и объявил, что завтра едет в Петербург.
Дети становятся несчастными или пошлыми взрослыми людьми. Глаза у девочки Кати неизменно выражают одно и то же: «Все, что делается на этом свете, все прекрасно и умно». «Студенты дерутся в университете?» – спрашивает она у своего опекуна-профессора. «Дерутся, милая». – «А вы ставите их на колени?» – «Ставлю». И ей было смешно, что студенты дерутся и что я ставлю их на колени, и она смеялась. Это был кроткий, терпеливый и добрый ребенок. Потом жизнь смяла ее, и она уже больше не смеялась.
Когда-то приходила к отцу маленькая девочка, которая очень любила мороженое и мороженое считала мерилом всего прекрасного. «Один пальчик назывался у нее фисташковым, другой сливочным, третий малиновым и т. д. Обыкновенно, когда по утрам она приходила ко мне здороваться, я сажал ее к себе на колени и, целуя ее пальчики, приговаривал: сливочный… фисташковый… лимонный…» Но годы прошли, и эта девочка обратилась в нарядную барышню; она смеется отрывистым смехом, которому научилась в консерватории, и щурит глаза, когда в доме бывают мужчины. Теперь, когда она войдет к отцу, он по старой привычке целует ее пальцы и бормочет: «фисташковый… сливочный… лимонный…» – но остается «холоден, как мороженое». И думается ему: «Дочь моя часто видит, как я, старик, знаменитый человек, мучительно краснею оттого, что должен лакею; она видит, как часто забота о мелких долгах заставляет меня бросать работу и по целым часам ходить из угла в угол и думать; но отчего же она ни разу тайком от матери не пришла ко мне и не шепнула: „Отец, вот мои часы, браслеты, сережки, платья… заложи все это, тебе нужны деньги…“ Я бы не принял ни часов, ни браслетов, ни жертв, храни меня Бог, – мне не это нужно». Девушка, которая любила когда-то мороженое, теперь любит Гнеккера, молодого человека с выпуклыми глазами, молодого человека, олицетворяющего собою пошлость. Благодаря этой барышне в дом старого профессора внесено что-то мещанское и низменное. Узнать прежнюю Лизу можно разве только в одну из тех «воробьиных ночей», которыми богата жизнь. Тогда она мечется в тоске и стонет. К ней входит отец. «Увидав меня, она вскрикивает и бросается мне на шею. „Папа мой добрый… – рыдает она, – папа мой хороший… Крошечка мой, миленький…“ Она обнимает меня, целует и лепечет ласковые слова, какие я слышал от нее, когда она была еще ребенком… Я стараюсь укрыть ее, жена дает ей пить, и оба мы беспорядочно толчемся около постели; своим плечом я толкаю ее в плечо, и в это время мне вспоминается, как мы когда-то вместе купали наших детей».