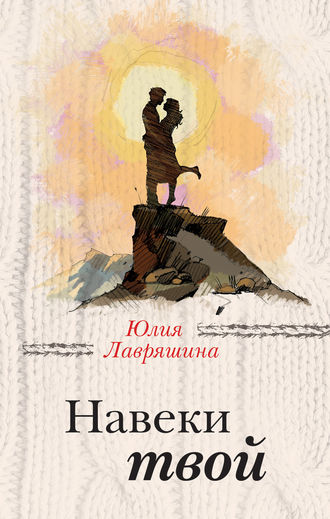
Юлия Лавряшина
Навеки твой
Ее переполняло ликование, причину которого я не очень понимала. Ласково обняв Глеба, она выпроводила его в комнату и уговорила лечь. Вернувшись ко мне, Лэрис возбужденно зашептала:
– Еще в Москве мы запаслись косметическими линзами, они у Глеба в футляре с жидкостью, можешь проверить.
– Ты прекрасно знаешь, что я не стану проверять.
– Знаю, – согласилась Лэрис. – Но главное, чтоб ты не волновалась. В любой момент он может стать безупречно синеглазым! Ну что? Еще вопросы будут?
Сквозь ее растрепанные волосы алмазно блестело замерзшее окно кухни. Я даже не заметила, когда к нам вернулось солнце.
Лэрис вдруг вытянула руку и ухватила мочку моего уха. Я едва не отшатнулась. Я уже забыла эту ее привычку теребить во время разговора ухо собеседника. Пальцы у нее были крупными и мягкими, согревающими кожу.
– Знаешь, Ташенька, что я тебе скажу, – вкрадчиво продолжала она. – Ты просто боишься свернуть с проторенной колеи, вот и стараешься найти, за что бы зацепиться? Ты сама внушила себе, что шаг вправо, шаг влево – расстрел. Никто не говорил тебе этого. Ты даже побоялась оторваться от матери и уехать учиться.
– Тогда погиб Андрей, я просто не могла оставить маму!
– Ну, не совсем тогда… Да и не случись ничего, ты бы все равно осталась здесь. Ты просто прикрыла его смертью свою патологическую трусость. Все за тебя всегда решала мама: ты и книжки ее читала, и говорила ее словами, наверное, даже думала ее мыслями, а себя самой ты всегда боялась. Почему, Наташа? Что в тебе такого страшного? Ты куда? Я ведь с тобой разговариваю!
Снег всхлипнул под ногами, когда я выскочила из подъезда. Снег всегда плачет, когда рядом люди.
* * *
На втором году жизни с нашей кошкой случилось небольшое помешательство на почве нереализованного материнского инстинкта. Мы застали ее за сооружением «гнезда» из наших вещей, оставленных без присмотра.
– Я слышала, что такое случается с собаками, – удивилась тогда мама. – Но чтобы кошка…
Несколько дней Цеска провела в «гнезде», тщательно вылизывая живот. Мама пыталась забрать ее к себе в постель, однако кошка упрямо возвращалась на свой пост. Но однажды она вышла из своего убежища и больше не подошла к нему.
Даже кошке не под силу победить законы природы.
* * *
Когда я вернулась, у моих детей уже заканчивался первый урок. Забравшись в «закуток», я уткнулась в чью-то забытую на столе шапку, пряча горящее лицо. Теплый кроличий мех щекотал щеки, и казалось, что зверек еще может ожить. Андрей бы с легкостью мог поверить в это, а Лэрис… Она бы сделала все, чтобы это осуществить. И, может быть, ей даже удалось бы.
В пустом коридоре раздались чьи-то шаги, и я заставила себя подняться. Когда мать Алешки Романова заглянула в мою сумрачную нору, я уже была на ногах.
– Доброе утро, – улыбнулась Романова. – Я такая растяпа, ключи от дома забыла. Хочу продукты занести да опять на работу, а то, боюсь, сметана прокиснет. Вы Алешку не позовете? Пусть мне свой ключ вынесет.
Она улыбнулась, а я почувствовала, как у меня все стекленеет внутри. Одно лишь слово, и раздастся звон. Ужасный звон!
– Но… – я перевела дыхание, – его же нет в школе. Он не пришел, я думала – заболел.
Мои последние слова потонули в ee крике. Это была не истерика, ничего похожего на плач. Крик шел изнутри, не из горла, он рвался изо всех пор ее тела, и казалось, что кожа сейчас лопнет. Из упавших сумок выкатились мандарины и палка колбасы, но женщина не видела их. Ее глаза подернулись смертельным страхом.
– Я отправила его в школу! Он ушел в школу! – Она цеплялась за меня, причиняя боль, но я и не думала ее отталкивать.
Когда мне удалось перехватить ее обезумевшие руки и сильно сжать их, я произнесла уверенным, твердым голосом:
– Да успокойтесь же вы! Может, он просто решил прогулять? Ему велели привести отца из-за вчерашней драки, может, испугался и не пошел в школу.
Я сама не верила своим словам, но Романова неожиданно услышала меня.
– Да? – В ее взгляде проснулась мольба. – Вы действительно так думаете? Он ничего не говорил мужу, это точно.
Резкий звонок с урока, от которого я всегда вздрагивала, окончательно привел ее в чувство. Неожиданно ловко собрав продукты, она бросилась к лестнице, я едва поспевала за ней.
– У детей сейчас завтрак, я не могу пойти с вами, – кричала я ей в ухо, пытаясь заглушить рев проснувшейся школы. – Я прибегу, как только начнется урок.
Ей было не до меня. Сейчас я принадлежала к тому враждебному миру, где затерялся ее ребенок, и она шла напролом, сбивая чужих детей, которые тоже больше не существовали. Я отстала и несколько секунд постояла на лестнице, пытаясь справиться с собой. Стекло рухнуло, и все внутри горело от цепких осколков.
Наверное, что-то происходило и с моим лицом: директор, поднимавшаяся в этот момент по лестнице, остановилась возле меня и требовательно спросила, что произошло. Не помню, какие слова я нашла в те минуты, когда необходимость держаться перед Алешкиной матерью отпустила меня, и я начала проваливаться в собственное отчаяние.
Но слова явно были не теми – полное, холодное лицо директора даже не дрогнуло.
– Ну, и чего ты ревешь?
«Я реву?!»
– Он в школу приходил? Ты его видела? Нет. Значит, никакой ответственности не несешь. Чего панику развела?
Мне пришлось даже слегка тряхнуть головой, чтобы смысл услышанного дошел до нужного центра. Я всегда с трудом ее понимала.
– При чем здесь ответственность? Он же пропал! Алешка Романов!
– Опять двадцать пять! Он же не из школы пропал. Надо было мамочке провожать его и сдавать с рук на руки, раз он такой… Теперь пусть милиция ищет, мы-то при чем? Давай, бери себя в руки, у тебя дети вон уже сами в столовую построились. Здравствуйте… Здравствуйте…
Я боялась обернуться ей вслед, потому что внезапно поняла, что же именно мне мучительно хотелось вспомнить, когда передо мной появлялась наша опытная, энергичная, лучшая из лучших директор. Это была фраза из Моэма, те самые слова, которые Джулии говорит ее сын. О том, как ему страшно войти в комнату, если он знает, что мать там одна. Вдруг там не окажется никого… Это ощущение охватывало и меня каждый раз, когда я встречалась с этой красивой, дородной женщиной, слишком откровенно пахнущей дорогими духами. С женщиной, ни разу не поинтересовавшейся здоровьем моей матери.
Отработанным движением я нащупала чью-то руку, и за мной потянулся коротенький строй. Каждая ступенька опускала в бездну отчаяния: я опять ничего не могу сделать… Среди столовских паров, исходящих от размякшей жареной рыбы и комковатого пюре, меня охватила тошнота, но я упрямо продолжала пихать в себя завтрак. Картошка оказалась, как обычно, сладковатой, будто кто-то вечно путал баночки с солью и сахаром, а рыба скользила по тарелке, словно ее только вытащили из воды. Дети украдкой поглядывали на меня и переговаривались шепотом.
Собирая грязную посуду, дежурная ахнула:
– А вон опять Алешкина мама!
Я вскочила, едва не опрокинув стул (кто-то подхватил его сзади), и увидела, как Романова пытается пробраться к нам – красная, запыхавшаяся, все с теми же перегруженными сумками в руках.
– Он дома, дома! – закричала она, пробиваясь сквозь поток школьников. – Вы были правы, он побоялся позвать отца в школу и решил прогулять. А когда мы утром спускались, он помчался вперед и спрятался под ступеньками. Вы же знаете, какая темень у нас в подъездах! Я и не заметила, решила, что Алешка уже убежал в школу. Здесь же всего два шага… А он преспокойненько вернулся домой и просидел целый день у телевизора.
Я испугалась, что сейчас расплачусь:
– Слава богу! Так вы уже из дома? А почему с сумками?
– Да… В самом деле, почему я не оставила их дома? – озадаченно пробормотала Романова и счастливо рассмеялась.
* * *
Если не вычесывать кошку, она может наглотаться собственной шерсти до того, что в животе у нее образуется плотный комок. И тогда необходима операция, иначе животное может погибнуть.
Почему-то именно вычесывать Принцессу я постоянно забывала, и когда внезапно спохватывалась, то с ужасом представляла, как легко могу стать причиной гибели своей любимицы. Тут же хватала железный гребень (пластмассовый электризуется о шерсть), ловила кошку и, вопреки ее желанию, проводила процедуру. Но после этого мое чувство ответственности опять надолго засыпало.
* * *
После обеда на пластиковом подносе остались две, даже на вид теплые, булочки. Алешки не было, а я не смогла съесть свою. Долго посматривала на них, прежде чем решилась что-то забрать из столовой. Мама никогда не позволяла этого. Обернутые тонкой бумагой, булочки грели руки – зимой в школе всегда было холодно. Слесарь то и дело врывался во время урока в класс и с озабоченным видом ощупывал батареи, но эти настойчивые манипуляции их не согревали. К счастью, дети за урок едва успевали остыть от перемены. Оставалось завидовать их природному умению согреваться, а самой кутаться в подаренную гардеробщицей шаль.
Потом, так и не преодолев внутреннюю дрожь, было зябко возвращаться домой посуровевшей улицей, еще не оживленной, не освещенной разноцветными фонарями. Булочки уже не сочились теплом, хотя я несла их под пальто, осторожно, как новорожденных котят, прижимая к телу.
Еще на лестничной площадке, задержав ключ у замочной скважины, я услышала голос Лэрис, выкрикивавшей ругательства. Было странно слышать такие слова из-за нашей двери, будто в опустевшую квартиру вселился злой дух и буйствует на свободе. Каждый из соседей наверняка уже приложил ухо к отсыревшей за зиму двери, чтоб было о чем поговорить за ужином.
Тихонечко, боясь угодить в поток раскаленной лавы, я проскользнула внутрь, разделась и, прихватив остывшие булочки, на цыпочках прошла в комнату. Хотя Лэрис металась, заполняя все небольшое пространство, первым я увидела посвежевшее лицо Глеба, откровенно любующегося неукротимостью стихии с дивана, как со спасательной лодки. Не замечая меня, Лэрис со всей силы припечатала подоконник и чуть ли не зарычала. Мне в голову не пришло ничего более умного, чем сказать:
– Привет! Я вижу, вы тут не скучаете.
– О! – радостно воскликнул Глеб и энергичными знаками принялся заманивать меня на диван. – Скорее, пока тебя не затоптали! Перебежками, я прикрою! Что это у тебя?
Он бесцеремонно отобрал у меня пакетик с булочками и, развернув, издал восторженный вопль.
– Лэрис, продолжай, прошу тебя! А мы пока перекусим. Выспался я на славу, теперь хочется хлеба и зрелищ.
Вторая булочка предназначалась для Лэрис, но у меня вдруг проснулся такой аппетит, что я не смогла отказаться.
– Что происходит? – поинтересовалась я и с удовольствием надкусила сладкую сдобу.
– Последняя плюха идиотам! Очередной «инвест» отдал концы. Нам представилась уникальная возможность наблюдать за проявлением скорби одного из вкладчиков. Лэрис, не отвлекайся, пожалуйста!
– Пошел к черту!
– Лучше бы ты проиграла их в рулетку, честное слово! Там хоть надежда на выигрыш остается. Азарт, к тому же, не последнее дело…
– Можно подумать, ты играл! – Лэрис плюхнулась в кресло, и взгляд ее впился в одну точку. – Кошмар, просто кошмар…
– Ты много потеряла?
Я протянула ей половинку булочки, Лэрис взяла, не глядя.
– В этом доме найдется хоть что-нибудь выпить? Или как за кофе придется бежать в киоск на другой конец города?
Ей снова удалось застать меня врасплох. Пойти навстречу означало раскрыть свой тайник в кладовой, о существовании которого не подозревала даже мама. И уж, конечно, мне не хотелось делиться своими секретами с Лэрис. Особенно с Лэрис. Но я не могла и не поддержать ее.
Они молча проследили за мной, и, вернувшись, с початой бутылкой, я обнаружила на их лицах странную озабоченность.
– Наливай, – я сунула бутылку Глебу и достала маленькие рюмки. – Кажется, там колбаса оставалась в холодильнике.
– Я принесу, – с готовностью вызвалась Лэрис и легко выскользнула из комнаты.
– Почему ты ее прячешь? – вполголоса спросил Глеб, аккуратно разливая водку.
– Какое тебе дело? Мама не выносит даже вида этой отравы. Наверняка наш отец крепко выпивал. Он же был поэтом… Лэрис уже сообщила тебе?
– А ты делаешь только то, что нравится твоей маме?
– Мне только исполнилось двадцать. Считаешь, уже пора хамить ей в лицо?
– Я считаю, что если мать любит… своих детей, то она сможет принять и оправдать все, что с ними происходит.
– Ты не понимаешь! – Я изнывала от бессилия объяснить ему. – Наша мама – это что-то особенное! Она… чистая, понимаешь? У нее даже помыслы чисты, не говоря уж о поступках. Она просто не переживет, если узнает обо мне что-нибудь… плохое.
От болезненной гримасы, исказившей лицо Глеба, мне становилось еще тяжелее. Боль, разделенная с ним, почему-то возвращалась ко мне удвоенной. Уверенным движением он взял мою руку и начал медленно перебирать пальцы. Это был не тот человек, который корчился над унитазом сегодня утром, но и не тот, с которым мы только что потешались над Лэрис. «Сколько же лиц и душ таится в тебе?» – с невольным страхом подумала я, хотя он, напротив, пытался меня успокоить.
– Я тоже так думал… о своей матери. И это вычеркнуло из моей жизни несколько лет. Но Лэрис удалось убедить меня в том, о чем я только что говорил тебе. Мать способна понять даже самое мерзкое в тебе.
– Я думала, вы познакомились с Лэрис уже после смерти твоей мамы.
Он вскинул голову, и в темных глазах промелькнуло что-то недоброе, угрожающее. Разжав пальцы, он отпустил меня, но в этот момент я заметила у него на запястье маленькую татуировку – четырехзначное число. Потянулась разглядеть ее, но Глеб отдернул руку так, словно я ударила его плетью. Водка расплескалась, и на салфетке расплылось коричневое пятно.
– Что тебе надо? – Глеб вскочил, сдернул салфетку и, скомкав, снова швырнул ее на стол.
– Да что ты? Я просто хотела взглянуть. Что это у тебя?
– Ничего. Глупость одна.
Он опустил рукав и застегнул на манжете пуговицу. Теперь передо мной снова был другой человек, с которым не хотелось оставаться вдвоем в комнате.
– Тебе никто не говорил, что ты не в меру любопытна?
– Из-за чего ты взбесился? Я даже не поняла.
Мои слова не сразу ослабили натянувшуюся до предела пружину. Он приходил в себя медленно, и было заметно, как краска постепенно приливает к щекам.
– Ох, – наконец смущенно выдавил Глеб, – прости, пожалуйста! На меня иногда находит… Сейчас я все уберу. Надо чистую салфетку.
Он открыл нужный ящик прежде, чем я успела подсказать, где их найти. «Кажется, ночью он успел пошариться не только в книгах». Тревожная догадка была сбита вплывшей с тарелочками Лэрис.
– Я тут нашла еще банку горошка и порезала лучку. Садись, Глеб, давай… За что?
Она любовно оглядела нас повлажневшими черными глазами и провозгласила:
– Чтоб они сдохли!
– Благородно, – кивнул Глеб и, выпив залпом, просипел: – За это – с удовольствием!
– Андрей никогда не пил, – я спохватилась, что это прозвучало как упрек, но было уже поздно.
От них обоих так и пахнуло холодом. Внезапная тишина разбудила кошку, надменно блеснувшую зеленью глаз. Ее легкий зевок нарушил безмолвие, и Лэрис захлопотала вокруг столика, подкладывая нам кусочки колбасы.
– Как здорово, что мы сейчас вместе, ребята. Честное слово! Я уже давно не выпивала так, по-семейному, в тесном кругу. Эх, Наташка, почему ты живешь так далеко? Могли бы вместе снимать квартиру и частенько садились бы вот так, чтобы видеть друг друга. И поговорили бы не на ходу, а в спокойной обстановке.
– Перестань, Лэрис, тебя бы хватило на два таких вечера, – насмешливо протянул Глеб. – Уж я-то тебя знаю. А потом ты удрала бы в какой-нибудь ночной клуб. И меня бы утащила.
– Лэрис, ты ходишь по ночным клубам?!
Она, как воробей, задергала головой, переводя взгляд с Глеба на меня.
– Ну, бывает, и что? Зато хоть будет что вспомнить! А ты, Наталья, что вспомнишь? Как бутылку в кладовке прятала?
Задохнувшись, я выскочила из комнаты, даже не расслышав фразы, резко брошенной Глебом. Но Лэрис тут же помчалась за мной следом. Поймала меня на пороге ванной и стиснула горячими сильными руками.
– Ну, прости дуру! Ты же знаешь, я брякну что-нибудь, потом сама жалею. У меня просто сердце разрывается при мысли, как ты тут чахнешь одна. Но я не буду лезть. Хочешь, живи здесь, работай в своей школе, читай книжки, пиши стихи… Ты еще пишешь стихи? Но если тебе осточертеет такая жизнь, ты только сообщи, и я все тебе устрою по-другому. Ну все, маленькая, успокойся! Пойдем, выпьем немного, и полегчает. Ты ведь знаешь, как это бывает…
Лэрис обняла меня и привела назад, но неловкость еще некоторое время давила на веки, не давая поднять глаз. Только после третьей рюмки я решилась взглянуть на Глеба.
– Кто-то звонит, – встрепенулась Лэрис и хотела было подняться, но я не могла позволить ей еще и встречать моих гостей. Обида таяла, но островки ее, как остатки снега в апреле, не давали поверить в окончательный приход весны.
– Стой!
Его крик дернул меня назад, как внезапно наброшенное лассо. Обернувшись, я так и застыла с замершим на губах вопросом. Никогда прежде не доводилось мне видеть такого страха на лице мужчины. Лэрис рванулась к нему, как наседка, спеша спрятать под большими крыльями.
– Ну что ты? Это всего лишь кто-нибудь из Наташкиных знакомых. Наташа не пустит его сюда. Правда, Наташа? – зачастила она, прижимая и поглаживая его голову.
Я растерянно развела руками:
– Пожалуйста, если ты так хочешь… Я только не понимаю…
– А тебе и не надо этого понимать, – твердо ответила Лэрис и кивком показала, чтобы я шла к двери.
Отперев, я едва не ахнула, поразившись, как могла забыть про Диму за эти дни. Он стоял на пороге с видом огромного побитого сенбернара и прятал глаза.
– Что случилось?
Он жалко усмехнулся.
– Очень заметно? Я все ей сказал.
– Господи, зачем?
– Сам не знаю… Меня все время тянуло это сделать. Ты меня выгонишь?
Я чуть отступила, пропуская, и стряхнула снег с его шапки. Крупинки попали мне на ногу и кольнули холодом.
– Метет. Я шел пешком. Казалось, в автобусе все будут смотреть на меня.
– Зачем ты поторопился? Разве мы уже что-то решили?
Он с облегчением снял тулуп и, накинув его мне на плечи, внезапно стиснул и стал целовать мои волосы. Его движения, всегда чуть неуклюжие, как у ребенка, обычно умиляли меня и поднимали в душе волну нежности, но сейчас я с трудом сдерживалась, чтобы не оттолкнуть его. Улучив момент, когда его руки слегка разжались, я высвободилась и вдруг увидела Глеба, стоявшего за Диминым плечом. Где-то на заднем плане маячила и Лэрис, но она оказалась затерта двумя огромными фигурами.
Сейчас Глеб ничем не напоминал брата: у того просто не могло быть такого выражения лица. Пришлось всех познакомить, попытаться объяснить Диме, откуда взялись эти странные гости, и при этом постараться не раскрыть ничего, еще немного выпить с ними, слабея от каждого глотка, и удрученно думать, что сегодня придется спать не одной… Я так и не успела решить, как при посторонних называть Глеба, ведь прежде нужно было принять другое, более важное решение, и представила его, как друга Лэрис. Его нервное лицо передернулось при этих словах, но вряд ли они ждали чего-то более определенного.
Когда бутылка опустела, Дима неожиданно вскочил и выволок меня на кухню.
– Так, а теперь говори – кто он? Почему он так смотрит на тебя?
– Я уже сказала: он с Лэрис.
– Это я слышал. Только не пытайся убедить меня, что такой красавчик может, видя тебя, позариться на эту толстуху!
– Когда ты злишься, из тебя так и прет пошлость…
– Я же врач. Мы все в какой-то мере пошляки.
– А я-то думала, у тебя гуманная профессия.
– О нет! Ты, как всегда, ошибалась.
– Что ты сказал своей жене?
Он мгновенно выпустил пар и скукожился:
– Я не назвал тебя, не бойся. Да и зачем ей твое имя? Я просто сказал, что нашел удивительное существо, которое воспитывает детей и пишет стихи…
– Идиот!
– Я сказал, что квартиру оставляю им с дочкой, но она все равно ушла вчера к своим родителям.
– А сегодня?
– А сегодня вернулась… И сказала, что ей будет легче делить меня с кем-то, но не терять совсем. Знаешь, она ведь очень красивая, у нее столько поклонников было в институте. Почему она выбрала меня?
Действительно, странно… Я не произнесла этого вслух. Мне все еще хотелось попробовать прожить жизнь, никого не обижая. Но в этот момент мы оба уже понимали – все странным образом изменилось сегодня, независимо ни от моей воли, ни от воли его жены.
– Она выбрала тебя потому, что почувствовала: этот парень невероятно порядочен, он никогда не бросит в беде близкого человека, какие бы фантазии ни пришли ему в голову.
Это был своего рода сеанс гипноза. Если бы мы оба не были немного пьяны, возможно, внушение и не подействовало, но сейчас Дима слушал меня как завороженный.
– Я ведь никогда не говорила, что хочу за тебя замуж. Откуда тебе было знать, что у меня на уме? Напрасно мужчины воображают, что каждой женщине не терпится выскочить замуж. Мы оба прожили несколько прекрасных недель, но даже девять с половиной и те кончаются… Только не пытайся начать отсчет снова, ладно?
Только на пороге он встрепенулся и спросил, с подозрением заглянув мне в глаза:
– Это из-за него, да? Я ведь сразу понял… Между вами будто электрические волны все время пробегали.
Из комнаты донесся смех Лэрис (как обычно – взахлеб!), и я рванулась туда, почти непроизвольно вытолкнув Диму дверью. Она захлопнулась так легко, словно ее подхватило течение жизни, унеся от меня и Диму, и его неведомую жену, которую он все еще любил и с наслаждением мучил. Все-таки странная это специальность – хирург…
* * *
Принцесса всегда считалась моей кошкой. Мне не удавалось даже уснуть, пока ноги не придавит тяжелое в сонной расслабленности маленькое тело. Но год назад она внезапно ушла к маме и с этого момента спала только с ней.
Говорят, кошки чуют болезнь и пытаются лечить необъяснимыми токами своего организма. Но Цеска была кошкой мелкой породы. Опухоль оказалась ей не под силу.
* * *
Я проснулась с ощущением радостного спокойствия – Лэрис рядом. Но мое маленькое солнце тотчас покрылось пятнами: все перипетии последних дней не замедлили напомнить о себе. Повернувшись на бок, я некоторое время смотрела на обмякшее во сне лицо, и горестный стон умирающей радости звучал во мне все сильнее: о, Лэрис…
По-настоящему мы с ней никогда не дружили. Подруг у нее было слишком много, а я не хотела быть лишь одной из… Но, как я ни сопротивлялась, все же попала под лучезарное воздействие ее жизнелюбия, которого не омрачила даже гибель моего брата.
Задержав ладонь в сантиметре от голого плеча, я кожей ощутила исходящее от Лэрис тепло. Она не улыбалась и не причмокивала во сне, и все же ее вид вызывал умиление, легонько вытесняющее обиду. Стараясь не задеть Лэрис, я выбралась из постели и, наспех одевшись, вышла из дома. Я должна была увидеть маму прежде, чем какое-либо решение перевесит чашу весов. Хотя она почти не говорила со мной, я надеялась прочесть подсказку в ее угасающих глазах, но, войдя в палату, нашла маму спящей.
Когда врачи отказались оперировать, мама недрогнувшим голосом попросила не остригать в таком случае волосы, так украшавшие ее. Это желание умереть красивой показалось мне проявлением слабости, и я испытала неловкость за человека, которым привыкла гордиться. И все же так и не осмелилась намекнуть, что истончившиеся черные пряди, разметавшиеся по больничной наволочке, уже не красили ее. Они умерли и ждали, когда мама последует за ними.
Единственно живыми казались крошечные сережки, поблескивающие в пухлых мочках ушей. Раньше мама носила длинные серьги, доставшиеся от бабушки, но несколько лет назад Андрей подарил ей эти, с фианитом, вместо бриллианта. Каждое лето он разносил телеграммы, стараясь заработать побольше, и однажды я вызвалась ему помочь. Но мне достались такие немыслимые адреса, что я попросту закопала бланки в одном укромном месте. Конечно, предварительно прочитала их все и убедилась, что ничего особенного там не было. Я со смехом призналась в этом брату, но он не рассмеялся, а пришел в ярость, обругал меня и потащил откапывать телеграммы. До темноты мы разносили их по адресам, и всюду нас облаивали цепные собаки.
«Не говори маме», – попросила я, хотя знала, что Андрей способен наорать на меня, но не расстроить ее. Для него она была идеальной женщиной…
Родившись в Петербурге и там же став литературоведом, мама была воспитана в тех традициях русской интеллигенции, что склоняли людей к самопожертвованию, самоотречению, и первым подобным актом для нее стало замужество. Случайно познакомившись с нашим будущим отцом, неизвестным поэтом из Сибири, она была настолько поражена его необузданным талантом и очевидным невежеством, что увидела свое предназначение в постоянном вытягивании этого человека из бездны мрака. С чемоданом спасательных канатов мама последовала за ним в городок, равный по величине одному из районов Петербурга. Вложить свои познания здесь было некуда, кроме обычной средней школы. Но главным делом жизни она по-прежнему считала развитие своего юного талантливого мужа.
Говорят, они весело жили в тот первый год… Из ЗАГСа, за неимением денег, они отправились не в ресторан, а в заезжий зоопарк. Молодая чета Смирновых – Владимир и Анна. В общении с животными они оказались не оригинальны: их внимание первым делом привлекли обезьяны. Они подошли к большой клетке, где размещалась семейная пара, и прочитали табличку: «Гамадрил Вовка и гамадрил Нюрка». Мама говорила, что так она не хохотала никогда в жизни.
Хотя, судя по ее рассказам, в тот год ей доводилось много смеяться. Она часто вспоминала, как однажды отец выступал перед первоклассниками с циклом детских стихов. Дело происходило в нашей школе, но не в мамином классе – она вела литературу у старших. На этот урок учительница привела своего пятилетнего сына, чтобы он тоже приобщился к поэзии. Целый час малыш просидел на первой парте, не шелохнувшись и чуть приоткрыв нежный рот. Отец, конечно, был тронут таким вниманием ребенка.
В конце выступления он, как водится, поинтересовался: есть ли вопросы? Дети засмущались, и только крошечный сын учительницы поднялся из-за парты, с мольбой вытянул ручку и попросил: «Дяденька, дай потрогать!» Отец даже слегка испугался: «Что – потрогать?» Оказалось, мальчик весь урок не сводил глаз с блестящей лысины моего отца, образовавшейся чуть ли не в девятнадцать лет. Желание ребенка было удовлетворено, а мама едва не задохнулась от смеха на последней парте. В то время она уже была беременна братом, и сидеть за партой для первоклассника было тесновато, но мама никогда не пропускала выступлений мужа, полагая, что в ее присутствии он собирается.
Благодаря маминым усилиям вышел его первый и единственный сборник, отредактированный ею с такою тщательностью, что в издательстве не сочли нужным что-либо менять. Почти одновременно с книгой появился на свет и мой брат. С самого рождения Андрей обещал быть круглым отличником, ухитрившись явиться на свет пятого числа пятого месяца пяти килограммов чистого веса. Когда ему исполнилось пять лет, отец исчез из дома, оставив записку, которую нам с братом не суждено было прочитать. Я уже не помню, плакала ли тогда мама. До гибели Андрея мне не приходилось видеть ее слез.
– Почему мы не ходим в церковь?
Ни один мой вопрос не мог застать маму врасплох.
– Потому что теперь туда ходят все.
– А раньше? Мы ведь и раньше не ходили.
Она отодвинула тетрадь с планами, которые ненавидела, и, притянув меня, усадила к себе на колени. Теперь мои глаза были на уровне ее волос, и я могла отыскивать в них приметы старости.
– Когда ушел ваш отец, я начала работать по двадцать часов в сутки, чтоб хотя бы прокормить вас. Если бы все это время я молилась Богу, вы умерли бы с голоду. Вот тебе и ответ. Ты поняла?
– Поняла. Мне тоже не верится, что нас будут наказывать еще и на том свете.
Мама беззвучно рассмеялась:
– А, вот ты о чем! Не знаю, не знаю… А вдруг все-таки накажут?
Я только помотала головой и слезла с ее колен. После смерти не будет ничего – ни прощения, ни наказания, я твердо это знала. И не могла представить что-либо страшнее этого…
…Я не встречала в жизни женщины красивее, чем наша мать. Ее темные длинные волосы всегда были распушены так, словно в лицо ей дышал никем больше не ощущаемый теплый ветер, а щеки розовели от едва сдерживаемого смеха. Казалось, она всегда смеется: глаза блестели янтарным теплом, а маленькие ноздри и подвижный рот чуть дрожали улыбкой. Она была очень высокой и тоненькой, ходила стремительно, и волосы ее всегда развевались. Маме и в голову не приходило собрать их, чтобы выглядеть, как подобает учительнице, но никто не осмеливался сделать ей замечание. Когда она начинала говорить сильным, низким голосом, по обыкновению чуть запрокинув лицо, в нем играли нотки иронии, хотя никого и никогда мама не ставила в глупое, унизительное положение.
Ученики обожали ее, звали за глаза «Этуаль», и она, без сомнения, была звездой. Дважды в год, в дни рождений, мамины подруги желали Андрею стать умным, как мать, а мне такой же красивой. Это и говорилось, и воспринималось как шутка. Никто всерьез не имел в виду, что такое возможно.
Как никто и не заметил, когда родилась в ней боль, начавшая поедать не расположенный к унынию мозг. Наверняка мама справилась бы с ней, не позволила болезни развиться, если бы летом не пришло сообщение: автобус, в котором ехали пограничники и несколько русских женщин, был обстрелян из гранатомета, найденного потом неподалеку. Андрей погиб смертью храбрых. Так написал его командир.
Но ведь он мог и ошибиться, если труп был изуродован до неузнаваемости… Я взглянула на часы и вскочила, испугавшись, что опоздаю в школу. Мама так и не открыла глаз, возвращавших ее лицу живой свет, но в тот момент, когда я вставала, другое лицо, все еще пугавшее меня, словно принадлежало гонцу с того света, мелькнуло за стеклянной дверью палаты. Я бросилась за ним следом, задохнувшись от бешенства, – он посмел следить за мной – но в коридоре Глеб сам шагнул мне навстречу.
– Извини, – пробормотал он, пытаясь ухватить меня, – это черт знает какая наглость с моей стороны, но я должен был увидеть ее прежде… И главное, тебя рядом с ней. Здесь не встретится никто из ваших знакомых? Ну, не смотри так, пожалуйста!
– Зачем? – Я увертывалась, боясь даже коснуться его.
Линолеум жалобно повизгивал у нас под ногами. Меня пугало, что мама услышит нас, окликнет, и тогда все внезапно откроется. Я прорывалась к выходу, пытаясь обогнуть Глеба. Со стороны это, должно быть, напоминало игру в салки двоих выживших из ума взрослых людей. Наконец, мне удалось выбраться на лестницу, и ступени торопливо, но глухо отсчитали мои шаги. Других я не слышала, будто Глеб несся над землей, как огромный, прекрасный Демон.







