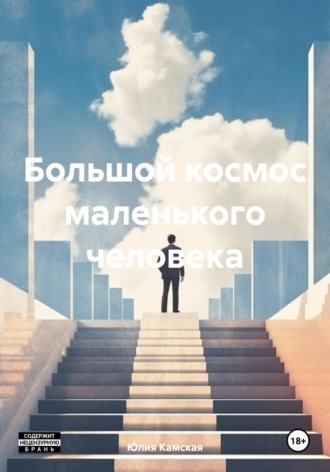
Юлия Камская
Большой космос маленького человека
Глава 1
Уроки этикета
Я хорошо помню свое детство, даже тот малый возраст, который обычно забывается. Проблема лишь в том, что воспоминания спонтанно раскрываются из памяти, и я не могу на них повлиять, мне приходится проживать их заново, как в первый раз.
В доме у родителей была особенная для меня комната. По форме она напоминала вытянутый пятиугольник. В остром углу комнаты, где две грани стены соприкасались другом с другом, стояли высокие – от пола до потолка – окна, через которые был виден сад. Родители замечали красоту природы только в расцвете ее сезона, например, весной, когда деревья уже проснулись, выпустили сочную зелень листвы и разнообразие цветов, яркими огнями украшало пространство, словно хор, подпевая ведущим солистам; или осенью, когда листва деревьев меняла цвет, проступали желто-красные оттенки, образуя неповторимые узоры и цветовые переливы в каждом опавшем листике. Но для меня сад каждый день имел неповторимый вид. Я замечала, как вначале бутоны нарциссов были плотными зелеными трубочками, а уже через день или два показывались робкие желтоватые головки, постепенно раскрывающие миру свои нежные лепестки, красуясь спрятанной внутри бутонов маленькой короной. Почему родители не замечали этого? Или вот – почки на яблонях, они были не больше рисового зернышка, но через неделю становились налитыми, набухшими как горошины, их кожура истончалась, лопалась, не в силах больше сдерживать новорожденные листья, тянущиеся к солнцу.
Все вокруг уникально и неповторимо, живет настоящим моментом. Небо. Молодое, высокое, небо, такое бывает только в мае. Оно щедро пропускало солнечный свет, и он проникал всюду. Касался ветвей старого кипариса и юного можжевельника, на кончиках их веток росли молодые побеги. Солнечный свет нагревал большой камень в центре ландшафтной композиции и камень от тепла становился светлее, исчезала его серость, края приобретали мягкость. Даже камень может стать мягким, почувствовав тепло и любовь солнца. Газон в саду был нежно зеленый, его привезли в больших рулонах и застелили как ковер. Человек создает жизнь и по своему усмотрению решает, где быть этой жизни.
В особенной комнате напротив окон в стене был выложен камин. Зимой, когда солнце пряталось за тучами, камин заменял природный свет. Мне нравилось смотреть, как пляшет огонь, слушать, как потрескивают поленья и видеть на стенах особенной комнаты едва уловимые образы, которых никто не замечал. Огонь не отбрасывает тени, но он выделяет тепло и через нагретый воздух, поднимающийся к потолку, казалось, что комната расширялась от наполняющего ее тепла. Даже мебель становилась другой, размывались резкие тени, облик приобретал мягкость. Огонь обладает реальным волшебством и когда-то давно человек понял это, и приручил магическую силу.
В нашей особенной комнате, которую мама называла столовой, а папа залом, на потолке висела хрустальная люстра, и когда на нее попадал солнечный свет, он преломлялся через длинные хрустальные сережки, разбрызгивался по стенам, создавая хоровод маленьких солнечных зайчиков. В тот день особенная комната была как никогда нарядной, ведь ее готовили к приходу гостей.
Два официанта оформляли праздничный стол. Вначале выкладывался маленький коврик из ткани, в его центр ставили большую круглую сервировочную тарелку и поверх нее глубокую суповую. Теперь приборы. Несмотря на то, что их много, пользоваться ими просто: блюдо, подаваемое первым, едят дальним от тарелки прибором.
Левая сторона – первая вилка для холодных закусок, она короткая; вторая вилка, та, что ближе к тарелке нужна для основных блюд. Правая сторона – ножи. Первым от тарелки кладут основной столовый нож, вторым будет нож для закусок. Если обратить внимание, его длина совпадает с длинной вилки для закусок, невозможно перепутать. Суповая ложка третья в правом ряду. Замыкает линейку скрученная и закрепленная кольцом белая хлопковая салфетка.
Теперь верхний ряд. В левом верхнем углу небольшая тарелка, на которой поперек лежит нож. Эта пара предназначена для хлеба и масла. В масло добавляют пряности и соль, а маленькие булочки выпекают в печи и подают в самом начале ужина. В верхнем правом углу бокалы. Каждый напиток разливают в форму, предназначенную для него. Фужер для шампанского: ножка может быть длинной или средней, но обязательно тонкой, чаша конусообразная, узкая и длинная как сигара. Бокал для красного вина: ножка короткая, чаша широкая и округлая как раскрытый бутон пиона. Фужер для белого вина имеет длинную ножку и чашу как полураскрытый бутон пиона. Есть фужер для воды. Его ножка совсем короткая, а чаша вытянутая как купол. В этот бокал лишь некоторые гости наливают воду, обычно его заполняют соком, морсом и даже газировкой.
В середине верхнего ряда, напротив декоративной тарелки, кладут ложку и вилку в противоположных друг от друга направлениях, они нужны для десертов.
Стол сервировали парень и девушка. Я видела их впервые. Они выкладывали два параллельных ряда посуды. Проверяли симметрию. На стулья были надеты праздничные чехлы из белой ткани с бежевыми разводами в форме цветущих сакур. Чехлы слегка поблескивали на солнце. Сзади стул подпоясывался красным атласным бантом. Мне нравилось, как это выглядело, словно игрушечная мебель в кукольном домике.
Я прошлась вдоль ряда стульев, посмотреть, как заполнился стол. Официанты были одеты одинаково, на них белые рубашки, черные жилеты и брюки. У парня на шее тонкий черный галстук, у девушки на груди приколота брошь в виде маленькой пчелки, брюшко которой украшено ярким красным камушком.
Иногда был слышен звон бокалов, когда кто-то из официантов случайно задевал один фужер другим. Я вновь обошла стол по кругу. Каждый предмет лежал на своем месте, у каждого было свое назначение. Но вдруг в этой идеальной сервировке отполированной солнечным светом, которому, казалось, было мало хрустальной люстры и целого сада за окном, которое заполнило свечением хрустальные бокалы и столовое серебро, и искрило так, что приходилось щуриться, я увидела ошибку, допущенную официантами. Смотрела на нее в упор, и она причиняла мне почти физическую боль. Десертные приборы! Их выложили в одном направлении, а нужно наоборот: ложка направо, вилка налево. Я протянула руку, чтобы изменить положение вилки. Вот так. Теперь картинка правильная, теперь все хорошо. Обошла стол и исправила невнимательность официантов.
– Девочка, что ты делаешь? –обратилась ко мне девушка, она слегка пригнулась, чтобы быть со мной одного роста, ладони ее упирались в коленки. – Зачем ты переворачиваешь приборы, мешаешь нам работать?
Я не смотрела ей в глаза.
– Не мешай нам работать, хорошо? – она выпрямилась, повернулась к столу.
– Это неправильно! – выкрикнула я ей в спину.
Девушка посмотрела на стол. Я поняла, что она не видит ошибки.
– Здесь все лежит правильно, – упрямо сказала она, а потом взяла вилку, которую я положила в том направлении, в котором она и должна лежать, и снова переложила ее вправо, ровняя с ложкой. Подошла к следующему месту и опять исправила приборы.
Внутри меня разлилось отчаянье. Кто-то незнакомый, взрослый и сильный по своему усмотрению изменил правила и заставил подчиниться им. Я чувствовала бессилие и еще что-то, чему до сих пор не могу дать определение, но это причиняло мне боль.
– А-а-а, – закричала я, высоко задрав голову. – А-а-а. И-и-и.
Я не хотела этого делать, но не могла иначе. Когда я кричала, боль слабела. А еще я знала, что взрослые могли изменить свое решение только тогда, когда я громко доказывала обратное.
Девушка обернулась, посмотрела на меня с удивлением и испугом. Парень замер, он держал в одной руке бокал для воды, в другой – салфетку для натирки стекла. В его взгляде было осуждение.
Моя боль поднималась из груди, достигала горла, вылетая оттуда криком. Голова болела. Мир казался большим, непонятным и враждебным. Он и сейчас остается для меня таким. Чтобы унять ту боль, а еще больше, чтобы унять свое отчаянье, я яростно била себя ладошками по голове. Хотела заглушить эмоции, но не могла остановиться, и каждый удар был сильнее предыдущего.
– Это неправильно, неправильно! А-а-а.
В особенную комнату забежала Нэнэй. Ее большая полноватая фигура остановилась в проеме двери. Лицо Нэнэй было обеспокоенным, у переносицы образовалась вертикальная морщина. Длинные гладкие черные волосы выбивались из-под яркого платка, который она почти всегда носила на голове.
Девушка испуганно перевела взгляд от меня к Нэнэй и обратно.
– Я ничего не сделала, – робко оправдывалась она, – я только поравняла десертные ложки с вилками, а девочка… – официантка не договорила, посмотрела на меня, и веки ее расширились от удивления и ужаса.
Нэнэй быстро подошла к столу, переложила вилку влево.
– Аза, – она схватила меня за руки, не позволяя мне бить саму себя, слегка сдавила пальцы на моих запястьях, чтобы я почувствовала ее силу. – Смотри, все же исправлено.
В ее голосе слышалась просьба, тихая мольба, чтобы моя истерика не разрослась, не уничтожила праздничное настроение этого дня. Но мне было сложно остановиться. И хотя руки мои сжаты ее руками, тело оставалось свободным. Я извивалась, выворачивалась, словно червячок в клюве у птицы. Нэнэй встряхнула мои руки, потом подняла меня вверх. Я болтала ногами, мотала головой. Рычала.
– Азалия! – Нэнэй уже не просила, она требовала. – Смотри, все хорошо! Ну же! – поставила меня на пол, развернула тело и с силой подвела к столу. Взяла вилку и вложила ее в мою руку.
– Держи, исправь ошибку. Покажи как правильно!
Она говорила громко, чтобы через собственный вой я могла услышать ее слова. Но как трудно контролировать себя в детстве. Нэнэй пригнулась и начала дуть мне в лицо. Это всегда срабатывало. Я переставала кричать, потому что не могла набрать воздуха в легкие.
– Тшш, успокойся, – сказала она. – Покажи, что тебя расстроило.
Я посмотрела на вилку, зажатую в моей руке, подошла к столу и положила ее на десертную тарелку. Когда ошибка официантки была исправлена, головная боль неожиданно прошла, словно пружина, наконец, сжалась и больше не давит изнутри. Я подошла к Нэнэй и уткнулась ей в колени, мне так нужно было почувствовать любовь и защиту, знать, что она не сердится на меня. Нэнэй села на корточки, двумя руками прикоснулась к моим щекам.
– Ну что ты, все в порядке, – сказала она спокойно и ласково. – Не нужно расстраиваться, нужно быть сильнее.
Она поцеловала меня в лоб, поднялась и обратилась к официантам, к невольным свидетелям случившегося:
– Все нормально, ничего страшного не произошло – просто сказала Нэнэй, – это ребенок, ей пока сложно контролировать эмоции, но мы работаем над этим, да? – последние слова относилось ко мне. Нэнэй посмотрела на сервированное место и задумалась, казалось, она вспоминает забытую формулу.
– Девушка, вы сервировку классическую банкетную сервировку изучали?
– Конечно, – неуверенно ответила официантка.
– Яне помню точно, но вроде десертные приборы действительно должны лежать в противоположных направлениях друг от друга, – она горько усмехнулась. – Эта девочка, которой пять лет, получается, права. Вы ошиблись в сервировке.
Официантка потупила взгляд и молча проглотила обиду.
– У вас все готово? Поторопитесь, скоро придут гости. Пойдем, детка, – она взяла меня за руку.
Мы вышли из особенной комнаты, которую мама называет столовой, а папа залом.
– Тебя нужно переодеть. Ты же знаешь, что сегодня праздник, сегодня день рождения папы!
Нэнэй старалась говорить радостно, увлечь меня настроением этого дня.
– Пойдем, подберем тебе красивое платье.
На втором этаже в моей детской комнате она надела на меня белое кружевное платье. Распустила волосы, подобрала верхние пряди, закрепила их заколкой. Подвела меня к зеркалу.
– Смотри, какая ты нарядная.
Я не узнала себя. Длинное платье полностью скрывало мое тело, оставляя видимыми лишь пальчики на ногах в белых носочках. Длинные рукава из кружевной ткани доходили до запястий, казалось, будто на коже появились узоры, какие иногда бывают зимой на окнах. На заколке были цветы из красного атласа, в их сердцевине блестели камушки. Мне нравилось все, и мои длинные волнистые волосы, и худенькое тельце, спрятанное в платье, и даже карие глаза, которые я видела в отражении. Рядом стояла Нэнэй. Ее простое домашнее платье казалось тусклым на моем фоне, но доброе лицо и тихая радость в глазах, с которой она смотрела на меня, украшала ее без нарядов.
– Когда придут гости, не забудь со всеми поздороваться. Ты же не забыла правила хорошего тона? А теперь и мне нужно подготовиться к празднику, – сказала она и вышла из комнаты.
Я осмотрелась и вдруг вспомнила, что должна сделать что-то важное. Мой взгляд остановился на книжном стеллаже. Взяв нужную книгу, я спустилась в особенную комнату. Официанты закончили сервировку, поправляли отдельные предметы. На столе появились вазы с живыми цветами. Из кухни просачивались ароматы готовых блюд. Я подошла к девушке, дернула ее за кончик жилета. Она отвлеклась от работы, перевела взгляд на меня и нахмурилась.
– Вот! – я протянула ей открытый разворот.
Девушка посмотрела в книгу, где на рисунке была показана схема классической банкетной сервировки и десертные приборы лежали в разных направлениях. Девушка внимательно посмотрела на рисунок, а потом в растерянности перевела взгляд на меня. Я почувствовала, что теперь взрослые меня услышали. Закрыла книгу, вышла из комнаты и ушла гулять в сад.
Глава 2
Место силы
Солнце садилось. Оно почти скрылось за горизонтом и его угасающее свечение озаряло вязкое небо. Красноватые отблески подсвечивали редкие, тонкие, рваные облака. Сосны, будто, стали выше, их кроны раскачивались, шумели, словно пытались мне что-то рассказать. Я стоял на вершине горы и смотрел вниз на синюю змейку реки. Третий раз приезжаю к Усьвимским столбам и все равно не могу привыкнуть к красоте этого места. Два предыдущих похода останавливался у подножия скал, но не в этот раз. Сегодня я – Герман – царь горы. Там, внизу, ощущаешь мелочность и суету жизни, потому что тебя окружают горы, рядом шумит река, под ногами галька, над головой звезды, а ты, маленький человек, в центре великой, нечеловеческой силы природы. Стоит ей захотеть, и она тебя раздавит. Там, внизу, ощущаешь собственное бессилие перед жизнью. Но здесь, на верху, я смотрю на тайгу, что раскинулась до самого горизонта, на отвесные скалы и тонны неприступного камня, чувствую ветер и тот простор, который лежит у моих ног и мне хочется чувствовать, что я все смогу преодолеть.
Я нашел хорошее место для ночлега, ровную площадку на вершине обрыва. Кто-то скажет, что это глупо и рискованно, никогда не знаешь, как поведет себя почва из-за перепада температур, днем ее прогревает солнце, а ночью холодит мороз, но на это я отвечу – мне все равно. Может быть, именно этого – скоропостижного избавления от всех проблем – я и ищу, но боюсь себе признаться? Но меня останавливает одно – не страх перейти в бесконечность, а страх перейти туда со своим грузом ошибок, остаться с ним один на один, чтобы каждую минуту на протяжении бесконечности быть в этой агонии и не знать передышек.
Солнце ушло, темнота принесла с собой холод. Я поставил палатку, выстелил пол лапником, разжег костер и поставил вариться густую перловую кашу с говяжьей тушёнкой в походный котелок. На раскаленное полено поставил турку с кофе. Костер горел ровно, лишь слегка потрескивали дрова. Ветер утих, и наступила тишина. Мир замер. На многие километры не было ни одного живого человека. Уже завтра мне нужно покинуть это место, но сегодня оно станет моей колыбелью и пусть горы поделятся со мной силой.
После ужина лег в спальный мешок. Морозный воздух холодил щеки и губы, телу было холодно, но мне не хотелось закрывать полу палатки, через которую видно небо и звезды. В темноте нащупал рюкзак, достал из него чекушку спирта. Плеснул спирт в железную кружку, разбавил водой из фляжки. Алкоголь обжег горло, а потом теплотой разлился по телу. Не делая перерыва, налил еще одну порцию. Мой организм требовал этой теплоты, требовал каждый день, но эту правду я предпочитал знать про себя. Деревья опять зашумели, будто все про меня знали и осуждали за выбор. Уснуть не удавалось. Я поднялся и подошел к самой кромке утеса. Что если остаться здесь навсегда? Я так устал от бесконечных попыток собрать свою жизнь. Внизу в лунном свете поблескивала река, на расстоянии одного шага была пустота и бесконечность. Чувство безграничной свободы охватило меня целиком. Хотелось поддаться порыву ветра и лететь вперед на его волнах, забыв город, что я оставил, забыв жизнь, самого себя и слова жены, перед тем как она меня бросила – «Ненавижу тебя!». Три месяца два страшных слова крутятся в моем мозгу на постоянном повторе.
Это произошло субботним февральским утром. Я проснулся, но не открывал глаза, продолжал делать вид, что сплю. Ольга громко ходила за моей спиной, хлопали дверцы шкафа, громыхало содержимое ящиков, когда она искала в них нужные предметы, что-то с глухим стуком упало на пол, а потом:
– Ай, блин, – со свистящей злостью сказала она. – Задрало! Как меня все задрало!
Я больше не мог делать вид, что сплю. Перевернулся на диване лицом к ней и открыл глаза. Ольга стояла на одной ноге, правую она подтянула к себе и разминала пятку, на полу валялась деталь Машиного конструктора. Жена посмотрела на меня с ненавистью:
– Герман, мне все надоело! Я ухожу!
Я закрыл глаза. День не предвещал ничего хорошего. Тупая боль в голове пульсировала, тошнота поднималась из желудка, я сжал челюсти и проглотил горькую вязкую слюну. Открыл глаза, посмотрел на нее.
– Что смотришь? – с вызовом сказала Ольга. – Задрало. Нормально ты устроился: работаешь, приходишь домой, весь вечер лежишь на диване. Вечером обязательно бутылка пива. По пятницам – твой законный выходной, тебя не трогать, ты – устал. По субботам я смотрю на твою опухшую рожу и понимаю, что весь день ты будешь болеть. Оно мне надо? Выхаживать как маленького ребенка, супчики готовить? Фу, воняет перегаром, – жена открыла окно. Морозный февральский воздух ворвался в комнату.
Пусть выговорится, пусть. Ведь она права, все так и происходит. Жизнь имеет четкий распорядок, я точно знаю, чем буду заниматься в пятницу вечером и как проведу субботу. Другой вопрос – нравится ли мне это? Нет, не нравится. Но я не знаю, как это изменить.
– Я, по-твоему, не устаю? – говорила она, стоя ко мне спиной, продолжая что-то искать в ящиках мебельной горки. – Я работаю, прихожу домой и дома тоже работаю: готовлю кушать, стираю, убираюсь, – перечисляя свои заслуги, она с силой захлопывала дверцы навесных шкафчиков, будто судья, бивший молоточком, призывающий к справедливости. – Ребенок полностью на мне и тебя это устраивает. Другие мужья помогают женам, играют с детьми или подрабатывают таксистами или еще что-то придумывают, но только не ты. Сколько лет этому ремонту? – она обернулась ко мне лицом.
Было что-то прекрасное в гневе жены, он словно подчеркнул красоту ее лица. Мягкий свет струился по русым волосам, зеленые глаза наполнились выразительностью, вызовом, смелым отчаяньем принятого решения, на худом бледном лице появился румянец, сухие губы увлажнились, готовые выкрикнуть те самые слова.
Я перевел взгляд на комнату, спрятавшую от мира красоту этой женщины. Коричневые обои в мелкий белый цветочек сдавливали пространство как каменный мешок. Местами стыки обоев просохли и отчетливо выделялись на стене вертикальными линиями. Большой бежевый ковер на полу почти полностью закрывал неказистый серый линолеум. Напротив меня, вдоль стены, стояла гостиная под кичливым названием «Аллегро»: нижняя тумба, шкаф-пенал, открытые полки, навесные шкафчики и ниша под телевизор. На противоположной стороне, там, где я лежал – вечно расправленный диван, детская кроватка и бельевой шкаф у окна. На гардине висела красная, томатного оттенка, плотная тюль из органзы, она была украшена фабричной вышивкой в виде крупных перьев. Из открытого окна в комнату врывался свежий воздух, тюль слегка округлилась, сдерживая поток. Цвета в комнате были теплыми, но это мнимое тепло зимнего солнца, которое не греет, а лишь провоцирует на вечную зимнюю спячку. Февраль не закончится никогда. Я натянул одеяло до носа.
– Маша растет, ей необходима своя комната! – продолжала Ольга, смотря на меня. – Но мы даже ипотеку не можем взять, потому что не потянем ее с нашими доходами. Я давно ничего себе не покупала, моим сапогам пять лет! Это мои лучшие годы? Ну, скажи?
Что я мог ей сказать? Я тоже ничего давно себе не покупал. Ольга дарит на Новый год свитер или рубашку, на двадцать третье февраля носки и летом я покупаю шорты и футболку – вот и все мои обновки. Но если я привык обходиться малым, имею ли я право требовать этого от нее? Я протянул к ней руку.
– Иди ко мне, – сдавленно произнес я. Мне казалось, если сейчас она ляжет рядом и обнимет меня, мы сможем ощутить, что, несмотря на невыносимую трудность бытия и вечную нехватку денег, у нас не все потеряно, у нас есть мы и вся жизнь впереди.
По лицу жены пробежали эмоции – брови приподнялись в удивлении, потом мгновенно опустились, сдвинулись к переносице от злости, губы сжались в линию и ее рука резко ударила по моей.
– Ненавижу тебя! – крикнула она.
Я поспешно убрал руку, закусил губу – «ненавижу тебя!» – пульсировало в моей голове.
– Я с подружками ходила в кафе и поймала себя на мысли, что заказываю самые дешевые роллы. Мне хотелось другие, но я знала, что завтра нужно покупать молоко, мясо, макароны. Знаешь, Герман, раньше мне казалось, что я подожду немного и придет лучшая жизнь. Я не говорю про роскошь – ее не будет никогда, но хотя бы достаток, хотя бы не думать о том, что выбрать: роллы для себя или обед для семьи. Если бы у тебя было стремление зарабатывать, обеспечивать семью, я бы молчала, я бы жила перспективой, но у тебя этого нет. Ты плывешь по течению. А я не хочу так, не хочу…
Последние слова она выкрикнула, передав свое отвращение, которое накопилось за последние годы. И больше всего отвращения было ко мне. На смену гневу пришли слезы. Я не мешал ей выговорить то, что из нее рвалось наружу. Пусть выскажется, если ей станет от этого легче.
Она вытерла слезы рукой, размазала их по щекам и затихла, сев на нижнюю полку горки. Уставившись в одну точку. Дочка Маша вышла из кухни и остановилась в дверях зала, не понимая, почему сначала было шумно, а потом все стихло. Она держала куклу, но увидев, что мама плачет, бросила ее на пол и подбежала к жене, чтобы уткнуться ей в грудь. Ольга механически обняла дочь, но так и продолжала сидеть ровно и прямо. Я смотрел на них.
Мне нечего было ей ответь. Я понимал, в чем меня обвиняют и даже внутренне соглашался с аргументами, но не мог исправить ситуацию. У меня отчаянно болела голова, ломило тело, я был физически не способен выяснять отношения.
– Знаешь, я все решила, – начала она говорить. По голосу, по ее неестественно равнодушному взгляду в пустоту, я все понял. – Я перееду к родителям. Пойми меня, я устала. Даже ругаться с тобой устала – без толку. Мне тридцать два, в сентябре тридцать три и что я имею? Лучшие годы почти прошли. Если я останусь с тобой, ничего в моей жизни не изменится, потому что ты ничего не хочешь менять. Ты – на дне и тянешь меня за собой. Почему я должна одна бороться за семью? Какие у нас общие интересы? Когда мы гуляли всей семьей в последний раз?
– Но ты же… – попробовал я защититься, но Ольга выставила поднятую ладонь, приказывая, чтобы я замолчал.
– Герман, ничего не говори, – равнодушно ответила она, – у тебя есть своя жизнь, у меня – своя. И вот за свою жизнь я буду бороться, а ты живи как хочешь.
Ольга с вызовом посмотрела на меня. Размазанные слезы блестели на щеках. Я должен был что-то сказать, но не мог. Если открыть рот, оттуда вылетел бы стон, а она ждала объяснений. И я тогда отчетливо понял, что это все. Все закончится. Манютка, моя маленькая лапушка, все еще грелась на груди жены, и я видел только ее маковку: место, где волосики – мягкие, пушистые детские волосики – закручиваются в спираль. Когда три года назад ее привезли из роддома, когда сняли чепчик и дали мне на руки туго запеленатый сверток, помню, как я приподнял дочь к самым глазам, чтобы лучше видеть, чтобы не пропустить ни одной детали, ни одной морщинки. И эта спиралька маленьких волосков на голове, как травинки, робко пробивающиеся через плотную землю, так отчетливо запомнилась мне, что даже в старости, когда я полностью ослепну, безошибочно найду это место на голове Маши.
Ольга поднялась и подошла к шкафу. Пока она выкладывала одежду, пока ходила по комнате, собирая свои вещи, Маша залезла ко мне на диван. Я накрыл дочь одеялом и тихо лежал с ней на одной подушке, ощущая сладковатый, с едва уловимыми нотками молока, детский запах. Ольга подняла дочь, переодела. Я смотрел на них и не мог понять, почему, пока могу что-то изменить, просто лежу и наблюдаю, как меняется моя жизнь? Сборы закончились. Маша вышла в коридор в зимнем комбинезоне как маленький космонавт, за ней следом вышла Ольга, даже не посмотрев на меня. Послышался звук закрывающейся двери и все стихло. У нас и раньше бывали ссоры, жена злилась, обижалась, игнорировала меня, но никогда не уходила. Когда за ней захлопнулась дверь, ощущение потери раздавило меня. Наша семья распалась.
Я согласился с наказанием, даже не пытаясь изменить приговор, фактически не сопротивляясь, потому что знал, знал с убийственной отчетливостью, что ничего не изменится и лучше не станет. Так какой в этом смысл? Ольга достойна лучшей жизни, и она по-своему права, хоть и видела в этой ситуации только себя.
Качнул головой, отгоняя воспоминания. Сколько они еще будут терзать меня? Я пришел в лес, чтобы найти место силы, чтобы обновиться и двигаться дальше, но тюрьма в моей голове никуда не делась, тяжелые кандалы все так же сдавливают грудную клетку.
Следующим утром я покинул Усьвимские столбы. Обновления, которого я ждал, не случилось. Сутки добирался до дома, вернулся в город на рассвете в понедельник. Во дворах продолжали тускло гореть фонари, освещая тротуары с разбитыми бордюрами. Подходя к подъезду, я посмотрел наверх, на окна своей квартиры. Ольга часто оставляла включенную прикроватную лампу на ночь, чтобы Маша, если вдруг проснется ночью, не испугалась бы темноты. Света в окне не было. Его и не могло быть, но все же я каждый раз цепляюсь за надежду, а вдруг?
Квартира встретила меня пустотой и холодом. Разулся, оставил рюкзак на пороге, прошел в зал. Электрический свет обнажил всю убогость обстановки – доступная (нет, дешевая!) мебель, расправленный диван со скомканным одеялом, пустая детская кроватка. Выключил свет. В темноте воспринимать действительность не так больно. При свете со всех сторон в меня летят обвинения в собственном бездействии. Даже предметы могут разговаривать. Одна ручка шкафа кривая, она расшаталась из-за ослабленного винтика и я уже год не могу найти десять минут времени, чтобы подтянуть ее. На нижней полке мебельной горки неубранный стакан с остатками чая и тарелка с разводами от кетчупа – перед уходом я ел спагетти и поленился отнести посуду на кухню. Красная тюль, которая так нравилась жене, сбилась к центру окна, по сторонам оголяя стены и трубы радиаторов. На полу, возле дивана, лежит скомканная салфетка, и я знаю, что в ней – огрызок яблока. Думал, уберу вместе с посудой и забыл. Эти детали кричат о том, кто их хозяин и какую жизнь он ведет.
Я держался в лесу, чтобы не уйти в отчаянье, чтобы найти правильный путь, который выведет меня из непролазных житейских дебрей, в которых я потерялся, но не могу сдерживаться сейчас в этой одинокой и давящей квартире. Первый луч восходящего солнца золотит потолок, и я чувствую, как из груди комом поднимается безысходность. Я не хочу идти на работу. Не хочу видеть коллег, не хочу делать вид, что в моей жизни есть планы на будущее.
Лучи солнца все больше высветляют комнату. Я наблюдаю рождение нового дня и не испытываю ничего. Даже магия вселенной не способна уничтожить мое безразличие. «Что ты делаешь со своей жизнью?» – возник вдруг вопрос в моей голове. «Ты знаешь, что тонешь, но не делаешь ничего, чтобы исправить это». Я лежал на диване и смотрел в потолок, я больше не сопротивлялся, жизнь подвела меня к выбору: или я сдаюсь и опускаюсь на дно или начинаю действовать. И эти ощущения отозвались безапелляционным вердиктом: «Если ты сдаешься – прими это здесь и сейчас и все закончится». Что-то внутри меня ждало ответ. Но что это было? Совесть, душа или я сам?
Что-то внутри меня взбунтовалось, поднялось гневом, уничтожило привычное ощущение покорности судьбе. На телефоне внезапно зазвенел будильник – шесть утро. Начался новый день и еще одна возможность все исправить.
Я поднялся с дивана и открыл окно. В комнату ворвался свежий воздух. Поправил занавеску, поднял с пола салфетку, убрал посуду на кухню. Зашел в душ, чтобы смыть с себя запах костра и ошибки, допущенные в прошлой семейной жизни. Яростно тер мочалкой по немытому телу, представляя, как смываю с себя вязкую апатию, липкую лень, наполняю тело энергией, желанием действовать. Переключил смеситель на холодную воду и стоял под душем, обжигаясь, отсчитывая про себя секунды, доказывая самому себе, что внутри меня опора не сломалась.
– Ааа, – закричал я, когда терпеть стало невозможным. Выключил воду, растирался полотенцем, разгонял застоявшуюся кровь: – Ух. Хорошо.
Кожу покалывает, каждая клетка пульсирует, наполняясь жизнью. На завтрак я приготовил омлет с зеленым луком, заварил свежий чай. Вечером, приду с работы, и сделаю уборку. Вымою каждый угол, перестираю белье и одежду, разрушу до основания прежнюю жизнь и построю новую. С этими мыслями я вышел из дома и поехал на работу.
Глава 3
Жизнь – существительное неодушевленное
Сейчас прозвенит звонок будильника, нужно только подождать несколько минут. Я всегда просыпаюсь чуть раньше сигнала. Люди придумали этому название – внутренние часы.
За окном солнечное утро, моя комната наполнена светом. У стены кровать, напротив письменный стол, на стене магнитная доска, на ней закреплено расписание дня. Есть небольшой стеллаж для учебников и маленький шкаф для одежды возле двери.
Лежа на кровати, переворачиваюсь на бок и ищу глазами на доске расписание дня. У всех нас, кто живет и учится в этой школе, есть расписание. Оно очень помогает, потому что исключает возможность выбора и последующую за ним непредсказуемость. Расписание – это победа порядка над хаосом. Я знаю свое расписание – Родникова Азалия Юрьевна, 9 «А» – наизусть, но все равно каждое утро проверяю, не появились ли в нем изменения.


