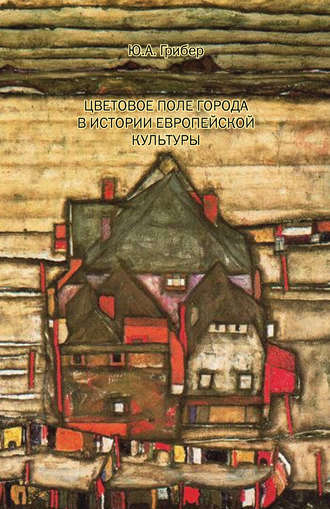
Юлия Грибер
Цветовое поле города в истории европейской культуры
Глава 2
Цветовые образы западноевропейских городов Средневековья
Процесс урбанизации активно продолжился в возникшей в V веке на руинах Римской империи средневековой Европе. Наряду с сохранившимися позднерабовладельческими полисами и западноримскими городами, в разной мере запустевшими и разрушенными (Амальфи, Арлем, Аугсбургом, Болоньей, Веной, Глостером, Йорком, Кёльном, Лионом, Лондоном, Майнцем, Миланом, Неаполем, Парижем, Страсбургом, Триром, Флоренцией, Честером и многими другими), здесь появились тысячи новых городов, рост которых происходил разными темпами и напрямую зависел от развития феодальных отношений. Раньше всего, в VIII–IX в., феодальные города, в первую очередь как центры ремесла и торговли, начали формироваться в Италии; в X в. процесс урбанизации охватил юг Франции, в X–XI веках – Северную Францию, Нидерланды, Англию, Германию, в XII–XIII веках – Скандинавские страны, Ирландию, Венгрию, дунайские княжества[80].
Средневековые города были небольшими по размерам и по количеству жителей поселениями. В них проживало от 2 до 10 тысяч человек, и лишь такие центры мировой торговли, как Венеция, Константинополь, Кордова, Милан, Париж, Севилья или Флоренция, имели население около 100 тысяч[81]. Главным отличием средневековых городов от окружающих деревень была их социальная структура. Несмотря на то, что темп развития городов и их распределение по территории Европы были неравномерными (наибольшее количество городов существовало в это время в Северной и Средней Италии, во Фландрии и Брабанте, по Рейну), все они были продуктом общественного разделения труда и развития структур государственности. Более сложным стал их статусный портрет, более отчетливой – социальная и имущественная дифференциация. Население городов считалось свободным и, в основном, состояло из людей, занятых в сфере производства и обращения товаров: торговцев, ремесленников, огородников, промысловиков. Наиболее представительной частью горожан были профессиональные торговцы и купцы. В крупных городах, особенно политико-административных центрах, жили феодалы, их прислуга, военные отряды, представители королевской и сеньориальной администрации, а также нотариусы, врачи, преподаватели школ и университетов и другие представители зарождающейся интеллигенции. Заметную часть населения составляло духовенство[82].
Исчезли позднеантичные рабовладельческие порядки, активно шло формирование нового общественного строя, но социальная структура средневекового общества, как и в Античности, по-прежнему мыслилась гетерономной, понималась как сила, приложенная к обществу «ниоткуда», «извне»[83]. Город рассматривался не только как средоточие богатства и власти, но и как их источник, место, где они возникают или получаются свыше[84]. Частью европейского феодализма стали сословия, включившие страты с различными обязанностями и правами, некоторые из которых устанавливались законами. В феодальной системе средневековой Европы сословия были замкнуты и образовывали скорее локальную, чем национальную систему стратификации. Положение человека в обществе определялось случайностью рождения внутри феодальной иерархии[85].
В средневековом городском обществе было принято делить всех людей на три разряда: «oratores, bellatores, laboratores» – «тех, кто молятся», «тех, кто сражаются», «тех, кто работают»[86]. Два первых элемента этой выведенной Ж. Дюмезилем трехфункциональной схемы – «молящиеся» (священники) и «воюющие» (рыцари, благородное дворянство) – составляли дворянско-церковную элиту, а простой народ, в основной своей массе занимавшийся крестьянским трудом, относился к третьему разряду – «трудящимся»[87].
В процессе развития городов в феодальной Европе складывалось особое средневековое сословие горожан, обычно отождествляемых с понятием «бюргерство» и в экономическом отношении связанное с торгово-ремесленной деятельностью и с собственностью, основанной не только на производстве, но и на обмене. Однако по своему имущественному и социальному положению городское сословие не было единым. Внутри него существовали патрициат, слой состоятельных торговцев, ремесленников и домовладельцев, рядовые труженики, городское плебейство.
Позицию самого могущественного социального института в иерархической структуре Средневековья занял новый, по сравнению с Античностью, влиятельный социальный агент – церковь. Принятие христианства практически всеми народами Европы, которое произошло на протяжении V–XI веков, сделало к XI в. всю Западную и Центральную Европу в религиозном смысле однородной и подчиненной духовной власти папы римского (официальный раскол христианской церкви на римско-католическую и греко-православную произошел только в 1054 году). Средневековье стало эпохой безраздельного господства христианства, которое было одновременно и религией, и духовным стержнем, и на протяжении всего Средневековья сохраняло ведущую роль в обществе – «роль творца идеологии, принадлежавшую ему почти монопольно»[88]. До прихода в Европу в XV веке абсолютизма церковь владела почти третью всех западно– и центальноевропейских земель и оказывала мощное влияние на все общественные сферы. Церковные правила регламентировали не только события каждой отдельной человеческой жизни, социальной группы, городского общества, они во многом определяли даже внутреннюю и внешнюю политику государств.
Заняв позицию посредника между Богом и человеком, церковь сохранила в городском пространстве Средневековья характерное для античных полисов распределение цвета в горизонтальной плоскости по принципу постепенного нарастания цветовой отмеченности сакрального объекта. Цветовая насыщенность при этом увеличивалась при движении от периферии внутрь «сакрального поля»[89], к той точке, которая считалась его центром и влияла на всю его структуру. Однако, в отличие от Античности, где цветовое пространство было хорошо заметным и внешним, церковь выстроила стены, отделяя «нуминозные», до этого близкие и осязаемые, части от остальной ткани города, защищая и скрывая их. В городском пространстве появились преграды в тех местах, где проходила граница между высшим божественным миром и видимым человеческим земным миром.
Наиболее толстыми и буквальными эти границы оказались у романского стиля. Монументальный, поражающий своей мощью, этот стиль оставил заметный след в архитектуре Франции, Германии, Италии, Испании, Англии, активно развивался в скандинавских странах, а также в Польше, Чехословакии, Венгрии, повлиял на формирование отдельных черт архитектуры Древней Руси (например, владимиро-суздальской школы). Несмотря на многообразие местных школ, сложившихся в разных странах Европы (существовали бургундская, нормандская, школа Пуанту во Франции, саксонская в Германии, ломбардская в Италии и др.), все романские здания и комплексы (церкви, монастыри, замки) в большей или меньшей степени следовали одному и тому же образцу. Обычно они возводились среди сельского ландшафта и имели массивные стены с узкими проёмами окон и ступенчато углублёнными порталами, подчеркивающими их тяжеловесность и толщину, а также высокие башни, ставшие одним из главных элементов архитектурных композиций. Простые, ясные, тяжелые формы выделялись и возвышались над окружающей территорией, символически воплощая земное подобие «града божьего» или могущество феодалов. Главным украшением внешних фасадов, начиная с конца XI века, служили монументальные рельефы, высота которых в зрелом романском стиле стала гораздо большей. Этот вид архитектурного украшения, который считался одной из характерных особенностей стиля, сохраняя органичную связь со стеной, насыщал архитектурный образ яркими светотеневыми эффектами. Цвета как такового не было, но была игра света и тени, дававшая многообразные ахроматические переходы и по-своему реализовывавшая идею архитектурного люминизма.
Многие постройки ажурного, легкого, рвущегося к небесам готического стиля, появившегося в позднем средневековье на территории большинства стран Западной и Центральной Европы и достигшего своей вершины в «пламенеющей готике» XIII в., снаружи были расписаны ярче, чем внутри. Так, географическое и духовное сердце французской столицы, готический Собор Парижской Богоматери до сих пор сохранил следы цветного оформления фасадов, колористика которых была более насыщенной, чем внутренняя отделка: резкие красный, зеленый, оранжевый, желтая охра, черный и чистый белый цвета были возможны снаружи и совершенно недопустимы в рассеянном свете внутреннего пространства. По мнению Т. Портера и Б. Микеллидеса, опирающихся в своих выводах на проведенные исследования Дж. Ворда, С. Стюарта[90], именно так выглядело большинство готических сооружений во Франции XIII, XIV и XV веков, а также готические постройки этого времени, расположенные на территории Англии и других европейских стран. Однако в вертикальных, устремленных к небу готических соборах божественное и мистическое значение, которое христианство придавало свету, нашло новый способ выражения, и этот свет опять оказался заключенным во внутреннем пространстве, закрытым, отделенным и только просвечивающимся наружу. Каркасная система, сузившая пространства стен и заменившая их ажурной пластикой стала основой для появления и распространения витражей. Расписанные яркие стеклянные плоскости окрашивали попадающий внутрь постройки свет в разные цвета, заставляли оттенки играть, символизируя свет, идущий от Бога.
Ярко идея свечения реализовалась в византийской архитектуре, где довольно часто с помощью цвета создавалась иллюзия того, что свет исходит изнутри самой постройки, а гигантский купол парил над ее стенами. Так, современник строительства храма Святой Софии, символа «золотого века» Византии, Прокопий Кесарийский писал, что «этот храм представлял чудесное зрелище, – для смотревших на него он казался исключительным, для слышавших о нем – совершенно невероятным. В высоту он поднимается как будто до неба и, как корабль на высоких волнах моря, он выделяется среди других строений, как бы склоняясь над остальным городом, украшая его как составная его часть, сам украшается им, так как, будучи его частью и входя в его состав, он настолько выдается над ним, что с него можно видеть весь город, как на ладони»[91]. Он «наполнен светом и лучами солнца. Можно было бы сказать, что место это не извне освещается солнцем, но что блеск рождается в нем самом: такое количество света распространяется в этом храме»[92]. Такая атмосфера нужна была для того, чтобы «всякий раз как кто-нибудь входит в этот храм, чтобы молиться, он сразу понимает, что не человеческим могуществом или искусством, но божьим соизволением завершено такое дело; его разум, устремляясь к богу, витает в небесах, полагая, что он находится недалеко и что он пребывает особенно там, где он сам выбрал»[93]. Внешний вид собора, с его обращенными к городу стенами, поражал своим аскетизмом. Снаружи собор был внушителен и замкнут[94]. И эта аскетичная суровость внешнего облика становилась ярким и неожиданным контрастом к его интерьеру.
Подчеркнем, что в Средневековье сохранилась и существовала та важная социальная функция, которую выполнял цвет в античных городах. В наполненном цветом пространстве люди сообща выражали радость жизни и воплощали свое чувство единства друг с другом. Просто теперь это пространство было не открытым, а закрытым, не внешним, а внутренним. Там, внутри, цвет воспроизводился по прежним законам. В средневековой культуре цветового проектирования сохранилось античное внимание к светоносности отдельных цветов. Цвет выполнял особую функцию – функцию символического языка, который выражал не соотношения цветовых плоскостей и их взаимовлияние, но показывал свечение пространства, озарённого светом, источник которого находится вне нашего физического мира. Отдельные цвета олицетворяли этот неземной свет, конструируя пространство «не от мира сего», царствие Божье, где всё пронизано светом. Художественные техники (смальта, мозаика, полировка, шелк и имитация дорогих тканей, расписанное стекло) символически передавали свечение и мерцание. Наиболее характерные предметы раннехристианских литургий, шелковые мерцающие одеяния и драпировки, сверкающие золотом и серебром лампы и сосуды, украшенные драгоценными камнями и эмалями иконы – все они в первые века христианства рассматривались, прежде всего, как источник и отражение света. Именно такую точку зрения подтверждает анализ техник живописи и мозаики (в том числе и напольной, монументальной), который использовали римские, а затем византийские мастера. Даже исламская философия цвета в это время существенно не отличалась от западной. Описания исламских зданий подчеркивали, прежде всего, свойства материала отражать и преломлять свет: «роль света в исламской мистике, – считает Д. Гейдж, – была очень похожа на его роль в раннем христианстве и предположительно опиралась на учение о восприятии, включавшей также идеи Платона и Плотина». Деление цветовой терминологии в арабском языке (примерно IX век) совпадало с делением, существовавшим в европейских языках этого времени: главным было разграничение светлого и темного, выделение отдельных цветов было неточным и размытым, относительным. И даже примеры выдающегося ремесленного мастерства, которые ислам привнес в историю искусства – обтянутая люстрином керамика, которая производилась в подражание металлическим изделиям примерно с VII века в Египте, и монохромные шелковые ткани, изготавливавшиеся в IX веке в Персии и в XI веке в Антиохии или Дамаске, – по своему воздействию строились полностью на создании световых впечатлений»[95].
Церковью была «постоянно вынуждена быть начеку, следя за тем, чтобы Бога не слишком уж переносили с неба на землю»[96], и воздвигая для этого преграды. Теперь, в отличие от Античности, глубоко в сознании народа лежало убеждение, что наслаждаться блаженством единения с Богом невозможно тогда и так часто, как он того пожелает: «это могут быть лишь весьма краткие, редкие, благословенные мгновения; и вот тогда, у подножия высот, оказывалась пребывавшая в неизменном ожидании Церковь со своей мудрой и экономной системой таинств. Именно Церковь мгновения соприкосновения духа с божественным началом сгустила и усилила в литургии до переживания вполне определенных моментов и придала форму и красочность таинствам»[97].
В жизни горожан, максимально проникнутой религией, благодаря церковным таинствам все важные события: рождение, брак, смерть – «достигали блеска мистерии», а менее значительные – «сопровождались неоднократными благословениями, церемониями, присловьями и обставлялись теми или иными обрядами»[98]. Важность и необходимость погружения в божественное, которое теперь считалось возможным только внутри церкви, поддерживалось «слоем стихийных верований». Например, считалось, что никто не может ослепнуть, никого не может постигнуть удар в тот день, в который он ходил к мессе; и пока длится месса, человек не стареет[99].
Поскольку одним из главных стремлений было передать скрытое за церковными стенами сверхъестественное и потустороннее, которые должны были внушать религиозный трепет и пугать, и которые зритель должен был живо воспринять, почувствовать и пережить, пространство внутри и вокруг значимых построек было театрализовано. Сделать это было несложно, поскольку простые люди жили в атмосфере чуда, считавшегося повседневной реальностью. Их вера в слово, изображения, символы была безгранична[100]. В средневековом городе «жизнь все еще сохраняла колорит сказки»[101]. Символизм был «живым дыханием средневековой мысли» и представлял собой «привычное стремление с помощью некоей вспомогательной линии продолжить всякую вещь, приближая ее к идее»[102].
Соединившись с наследием Античности и варварского мира, христианство выступило в качестве основы мировосприятия и мироощущения человека этой эпохи, создав ее единое идеолого-мировоззренческое поле, организованное христианским мифом об изначальной гармонии мира и умело
использовало средства, которые оказывали «ошеломляющее воздействие» на «неискушенные и невежественные умы»[103] того времени, затрагивая все «фибры души» средневекового горожанина. Звук колоколов «неизменно перекрывал шум беспокойной жизни; сколь бы он ни был разнообразным, он не смешивался ни с чем и возносил все преходящее в сферу порядка и ясности»[104]. Странствующие проповедники возбуждали народ своим красноречием. Ощутить осязаемое единство можно было в толпе частых процессий, шествий, собраний, представлений и ярмарок. Однако наиболее важной в средневековой культуре оказалась зрительная сторона. Мышление, зависимое от воплощения в образах, превращало все мыслимое в пластическое и изобразимое[105].
Незаменимыми иконические образы стали в изображении счастья. Передать счастье как-то по-другому оказывалось сложным и даже невозможным. Театрализованно описывать ужасы, внушать страх, трепет и пугать можно было и словами, когда же дело касалось житейских радостей и божественного величия «нарисовать картины счастья с той же яркостью, как жуткие и устрашающие, человеческий язык был не в состоянии. Чтобы еще более усугубить чрезмерность ужасов или бедствий, достаточно было всего лишь поглубже спуститься в низины собственного человеческого естества – тогда как для описания высшего блаженства нужно было, едва не вывихнув шею, устремлять свой взор к небу»[106].
Цветовые пространства хорошо подходили для этой цели. Они были сакральны, предельно условны, насыщены аллегориями и символами. Они служили важной частью «Библии в камне» (П. Сорокин)[107], воспринимались как своего рода божественный текст, который верующий мог легко прочитать. Для этого надо было только попасть внутрь храма, где цвет участвовал в создании особой атмосферы.
С ориентацией «вовнутрь» цветовых ритмов в архитектуре мировоззренчески была тесно связана особая, характерная для этой же эпохи и достигшая своего триумфа в XI–XII веках система изображения в живописи, получившая в противоположность прямой перспективе, разработанной в эпоху Возрождения, название «обратной». Специфическую черту мироощущения в обоих случаях составляли обращенность в себя, внутреннее созерцание, превосходство духа над телесным, «воспарение духа, пробуждение индивидуального чувства общения с Богом, сладостное мистическое переживание вечности в момент молитвенного озарения»[108].
М. Мерло-Понти[109], П. Флоренский[110], анализируя особенности обратной перспективы, единодушно подчеркивали, что в отличие от других моделей художественного пространства, она способна была передавать эмоции и тайну. Обратная перспектива производила чрезвычайно сильное впечатление, поскольку представляемое с ее помощью пространство разворачивалось в ширину и в глубину, вверх и вниз, преодолевая ограниченность «плотского» зрения. При изображении в обратной перспективе предметы расширялись при их удалении от зрителя, словно центр схода линий находился не на горизонте, а внутри самого зрителя. Земной мир понимался как отражение и подобие небесного, который нельзя было воспринять чувственным взором, он открывался, как верили, лишь внутреннему озарению[111]. Человек «не видел» то пространство, в котором жил, у него не было осознания опыта его восприятия, так же как и способа его изображения[112].
Миросозерцание эпохи, отразившееся в создании «островов» божественного сделало городское пространство Средневековья более упрощенным, мрачным и аскетичным по сравнению с Античностью, поскольку средневековое понимание цвета в городском пространстве замкнуло его внутри сакральных мест.
Внешние фасады рассматривались как оболочка, которая закрывала участвовавших в таинстве верующих. Стены ассоциировались со спасением, так как защищали внутреннее пространство от греха. А само цветовое пространство воспроизводило принципы мифологической модели острова, представляя собой «иной», священный мир.
Такое наполненное цветовыми островами, построенными по принципам обратной перспективы, пространство города оказалось очень сильным по своему воздействию. Оно было сложным, насыщенным и энергетичным. Здесь, внутри, народ мог укрыться от суетности, от «удушающих адских страхов» и «дикой жестокости»[113] реального злого и несправедливого мира, отречься от всех мирских проблем и «узреть незримое», погрузиться в «сияние счастья», в светлое наслаждение блаженством единения с Богом, кристаллизованное в прозрачной чистоте божественного света, где «трепетная вера этого времени постоянно жаждала непосредственно пребывать в красочных, сверкающих образах», а чудо осознавалось как таковое, поскольку происходило прямо перед глазами[114]. Здесь, внутри, погруженный в цвет, человек освобождался от хозяйственных забот и «обретал новый Рай, где, как и в изначальном, он мог вести беседы с нисходящим сюда Богом и, более того, где – в отличие от прежнего Рая – пребывал отныне Богочеловек»[115].
Чтобы выразить то, что может дать только Бог, приходилось отказаться от всяческой образности. Церковь гибко и умело пользовалась цветом как средством выражения мистического переживания, которому невозможно дать точное описание. Яркие, наполненные цветом образные представления легко находили себе место в обширной, всеохватывающей системе символического мышления, в которой благородный и величественный образ мира представлялся единым «сбором идей, богатейшим ритмическим и полифонным выражением всего, что можно помыслить»[116]. Свет внутри маркировал другой мир, понятный для верующих и открытый для тех, кто обладает особым, духовным, зрением. Для верующих свет сопровождал божественное, реальность которого при всей его непостижимости и недоступности была неизмеримо более важной и убедительной, чем быстротечная собственная земная жизнь. Реальность вездесущая, ощущаемая за каждым событием, незримый свидетель и судья, от чьего взора невозможно укрыться никогда и нигде.
Такое распределение цвета в городском пространстве располагало к «индивидуальному (пусть и мистическому) постижению Бога через воспарение духа»[117], утверждало, что спасения достигают, соблюдая порядок и дисциплину, под контролем власти, или, точнее, двух сотрудничающих властей – епископа и государя[118]. Оно поддерживало пассивный процесс против угнетения и предлагало выход из этого состояния, который открывался для верующих в потустороннем мире, поскольку там, в этом другом мире, перед богом все были равны.
В реальной социальной структуре городского общества этого времени «дело вовсе не ограничивалось обычной триадой: духовенство, аристократия и третье сословие. (…) В общем, всякая группировка, всякое занятие, всякая профессия рассматривались как сословие, и наряду с разделением общества на три сословия вполне может встретиться и подразделение на двенадцать!», – отмечает Й. Хейзинга. Каждое сословие понималось как «состояние, estat, ordo [порядок]», и за этими терминами стояла мысль о богоустановленной действительности. «Понятия estat и ordre в Средние века охватывали множество категорий, на наш взгляд весьма разнородных: сословия (в нашем понимании); профессии; состояние в браке, наряду с сохранением девства; пребывание в состоянии греха (estat de pechie); четыре придворных estats de corps et de bouche [звания телес и уст); хлебодар, кравчий, стольник, кухмейстер; лиц, посвятивших себя служению Церкви (священник, диакон, служки и пр.); монашеские и рыцарские ордена. В средневековом мышлении такое понятие, как «сословие» (состояние) или «орден» (порядок), во всех этих случаях удерживается благодаря сознанию, что каждая из этих групп являет собой божественное установление, некий орден мироздания, столь же существенный и столь же иерархически почитаемый, как небесные Престолы и Власти»[119].
Продолжая следовать схеме закрытого общества, социальная структура рассматривалась как физически, объективно предопределенная и естественная, а потому, как и в Античности, в создании цветовых пространственных образов Средневековья активно участвовала природа, которая в Средние века выступала в искусстве как действующее начало, сочувствующее человеку, символизирующее что-то в его жизни и в отношении к нему Бога (особенно заметно это проявилось в литературе и фольклоре)[120]. «Для Средних веков природа – это прежде всего организованный Богом мир, мир, который несомненно выше человека, «учит» человека, подает человеку добрый пример праведной жизни», – пишет Д.С. Лихачев. «Противопоставление природы как беспорядка человеку как представителю порядка и культуры – типичное противопоставление Нового времени. <…> Мир природы – это мир святости, уход из «человеческого мира» – это прежде всего уход от греха в богоустановленный порядок не испорченной грехом природы»[121].
Дикая природа считалась безгреховной, поскольку была устроена самим богом, без вмешательства человека. Именно такое ощущение должны были создавать и особенности средневековых храмов. Архитектурные постройки мыслились внутри природы, о чем свидетельствуют изображения зданий в окружении деревьев на иконах и картинах XV–XVII веков. На существование такой связи указывают также детали градостроительного законодательства, которое из Византии было воспринято в другие европейские страны и предусматривало разрывы между зданиями, запрещая загораживать постройками вид на окружающую природу[122].
Силуэты романских построек повторяли и обобщали естественный рельеф, а их колористика гармонировала с природным окружением, стараясь использовать привычный язык для создания чувства неотделимости от природы. В отличие от более ранних базилик, построенных из кирпича, романские возводились из небольших, грубо отесанных камней (хотя в некоторых районах Франции и Германии кирпич тоже употреблялся), и этот местный камень, чаще всего служивший строительным материалом, органично сочетался с оттенками земли и зелени.
Все вокруг должно было создавать атмосферу того, что место это является естественным творением, но при этом творением природы (но не человека), которая рассматривалась как символ высшего, незримого мира. Даже цветная мозаика под ногами использовалась для того, чтобы «можно было бы подумать, что находишься на роскошном лугу, покрытом цветами». «Как не удивляться то пурпурному их цвету, то изумрудному; одни показывают багряный цвет, у других, как солнце, сияет белый; а некоторые из них, сразу являясь разноцветными, показывают различные окраски, как будто бы природа была их художником»[123].
Значимость цветовых символов в социальном пространстве поддерживалась их расположением в пространстве физическом. В основе средневекового образного мышления лежала вертикальная модель мира[124], в которой выше означало значительнее, сильнее. Силуэт города определяли здания находящихся в то время у власти институтов (церкви, ратуши). Элита жила непосредственно в центре, в то время как дома непривилегированных горожан располагались на окраинах или даже за городскими стенами. Дворцы и соборы возносились «высоко над городом, устремляясь ввысь над этим островком продуктивного изобилия, следя за всем, что производится и продается в этом людском гнездовище, которое, стоит лишь выйти из стен храма, представляет собой лабиринт узких улочек с бесчисленными сточными канавами и скотными сараями»[125]. Возвышение замков более богатых владельцев, занимающих господствующее по отношению к прочим положение, над множеством аристократических замков и поместий стало играть важную социальную роль, показывая взаимозависимость между людьми[126]. Такую же функцию выполняли и шпили готических соборов, устремленные все выше и выше не из-за того, что горожане стали больше верить в Бога, а в силу возрастания конкуренции между городами[127].
Несмотря на пестроту и неустойчивость городского населения, средневековым городским обществам удавалось, часто в течение очень долгого времени, избегать раздробления. В цветовой ткани городов отпечатывался характерный и для Античности общинный образ жизни и патриархальный образ мысли, сохранившиеся вопреки тому, что продолжающийся процесс урбанизации принес целый ряд социальных проблем: иммиграцию, разложение, на некоторых территориях, традиционной социальной стратификации, демографический кризис позднего средневековья, который акцентировал социальные различия и, предоставляя одним новые возможности экономического продвижения, другим, менее удачливым, принес новые опасности[128].Общественные пространства по-прежнему доминировали над частными[129]. Условия для создания атмосферы солидарности различных социальных групп горожан в одном сообществе обеспечивали продуманные связи соседства, родства, экономических интересов и искусственно созданные братства, сообщества, гильдии[130]. В средневековых городах существовала сильная тенденция к гомогенному использованию пространства, например, отдельные промыслы были собраны на одних и тех же улицах. Внутри города создавались своего рода «гетто», в которых рядом друг с другом, в изоляции от других, жили представители определенных социальных групп (цехов), этнических групп или групп родственников (например, одного пола)[131]. Однако такие гомогенные поля по техническим причинам не могли распространиться настолько, чтобы создалось впечатление однородного пространства, и в результате в целом образ города получался все-таки мозаичным, но при этом был довольно сдержанным и единым по цвету. Цветовая структура городов оставалась очень скромной, и была составлена из тесного нагромождения, в основном, деревянных построек.
В цвете жилой архитектуры отчетливее проступила социальная дифференциация. Однако в это время у пространственной сегрегации еще не было ярких визуальных маркеров. В быту красивым считалось разноцветное и блестящее, а чаще всего еще и богатое[132]. Но позволить себе такой набор свойств могла только небольшая часть горожан, хотя многие города были богаты, и это было новое, денежное богатство. Более очевидным и резким стал существенный для средневековой культуры разрыв между элитой и простолюдинами, быт, нравы, язык и даже характер веры которых были различны. «Средневековый город не переходил, – пишет об этом Й. Хейзинга, – подобно нашим городам, в неряшливые окраины с бесхитростными домишками и унылыми фабриками, но выступал как единое целое, опоясанный стенами и ощетинившийся грозными башнями. Сколь высокими и массивными ни были бы каменные дома купцов или знати, здания храмов своими громадами величественно царили над городом»[133]. Крестьянский дом строился из самана или из дерева, если и употреблялся камень, то не выше фундамента. Дома богатых горожан представляли собой укрепленные замки, которые были символом безопасности, мощи, престижа и повторяли цветовые принципы религиозных построек[134]. Земная власть понималась как аналогия небесной, и это представление сближало цвета и формы храмовой и дворцовой архитектуры Средневековья.




