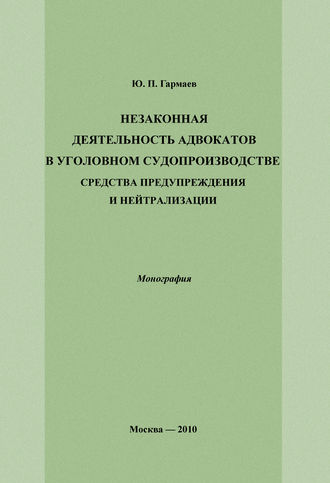
Ю. П. Гармаев
Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве, средства предупреждения и нейтрализации
1.6. Осуществление защиты не запрещенными средствами и способами
Большая часть полномочий защитника в уголовном судопроизводстве регламентирована статьей 53 УПК РФ. Эта статья содержит открытый перечень прав защитника, единственным и достаточно неопределенным ограничением которого является указание на то, что защитник вправе использовать только не запрещенные настоящим Кодексом средства и способы защиты (п. 11 ч. 1 ст. 53 УПК РФ).
Уместно будет вспомнить, что по УПК РСФСР (ст. 51) защитник вправе был использовать любые средства и способы защиты, не противоречащие закону. Таким образом, формула: «разрешено все, что не противоречит закону», была заменена на: «разрешено все, что не запрещено данным законом». Сущностную разницу между двумя этими формулами уловить не сложно. Законодатель, на мой взгляд, необоснованно установил ограничения в выборе защитником средств и способов защиты только не запрещенными действующим УПК РФ. Очевидно, что недопустимыми в уголовном судопроизводстве являются и те средства защиты, которые нарушают нормы уголовного законодательства, законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, административные и другие нормы. Этот вывод подтверждают и положения Закона об адвокатуре (п. 7 ч. 3 ст. 6 и п. 1 ч. 1 ст. 7).
В связи с этим полагаю, что п. 11 ч. 1 ст. 53 УПК РФ необходимо было бы сформулировать следующим образом: «11) Использовать иные, не запрещенные законодательством РФ средства и способы защиты».
Итак, защитнику разрешено осуществлять защиту любыми, не запрещенными законом средствами и способами. Эта широкая и неопределенная законодательная конструкция во многом создает проблемы предмета исследования данной работы. Что значит «незаконные средства защиты»? Где та грань между законностью и незаконностью? Только с максимально возможной степенью определенности ответив на эти вопросы, можно провести настоящее исследование и предлагать какие-то рекомендации для практики.
Как уже отмечалось во введении к книге, тактика и методика защиты в значительной части имеют ненормативную основу, т. е., находясь в правовых границах, сами по себе нормами права не регулируются[30]. Однако автор не ратует за введение четкой регламентации процессуального порядка, тактики и методики защиты. Это невозможно, да и нецелесообразно. Отмечу лишь, что, по крайней мере, на уровне методического обеспечения, доктринального толкования закона, необходимо более четкое определение пределов правомерности средств и способов защиты. Итак, в связи с неопределенностью этих границ хотелось бы при анализе конкретных фактов из числа распространенных в правоприменительной практике давать небесспорную оценку законности поведения адвоката.
Здесь же обратим внимание лишь на пределы законности тех общих полномочий защитника, которые регламентированы ч. 1 ст. 53 УПК РФ.
1.7. Право на свидание с подзащитным
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, защитник, с момента начала участия в уголовном деле, вправе иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания в соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 46 и п. 9 ч. 4 ст. 47 настоящего кодекса, т. е. наедине и в условиях конфиденциальности, без ограничения числа и продолжительности таких свиданий.
Не будем так же забывать, что в соответствие с частью 4 статьи 92 УПК РФ в «В случае необходимости производства процессуальных действий с участием подозреваемого продолжительность свидания свыше 2 часов может быть ограничена дознавателем, следователем с обязательным предварительным уведомлением об этом подозреваемого и его защитника. В любом случае продолжительность свидания не может быть менее 2 часов».
Таким образом, законодатель, с одной стороны, еще более укрепил право подозреваемого на квалифицированную юридическую помощь, в данном случае в части встречи наедине и конфиденциально с защитником до начала производства с ним первых процессуальных действий. Как уже было отмечено, именно в первой беседе адвоката с клиентом закладываются основные параметры защиты, вырабатывается линия поведения, подозреваемый обсуждает с защитником те показания, которые ему предстоит дать на первом и последующем допросах. Теперь временной интервал такой беседы не может быть менее 2 часов в случае, если лицо задержано. Прежде всего, это оградит сторону защиты от возможных незаконных действий недобросовестных следователей, пытающихся лишить ее права на такое свидание или ограничить его искусственно на срок менее двух часов.
С другой стороны, законодатель дал возможность стороне обвинения, при необходимости проведения следственных действий, ограничить время свидания адвоката с подзащитным только двумя часами с обязательным предварительным уведомлением обоих.
Уяснение значения термина «наедине» в практике не вызывает особых затруднений. Наедине – означает один на один, вдвоем, без свидетелей[31]. Значительно большие трудности на практике вызывает понимание значения термина «конфиденциальность».
Бесспорно, что при заявлении соответствующего ходатайства следователь (дознаватель) обязан создать защитнику и обвиняемому (подозреваемому) такие условия, при которых они могли бы остаться наедине вдвоем в определенном помещении (в кабинете, в камере ИВС, СИЗО и т. п.) или ином месте для обсуждения возникших вопросов, выработки единой позиции по делу.
Обеспечение права на свидание не может быть поставлено в зависимость от предварительного допроса обвиняемого или подозреваемого либо производства других следственных действий[32].
Порядок свидания защитника с обвиняемыми и подозреваемыми, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ) регламентируется ст. 18 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»[33].
Закон и судебная практика всемерно защищают это право стороны защиты. Так, неправомерными и несоответствующими Конституции РФ признал Конституционный Суд в своем Постановлении от 25.10.01 № 14-П «По делу о проверке конституционности положений, содержащихся в ст. 47 и 51 УПК РСФСР и п. 15 ч. 2 ст. 16 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», в связи с жалобами граждан А.П. Голомидова, В.Г. Кислицина и И.В. Москвичева» ведомственные ограничения на свидание обвиняемого (подозреваемого) в зависимости от наличия разрешения на это от лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело.
В ч. 2 статьи 18 закона «О содержании под стражей…» указано, что «свидания подозреваемого или обвиняемого с его защитником могут иметь место в условиях, позволяющих сотруднику места содержания под стражей видеть их, но не слышать». Подчеркнем, что запрещено «сотруднику места содержания под стражей», а не любому сотруднику правоохранительных органов.
Данная норма гарантирует адвокату и его подзащитному условия общения наедине и конфиденциально. Но гарантирует ли она неприкосновенность таких свиданий, да и вообще любых контактов защитника со своим клиентом (по телефону, в общении за пределами помещений и т. п.) от проведения оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в порядке, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»?
Этот крайне актуальный в практике вопрос в актах легального и судебного толкования не рассматривался. На мой взгляд, субъекты расследования вправе назначать и проводить оперативно-розыскные мероприятия в отношении адвоката и его подзащитного, в том числе и во время их конфиденциальных свиданий. Безусловно, такое возможно только при наличии предусмотренных законодательством оснований и при строгом соблюдении условий, а так же с соблюдением ряда процессуальных ограничений. Комплекс норм, обеспечивающих стороне обвинения право на проведение соответствующих мероприятий, относится не только к УПК РФ, но и к другим нормативно-правовым актам разноотраслевого характера. Поэтому свою точку зрения более подробно я обосную в отдельной главе (1.13)[34].
На практике нередко возникает вопрос: как действовать, если защитник, участвующий в производстве следственного действия, просит прервать его и предоставить свидание с подзащитным наедине? Нетрудно понять причины, по которым часто адвокаты настаивают на таком свидании. Тем самым можно свести на нет использование следователем всех тактических приемов допроса. Недобросовестные защитники не избегут искушения дать указания подзащитному о даче тех или иных, далеко не всегда правдивых, но выгодных стороне защиты показаний (подробно об этом См. гл. 10.2).
Между тем, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь уполномочен самостоятельно направлять ход расследования, принимать решения о производстве следственных и иных процессуальных действий. В рамках допроса следователь свободен в выборе его тактики (ч. 2 ст. 189 УПК РФ).
Присоединяюсь к мнению о том, что, следователь вправе, не нарушая права обвиняемого (подозреваемого) на защиту, отказать защитнику в предоставлении свидания с подзащитным во время проведения следственного действия, если до его начала защитнику была предоставлена возможность встретиться с подзащитным наедине и если о предоставлении свидания не ходатайствует обвиняемый или подозреваемый[35].
1.8. Пределы полномочий защитника по собиранию доказательств
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ защитник впервые в истории российского уголовно-процессуального законодательства получил право не только представлять, но и собирать доказательства, необходимые для оказания юридической помощи, в порядке, установленном ч. 3 ст. 86 кодекса.
В данной норме указано, что защитник вправе собирать доказательства путем:
1. получения предметов, документов и иных сведений;
2. опроса лиц с их согласия;
3. истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии.
Анализ этих положений указывает, что после многочисленных дискуссий в основу концепции УПК РФ не была положена идея введения параллельного расследования, проводимого стороной защиты[36]. Хотя многие ученые высказывались по вопросу о возможности наделения защитника обвиняемого правом проводить следственные действия с целью выявления оправдывающих или смягчающих ответственность обстоятельств с изложением своих выводов в «оправдательном заключении», которое можно было бы направлять в суд вместе с уголовным делом[37].
Однако представляется, что новеллы закона, связанные с различными аспектами собирания доказательств защитниками вызовут серьезные сложности на практике. В той или иной мере неизбежны перегибы, и в то же время недооценка этих важных и эффективнейших инструментов защиты в руках адвокатов.
Прежде всего, необходимо отметить, что всей полнотой государственно-властных, в том числе процессуальных полномочий по собиранию доказательств, российский уголовно-процессуальный закон традиционно наделил только участников уголовного судопроизводства, ответственных за ведение уголовного дела. Собирание доказательств они производят посредством проведения всех предусмотренных действующим законом следственных действий, включая обыск, личный обыск, выемку, осмотр, освидетельствование и др.
Для защитников УПК РФ предусмотрел полномочия по осуществлению только трех вышеупомянутых мер, ни одно из которых следственным действием не является.
Если в ходе проведения следственных и иных действий следователь (дознаватель) вправе реализовывать властные полномочия, т. е. давать обязательные для исполнения распоряжения в отношении лиц, не находящихся у него в служебной зависимости, принимать решения, обязательные для исполнения гражданами и организациями независимо от их ведомственной принадлежности[38], в том числе, применять принудительные меры, связанные с ограничением прав и свобод граждан[39], то защитник при проведении опроса лиц, получении предметов, документов и иных сведений, истребовании справок и т. д. ни в коей мере не вправе присваивать какие-либо властные полномочия.
В уголовно-процессуальном законе не решен вопрос: должен ли адвокат в разговоре с опрашиваемым им лицом сказать, что является защитником подозреваемого или обвиняемого, или достаточно простого согласия данного лица. Согласен с позицией Н. Кузнецова и С. Дадонова, которые утверждают, что адвокат если не сразу, то хотя бы во время опроса должен сообщить опрашиваемому для чего нужны получаемые от него сведения. И уж конечно адвокат не вправе придумывать для более успешного опроса лица «легенду» о своей принадлежности к какому-нибудь «компетентному ведомству», а тем более принуждать опрашиваемого к даче ложных показаний[40]. Граждане не обязаны, а лишь вправе давать показания защитнику, если они на то согласны.
Защитник не вправе обязывать явкой в адвокатский кабинет (бюро, юридическую консультацию) лиц, которых он намерен опросить по обстоятельствам, имеющим отношение к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь. Он не вправе официально предупреждать опрашиваемое лицо об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и за отказ от дачи показаний (ст. ст. 307 и 308 УК РФ) в рамках данного опроса и отбирать соответствующую подписку. Он, разумеется, может разъяснить лицу перспективы привлечения к уголовной ответственности за дачу ложных показаний или за отказ от дачи показаний на допросе у следователя, но никак не за аналогичные действия на проводимом им самим опросе. В равной мере защитник не имеет права изымать либо даже просто требовать те или иные предметы и документы у их владельца – физического лица, как это вправе делать следователь (дознаватель) в рамках обыска или выемки.
Формируемая в настоящее время адвокатская практика дает примеры превышения полномочий со стороны защитников по уголовным делам. Недобросовестные адвокаты порой стремятся де-факто приравнять свои полномочия к полномочиям следователей (разумеется, без той ответственности, под грузом которой ходит это должностное лицо), т. е. пытаться проводить опрос как допрос, получение предметов и документов, как их выемку или даже обыск и т. п. Правоохранительные органы и суд вправе и обязаны пресекать такие нарушения закона, используя весь комплекс мер, о которых будем говорить в дальнейшем[41].
Далее, показания лиц, опрошенных защитниками, предметы, документы и иные сведения могут по своему содержанию являться доказательствами (ч. 1 ст. 74 УПК РФ), но сами по себе, вне их процессуального оформления судом, следователем или дознавателем не могут быть признаны допустимыми.
В литературе по данному вопросу высказываются и противоположные мнения. Например, предлагается представляемые защитником объяснения опрошенных лиц, справки о проведенном исследовании, приобщать к делу как «иные документы», которые, исходя из перечня ч. 2 ст. 74 УПК РФ, допускаются в качестве доказательств[42]. Полагаю, что данная позиция ошибочна, поскольку не соответствует положениям норм, предусмотренных статьями 74–84 УПК РФ. Так, в качестве доказательств допускаются показания свидетеля (п. 2 ч. 2 ст. 74 УПК РФ). При этом, допустимые показания свидетеля – это только те сведения, которые он сообщил на допросе суду или должностному лицу, производящему расследование (ст. 79 УПК РФ), но никак не показания, данные свидетелем в рамках опроса у защитника. То есть протокол опроса лица, составленный защитником, содержит показания свидетеля, а они могут быть процессуально легализованы только через допрос этого свидетеля уполномоченным должностным лицом, а никак не через приобщение протокола опроса в качестве «иного документа» (ст. 84 УПК РФ)[43]. Здесь ситуация аналогична той, что складывается при решении вопроса о допустимости протоколов опроса (пресловутые «объяснения», «чистосердечные признания»), произведенного оперуполномоченными. Как известно, такие документы и содержащиеся в них показания, как правило, признаются судами недопустимыми доказательствами[44].
Это означает, что даже если защитник в рамках проведенного им опроса получил сведения, интересующие сторону защиты, то эти сведения только тогда станут допустимыми доказательствами, когда названные уполномоченные субъекты допросят это лицо[45]. К примеру, если защитник требует приобщить к делу протокол опроса нужного ему лица – предполагаемого свидетеля защиты, но следователь по тем или иным объективным причинам не может допросить указанное лицо (свидетель тяжело болен, выехал в неизвестном направлении и т. п.), то такие показания не являются допустимыми доказательствами и не имеют юридической силы. Если и в суд такой свидетель не явиться, то даже ссылаться на его показания защитник не вправе.
Аналогичным образом недопустимы и справки об исследовании, проведенном по инициативе защитника. Допустимым доказательством является только заключение эксперта (п. 3 ч. 2 ст. 74 и ст. 80 УПК РФ), а оно содержит результаты исследования, которое проводится только на основании постановления лица, ведущего производство по делу (ст. 195 УПК РФ).
Вещественными доказательствами признаются только те предметы, которые проверены, оценены и признаны таковыми судом, следователем или дознавателем (ст. 81 УПК РФ), но никак не те предметы, которые получены только защитником. Лишь тот полученный адвокатом предмет (документ) будет процессуально легализован как вещественное доказательство, который будет затем проверен, оценен и приобщен к делу следователем, судом.
Все собранные и представленные защитником в нарушении комментируемых положений закона доказательства должны быть признаны недопустимыми, согласно положениям ч. 1 и п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ.
1.9. Проверка и оценка доказательств, собранных защитником
Следует выделить и некоторые особенности, связанные с процедурой проверки и оценки доказательств, собранных и представленных защитником для приобщения к делу.
Как известно, субъектами проверки и оценки доказательств являются только дознаватель, следователь, прокурор или суд (ст. ст. 87 и 88 УПК РФ). Проверка доказательств производится путем их сопоставления с другими доказательствами, имеющимися в деле, а так же установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство (ст. 87 УПК РФ). Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела (ст. 88 УПК РФ).
Предположим, что защитник в порядке ч. 3 ст. 86 УПК РФ лично добыл или получил от третьих лиц предмет или документ, оправдывающий или смягчающий вину его подзащитного. Следователь должен произвести выемку такого предмета или документа у защитника. Далее только он, а так же дознаватель, прокурор или суд, вправе произвести проверку и оценку данного доказательства, если оно таковым является. Так, с точки зрения источника получения, такой предмет может (хотя и не обязательно) вызывать обоснованные сомнения, поскольку получен от заинтересованного лица – защитника. Подобного же рода обстоятельства будут учитываться при оценке допустимости и достоверности. В любом случае следователь должен проверить данное доказательство в сопоставлении с другими, собранными по делу и оценить его в соответствии с правилами оценки (ст. 88 УПК РФ), по своему внутреннему убеждению, руководствуясь при этом законом и совестью (ч. 1 ст. 17 УПК РФ).
Обобщая вышеизложенное, полагаю, что в практике в основном только непосредственное изъятие следователем (дознавателем), того или иного предмета или документа может обеспечить надежную перспективу признания их относимости, допустимости и достоверности как доказательства.
Но следует особо подчеркнуть, что перегибы в сторону излишнего недоверия к деятельности защитника по собиранию доказательств недопустимы, да и не выгодны стороне обвинения. Очень многие адвокаты являются высококвалифицированными юристами, имеющими богатый опыт работы в правоохранительных органах. Большинство адвокатов – принципиальные и порядочные люди. Сплошь и рядом их квалификация оказывается выше, опыт богаче, чем у их процессуальных противников – следователей и дознавателей. Работа такого защитника по собиранию доказательств может существенно помочь правосудию и пренебрегать этим нельзя ни в коем случае.
И, тем не менее, у следователя всегда есть право пресекать всякие попытки недобросовестного адвоката превысить предоставленные ему законом полномочия по сбору доказательств, попытки навязать признание допустимыми тех из них, которые при тщательной проверке и оценке не удовлетворяют требованиям закона.
Некоторые новые полномочия адвоката
Комментируемая ст. 53 УПК РФ так же предоставляет защитнику, помимо уже известных по УПК РСФСР, полномочия, бесспорно усиливающие его потенциальные возможности. К их числу можно отнести:
– право на привлечение специалиста;
– обеспечение доступа к более широкому кругу документов в ходе расследования;
– предоставление возможности по окончании расследования не только выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме, но и снимать копии с материалов дела, в том числе с помощью технических средств.
Другие нормы УПК РФ так же обеспечивают новые полномочия адвоката-защитника и адвоката-представителя, в частности:
– право на участие в допросе свидетеля;
– право адвоката присутствовать при обыске и другие.
Все эти дополнительные полномочия вызывают у практических работников стороны обвинения определенные опасения, а порой даже своеобразную панику, которую они объясняют тем, что теперь противостоять преступности, в особенности организованной и коррумпированной, будет значительно сложнее.
Попробуем путем определения пределов этих полномочий, выяснить так ли это, действительно ли закон, обеспечивая сторону защиты более эффективными процессуальными средствами, не снабдил сторону обвинения возможностями адекватного противостояния в рамках провозглашенного принципа состязательности сторон?







