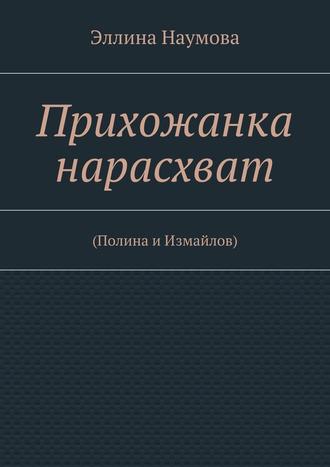
Эллина Наумова
Прихожанка нарасхват
Глава вторая
В восемь утра надрывно заскулил дверной звонок. Этот звук мог вогнать в уныние любого сангвиника. Я и не замечала, что сигнал о приходе гостей в дом настолько противен. Как еще не набрасываюсь на визитеров с кулаками, интересно?
В прихожую вошли мама и мой шестилетний сын Всеволод. Мама лучезарно улыбалась. Севка обиженно сопел, будто отказывался понимать, зачем его сюда притащили. Я стояла перед ними босая и хмурая.
– Поля, дочка, ты просыпаешься для того, чтобы хандрить? – изумилась мама.
– Нет, для того, чтобы бороться и искать, найти и не сдаваться, – отчиталась я.
– Тогда я за тебя спокойна, – посерьезнела на миг мама. – Папа рано уехал в офис, а мне надо на йогу. Севушкино присутствие на занятии нежелательно. В прошлый раз он сказал Ольге Борисовне: «О, за такую жопу грузин на базаре мешок лука дает»…
– Всеволод! – обомлела я.
– Не трудись, дочка, мы уже все обсудили. Он слышал эту фразу от мальчишек в парке и счел ее смешной. Мальчишки дрянные, Севушка хороший, поэтому впредь произносить бранных слов не будет.
– Мама, ты уверена, что твоей мотивировки достаточно для не повторения, так сказать…
– Уверена, – перебила мама. – Он – наиодареннейший малыш. В его возрасте столь точно распознать размер зада, с которым выгодно посещать базар!
Бабушка и внук друг друга стоили. Она унеслась совершенствовать фигуру и обретать покой. Он уселся на кухонный стул и потребовал какао. Дня три будет подкладывать под мягкое место правую ногу и капризно повелевать. Потом я строгостью приведу ребенка в норму, потом мама снова заберет его к себе и возвратит испорченным вседозволенностью. Уму непостижимо, но когда он командует ею, она исполняет его прихоти настолько весело и легко, что, кажется, они играют. Когда же сын проделывает подобное со мной, создается тяжкое впечатление, будто малолетняя свинья смеет хамить матери. Я пробовала протестовать, требуя некоторого равенства условий существования Севки. «Мужчина должен учиться быть тираном, – отрезала мама. – Иначе, любая умело размалеванная кукла лишит его воли к жизни». «Папе ты всегда внушала обратное. Что-то вроде, мужчина силен, поэтому должен быть великодушным», – напомнила я. Нашла кому! «Папа – совсем другой случай, – усмехнулась она. – У папы другая группа крови и другой знак Зодиака. Кстати, почему я должна повторяться, и, если Бог послал мне двух мужчин, творить их одинаково»? Оспаривать ее право на творчество я не решаюсь.
Итак, постоянно попадающий из огня в полымя Севка вволю поерзал, подул на какао и забрызгал стол, уронил на пол печенье. Я терпела скорее из любопытства – сколько безобразий в минуту можно сделать – чем из покорности. Наконец, он угомонился, округлил глаза и прошептал:
– Мам, ты только никому не говори. Балерины пили водку. Много водки.
Во мне мгновенно воспряло давешнее сожаление о неразделенном с Настасьей спирте. Внутренне я солидаризировалась со всякой надравшейся в неурочный час Жизелью. И не сумела не то, что возмутиться, изобразить возмущение. А, наверное, нужно было бы воспользоваться моментом и раздуть в дитятке антиалкогольную искру. «Ладно, проехали, иногда и потушить доводится, если слишком рьяно раздуваешь», – подумала я. И ляпнула:
– Ну и что?
– Мамочка, они же балерины!
Сын почти визжал. Да, в прошлом году в его жизни случился «Щелкунчик». И вот балерины, читай неземные существа в потрясших Севку пачках и пуантах, созданные отхлебывать нектар из золотых кубков, облачившись в джинсы и кроссовки, лакали водяру из продающейся в каждой продуктовой лавке бутылки. Однако, повторюсь, вчера я вбила себе в голову, что наличие яда в крови оправдало бы мою дурость. И ничего другого сегодня изобрести не успела. Снова нахлынуло: какой-то подонок принял мои слова о христианской любви и дружбе за приглашение под ближайший куст. Сопливый недоумок влепил мне пощечину во дворе, в котором Севке еще гулять и гулять. На секунду померещилось, будто сын уже осведомлен об этом. Я похолодела. Если страх смерти – признак сердечного приступа, то у меня был сердечный приступ. Через силу, отвратительно заискивающим тоном я объяснила, что пить водку вредно всем, независимо от профессии. Он скуксился. «Подрасти, – мысленно утешила я сынишку. – Откроется, что балерины еще и с мужчинами спят, и тебе полегчает».
Теперь невольно скривилась я. Мало того, что все чаще ловлю себя на пошлых мыслях, так еще и в свете моего вчерашнего успеха у бандитствующего юнца тема секса стала мне так же неприятна, как и тема употребления спиртного. Я поняла, что обречена комплексовать, если сию секунду не начну избавляться от скверны. Надо было пробежаться по свежему воздуху, твердя нечто вроде: «Прошлое неизбежно, будущее свободно. Слишком высокая требовательность к себе попахивает гордыней». Собственно, твердить можно любую чушь, не задевающую самолюбия. Фокус в монотонном повторении одних фраз и борьбе с искушением аргументировано убеждать себя в их правильности.
Сева сполз со стула, увлекая за собой скатерть и стоящую на ней посуду. Мрачно поблагодарил за какао и побрел в комнату то ли страдать, то ли играть.
– Сын, – очнулась я, – как ты попал в компанию балетных?
– Бабуля удружила. Мы зашли к ее подруге, у которой есть племянница, балерина, со своими подругами, тоже балеринами, – поведал он.
Ах, мама, мама. «Поля, дочка, не таскай мальчика по разудалым своим приятельницам, а гуляй с ним в скверах, на детских площадках»… Мои приятельницы, если и пьющие, то не балерины!
Я крикнула Севке, что еще не бегала.
– Ломанись за здоровьем, – позволил сынок. – На обед слепишь вареники с картошкой и яйцами?
Ясно, для чего мне нужно здоровье. Избалованное чадо желает бесперебойно получать вкусное питание. А, может, я не хочу возиться у плиты? Возьму и накромсаю хлеба и сыра. Из вредности. В знак протеста. Пусть попробует отказаться есть. «Хватит, Полина, не нуди, – одернула я себя. – Не доставало еще, чтобы из-за гадкой вчерашней истории ребенок не наелся любимых вареников. Ты страдаешь, пусть и сын присоединяется? Подло». У меня никак не получалось хоть чем-нибудь себе угодить. Я взвыла и полезла в тренировочный костюм, как в петлю.
Трусца сразу не задалась. На улице было серо и тепло. Земля во дворе раскисла, корни жухлой травы уже не могли поддерживать ее упругость. На асфальте пешеходной дорожки гостеприимно распростерлись лужи. Перспектива чистки кроссовок и штанин ужасала. Единственно приемлемым вариантом представлялось погружение в ванну с раствором моющего средства в одежде и обуви. Как и собиралась, я бубнила себе под нос, что имею право на глупости, и почти достигла в них совершенства. Поначалу все во мне сопротивлялось наглой лжи. Натура требовала либо доказать тезис, либо покаяться. В ответ на ее настойчивые требования пришлось срочно менять фразу и думать: «Я достигла совершенства в своих глупостях, на которые имею полное право». Жажда правды забилась в конвульсиях. Так ей, пособнице самобичевания, и надо.
Я добежала до конца нашего дома и хотела, не глядя на место вчерашних неприятностей, обогнуть четырнадцатиэтажку. Но не выдержала, скосила глаза. Возле гаражей толпился народ. Бесспорно, владельцам не возбранялось проводить в четверг какой-нибудь субботник. Но зачем было созывать на него столько ветхих бабулек, детей и хронических алкоголиков? Я поднапряглась, но не смогла представить себе организации, одновременно раздающей на нашей окраине валенки, конфеты и чекушки на опохмел. Так, это не субботник и не подкуп электората. А, общественность снова митингует, требуя сноса «машинкиных домиков». Забросали инстанции жалобами, где-то чиновники решили для галочки поработать с населением, вот-вот нагрянут? Вдалеке показались две полицейские легковушки. Люди загудели. «Любопытно, кто подключил стражей порядка? Автомобилисты или борцы с выхлопными газами»? – подумала я и, позабыв о посланных здешнему пространству проклятьях, ринулась в эпицентр. Из которого через минуту начала отчаянно выбиваться. Не тут-то было – зеваки стояли плотно. А сирены выли все ближе. Пришлось имитировать позывы к рвоте.
– Выпустите журналистку, – пробасил толстенный дядя из соседнего подъезда, – нежная больно, заблюет еще.
– И от кого нынче незамужние беременеют? – спросил писклявый женский голос справа.
Меня подмывало оглядеться и хорошенько рассмотреть бабу, для которой единственной причиной тошноты был токсикоз при беременности. А не вид валяющегося на забетонированной площадке трупа. И чьего! Моего юного обидчика.
Постыдный факт, но в первый момент я испытала буйную радость. В голову полезли мысли о Высшей Справедливости. Я даже кокетливо попеняла Небу, мол, зачем так сурово наказывать юнца, достаточно было бы расквашенного носа или крупного фингала. Однако по мере приближения рысью к дому я стала приходить в себя. Поворачивая ключ в замке, избавилась от наваждения окончательно. Человек волен философствовать, когда голоден и бездомен, одинок и несчастен, но он обязательно должен быть в безопасности. А мне отвлеченные размышления взамен трезвого анализа ситуации могли боком выйти. Видел нас кто-нибудь вчера во дворе? Не придется ли объясняться с полицейскими по поводу странного позднего свидания? Расследующих убийства господ очень раздражают гражданки, которые по ночам топчутся на месте преступления с жертвой, а потом божатся, что не удосужились с ней познакомиться.
– Ма-ам? Ты вернулась?
Если Севка изволил покинуть свою комнату и предстать передо мной, значит, будет оглушать новостями. А не хватит ли мне на сегодня? Я трусливо попыталась обмануть сына и рок, промямлив:
– Нет, не вернулась.
– Звонили Вик, Настасья и бабушка, – хихикнул Сева.
– Не Вик, а Виктор Николаевич, не Настасья, а Анастасия Павловна, сколько можно повторять. Разве не довольно того, что я прощаю тебе выраженьица типа «ломанись за здоровьем», потому что сама ими грешу? – взорвалась я.
– Брось, мама, – безмятежно призвал сын, – а то я от страха все перезабуду. Полковник приедет завтра в обед, докторша велела тебя поцеловать, а бабушка – привезти меня к ужину. Сказала: «По-моему, твоя мать не в форме. Пожалуйста, не требуй с нее многого». Мам, вареники – это многое?
Я невольно рассмеялась. Ловко Севка вывернулся. И по именам и отчествам старших не назвал, и злить меня упрямством не стал. Сильно же ему вареников хочется.
– Я сделаю их тебе с удовольствием, сынок.
– Бабушка умная, – вроде как удивился просветлевший отпрыск. – Сказала: «Сначала передай про полковника, а потом проси у матери, что твоей душеньке угодно».
Ну, мама! Ведь через раз употребляю это слово в кратких энергичных восклицаниях. Приписала мою хандру тоске по Вику и нашла способ сообщить мне о своей догадливости. Знает, что Севка повторит их телефонный треп, не перепутав и буквы. Получалось: «Я все понимаю, дочка, забираю ребенка, встречай любовника без помех». Никак не поверит, что Севка нам с Виком не мешает. Почему я завожусь? Измайлов уже неделю в командировке, я по нему соскучилась. Но считаю эти переживания интимными и скрываю даже от мамы. Не провела ее. Не преуспела. Проиграла. А проигрывать я не люблю. Что со мной творится? Нет, чтобы поблагодарить маму и возликовать. Со столь серьезным отношением к жизни и окочуриться недолго. Могу я позволить себе роскошь очищающего от вредных привычек или напрочь избавляющего от земных забот инфаркта? Не могу. Следовательно, надо терпеть и обходиться без него.
И я начала приспосабливаться. Включила музыку, сделала гимнастику, приняла душ, накрутила волосы на бигуди, бухнула на плиту кастрюльки с картошкой и яйцами, вынула из морозилки мясо с намерением сегодня замариновать, а завтра к приезду Измайлова пожарить. На этом этапе хозяйственной деятельности уныние само меня покинуло. И то, что я не бросилась его удерживать или хотя бы провожать, свидетельствовало о полном выздоровлении. Все в мире было банальным. Но какое чудо, что оно вообще было.
Всеволод смолотил две тарелки вареников со сметаной. Впервые за несколько месяцев он не пререкался, когда я намекнула на приближение тихого часа. В детстве я лежала в больнице, где санитарка называла тихий час мертвым. Когда я поделилась этим воспоминанием с Настасьей, она хохотала до слез. Потом заявила:
– Извини, пациентам не понять черного медицинского юмора.
– Она так острила в педиатрической клинике? – не поверила своим ушам я.
– Нет, нет, успокойся. Наверное, какая-нибудь народная интерпретация. Но твоя манера слету подозревать людей в худшем мне не нравится.
– Вас, доктор, утешит то, что это манера, а не мания, – ответила я тогда.
А сейчас признала – цинизмом стал уже чертой характера. Даже про послушно расстилающего постель сынишку подумала: «Притворщик. Согласен улечься на час, лишь бы вечером транспортировала его к бабушке с дедушкой. А там он оторвется. Мама не видит пользы в дневном сне». Объевшийся Севка заснул сразу. Судя по всему, пьяные феи на пуантах в его снах не дебоширили. Мне оставалось лишь полюбоваться им и на цыпочках выйти вон.
Мы с Севкой обитаем на третьем этаже в двухкомнатной квартире. А начальник убойного отдела, полковник Виктор Николаевич Измайлов, ласково и просторечиво Вик, этажом ниже, тоже в двухкомнатной, но иначе расположенной и распланированной. Когда я завидую его холлу и поношу свой бестолково узкий и длинный коридор, он охотно предлагает съехаться. Знает, хитрец, что я быстренько найду десять отличительных признаков в пользу своего жилища. Мы оба слишком вольнолюбивы и заняты для ведения общего хозяйства.
Измайлов старше меня на двадцать лет. Маму это напрягает, папу – наоборот. Несмотря на мои бесчисленные выкрутасы, он ни разу меня не выпорол. Жалел, хотя в воспитательный эффект порки верит свято. Теперь ему за дочь стало спокойнее. Потому что он любит рассуждать о том, что воспитание – процесс пожизненный, и в глубине души надеется – у полицейского полковника рука с ремнем не дрогнет, в случае чего. И еще одно. Папа не любитель спиртного. Сто граммов коньяка в праздник – его доза. Но даже в редкие дни, когда он себе позволяет, папа не станет пить с человеком моложе себя. Потрясающая заморочка, до корней которой не докопалась и неуемная мама. Однажды, потерпев очередную неудачу психолога и следователя в одном лице, она бросила:
– Поля, осторожней с градусами. Похоже, твой отец очень рано начавший и завязавший алкоголик. Он принципиально не спаивает молодежь. Такие принципы надо выстрадать. Но тебе от его подвигов не легче – наследственность есть наследственность.
– Поля, с градусами нужно осторожничать при любой наследственности, – сказал папа и ухмыльнулся.
Я его зауважала. Мама была абсолютно права насчет выстраданности принципов. Папа нес в одиночку какой-то груз. А ведь большинству людей требуются помощники или вообще носильщики. Словом, Измайлов для папы идеальный собутыльник.
Иногда на маму накатывает, и она упрекает:
– Готов терпеть рядом с дочерью любое старье.
– Это старье на полгода моложе меня. Да, готов, если она терпит, – демонстрирует миролюбие он.
– Не перекладывай ответственность на девочку! – бушует мама. – Попробуй еще хоть раз заявить, что Измайлов славный мужик.
– Попробую обязательно, но не сейчас…
Пока Всеволод почивал, я прибиралась внизу у Вика и вспоминала родительские перепалки. Чистюля Измайлов вполне справляется с домом без меня. Только мне не в тягость уборка и готовка. Особенно, когда я знаю, что не обязана убирать и готовить. И вдруг сквозь накинутый на реальность идиллический флер пробилось видение – мертвый парнишка на земле. Коричневая куртка распахнута, черная вязаная шапочка надвинута на глаза, щуплое тело, бледное лицо, заострившийся нос. Я испытала сочувствие к убиенному, но мимолетное и какое-то дежурное. Шкурный интерес был мощнее. «Мальчишка – слишком мелкая во всех отношениях сошка, – подумала я. – Преступление будут расследовать люди из райотдела, Измайлов о нем и не узнает. Ура, на его вопрос: „В какую историю ты на свою беду вляпалась без меня, детка“, можно будет ответить лишь долгим томным взглядом. И Вик впадет в сладкое заблуждение, будто под его праведным влиянием я превращаюсь в нормального человека, и меня уже не страшно оставлять без присмотра на целую неделю». В тот миг я почти гордилась собой: надо же, действительно, ничего сногсшибательного не наворотила. Так, получила легкий щелчок по самолюбию. Поделом мне и на пользу. Завтра вернется Вик, наговорит нежностей. Ощущение будет, словно снегом засыпало некрасивый осенний сор. Я посмотрела в окно. За ним было белым-бело. Казалось, снежные хлопья не падали вниз, но поднимались верх. Первые в нынешнем ноябре снежинки. И пусть я грешу сентиментальностью с мистическим уклоном. Но ведь совпало: мысленно упомянула снег, и он повалил. В таких случаях я считаю, что Бог дал занавес и отпустил душу на перекур до новых репетиций и спектаклей. Мои приключения с юношами закончились. Совсем. Я была свободна, по поводу чего глубоко вдохнула и громко исполнила романс «Утро туманное».
В шесть вечера, когда я повела Севу к бабушке с дедушкой, снега уже в помине не было. Мы шлепали по лужам, не заботясь о сапогах, и чувствовали себя безнаказанными нарушителями всех правил.
Мама приготовила отличное рагу с баклажанами. Мы ужинали, предавались семейному зубоскальству и серьезно обсуждали Севкины планы по переустройству мира. Например, дитятко мечтало отрезать головы участковым медсестре и педиатру и поменять их местами. Вскоре наше общество ребенку надоело. Он отправился ломать папин компьютер. Дед из вежливости высидел за столом минут пять и потащился за внуком. Вероятно, соучаствовать, потому что с недавних пор загорелся идеей сменить модель, но никак не находил повода. Мама вновь принялась восторгаться Севой:
– Дочка, каков вкус у мальчика. Он прирожденный скульптор. Его нервирует то, что у изящной врачихи грубая толстая морда, а у жирной медсестры прелестное личико. Ой, только не надо угрожающе морщить лоб, раньше на подтяжку записываться придется. С Севой я внешность окружающих не обсуждаю. Но ты-то в состоянии признать мою правоту. Кстати, привези сюда пару Севушкиных пластилиновых зайцев, я заставлю отца показать их профессионалу. Просил у него недавно спонсорской помощи некий ваятель.
– Просителю и нетронутый кусок пластилина из Севкиной коробки понравится. Мам, ты не боишься, что ребенок не прирожденный скульптор, а прирожденный садист? – попыталась уменьшить ее пыл я.
– Да что ты понимаешь в садистах! – высокомерно ответствовала мама. – И вообще, прекрати корчить из себя образец мудрости и добродетели, иначе заставлю вымыть посуду.
Угроза была нешуточной. Мама кормит и поит семью из китайского фарфора. Она наслаждается видом своих наследственных сервизов. Они, в самом деле, загадочно светлы, тонки, звонки. Но при соприкосновении составляющих друг с другом звон получается нежным и веселым. А при контакте с ложками и вилками – тревожным и печальным. Чаще всех мамин фарфор расстраивает порывистый папа.
– Вот почему на Востоке едят палочками и не связываются с супами, – испепеляет его взглядом хозяйка.
Мы умоляли ее предоставить нам посуду попроще – обычный фаянс, не жалующийся на едока, а подбадривающий его глуховатым стуком. Но мама не внемлет. Ее фарфору, видите ли, полезно исполнять свое предназначение, и мы обязаны бережно содействовать этому.
Совсем тяжко приходится тому, кто бывает вынужден сервизы мыть. Обычно мама нас к ним не подпускает. Но, случается, затемпературит или палец поранит. Тогда она кружит по кухне и трагическим шепотом заклинает:
– Осторожно, аккуратно, ласково… Дай, я сама… Нет, ты точно разобьешь блюдце… Все, соусник обречен…
И, главное, соусник, будто его позвали родным голосом, начинает выскальзывать из рук. Поэтому я не стала перечить обожающей своего шустрого внука бабушке и замечание о передающихся через поколение садистских наклонностях в нашей семейке оставила при себе.
Устроилась в кресле и позвонила Настасье. Надо было сообщить ей о завтрашнем возвращении Измайлова. Дело в том, что мы с Настей дружим с детского сада. И она привыкла звонить мне в любое время суток. Мой первый муж не претендовал на звание острослова, но чувством юмора обладал и был от природы смешлив. Настасья могла среди ночи сказать ему в трубку что-нибудь забавное, он хохотал секунд тридцать и сразу засыпал с улыбкой. Еще и называл Настасью лучшим средством от похмельных кошмаров. Полковник – господин более желчный. Нет, он не терзает меня требованиями призвать подругу к порядку или научить правилам хорошего тона. Даже не грозит посадить на пятнадцать суток за телефонное хулиганство. Вдвоем разбираются. И языкастая самолюбивая Настасья частенько попадает впросак, что выбивает ее из колеи. Поэтому я стараюсь предупреждать, когда она рискует нарваться на Вика. Настасья настраивается и пропускает меньше уколов. А то недавно вопила благим матом:
– Викник, позови Полю, она мне нужна.
– Мне тоже, – не уступил Вик. – А почему ты так орешь в пять часов утра, Настя?
– Потому что у меня эйфория, полковник. Эйфория!
– Скорую вызвать, доктор? Все-таки эйфория – это неоправданное реальной действительностью повышенно-радостное настроение, отмечающееся при прогрессивном параличе, атеросклерозе и травмах мозга.
Возникновению взаимной симпатии такие диалоги не способствуют. Настасья потом спрашивает, где и когда Измайлов нахватался не связанных с его профессиональной деятельностью сведений. Я честно отвечаю, что в молодости от корки до корки прочитал на спор «Словарь иностранных слов». Она не верит. У меня самой уже развился легкий комплекс неполноценности из-за феноменальной памяти Вика. Он до сих пор цитирует тот словарь к месту и почти дословно – я проверяла.
Кроме того, Настасья полагает, что мне необходим более богатый и молодой муж.
– Ты жила по-человечески, Поля. Ну, теряешь же навыки в шике с годами.
– Согласись хотя бы с тем, что Измайлов красив, – требую я.
– Ага, был двадцать лет назад, – ворчит Настя, но взгляд отводит. – Расколдуйся, Поля! У тебя склонность к авантюрам, как медицинский случай, ты вечно участвуешь в опасных происшествиях. Вспомни обычный поход в лес после восьмого класса. Семьдесят человек из параллели спокойно прошли по тропинке, после чего ты на ней же наступила на змею. Семь тысяч баб прошли мимо этого Измайлова, и только ты запала. Поля, он руководит убойным отделом, поэтому ты внушила себе, будто с ним интересно.
Я устала переубеждать Настасью и пустила все на самотек.
На сей раз подруга моя перенесла известие о завтрашнем прибытии полковника спокойно. Сказала:
– Черт с ним, имеет право. У меня полоса невезения, Поля. Год назад прооперировала больного. Мужественный парень, выкарабкался, хотя перитонит был еще тот. А вчера умер от саркомы. Молниеносное течение. Спрашивается, зачем мучился? У нас в мединституте профессор был. Утверждал, что, если вас свела в могилу не опухоль, значит, вы до нее просто не дожили. Попроситься на усовершенствование, на какой-нибудь цикл по онкологии? Вдруг я тогда чего-то не доглядела?
– Настасья, пощади, – взмолилась я. – Невмоготу обычному человеку разговаривать на такие темы. Как бы вы с Виком ни собачились, а ведь очень похожи.
– Оскорбляешь?
– Боже упаси. Но для вас обоих смерть – это такая обыденность.
– Для тебя жизнь – обыденность, это гораздо страшнее, – пригвоздила Настя.
Я хотела потребовать разъяснений, но вместо того вдруг спросила:
– Ку-ку, спасительница, ты, помнится, паспорт мальчика сердечника держала и листала. Зовут его Антоном? Или мне послышалось? Адрес, фамилию, отчество не запомнила?
– Не – а, растерялась она. – Антон, точно. Прописка московская точно. Остальное вылетело из башки за ненадобностью. А что случилось? Пропало золотишко? Так он же ни на минуту один не оставался.
– Ничего у меня не пропало. Сама не соображу, почему и зачем задала тебе этот вопрос.
– Может, очередную статью замыслила о проблемах юношества? – в голосе Настасьи мешались дружеская надежда и врачебная тревога.
– Клянусь, нет. Само собой вырвалось.
– Поля, добром прошу, пей валерьянку. Ты перестаешь себя контролировать. Твоя крыша не, как у всех, раз в полгода уезжает. Она у тебя постоянно блуждающая.
– Спасибо, пока, завтра созвонимся, – поспешно закруглилась я.
Потому что о моем здоровье Настасья распространяется часами. И все время норовит запугивать. После таких сеансов психотерапии мурашки по коже долго бегают. «Какая валерьянка, – строптиво подумала я, – работать пора. Настасьина правда – сработал журналистский инстинкт не терять чем-то удививших людей, пока они не перестанут удивлять».
Я перецеловала родных, вынесла напутствия и наставления каждого, включая Севку, и отправилась восвояси. Смутная догадка о том, что сегодня я в состоянии разродиться майонезным слоганом слегка будоражила. И то, верно, завтра явится Вик, не до легкомысленного сочинительства будет. А сроки поджимали. И деньги лишними не были. Не снимать же со счета самостоятельно определенное и назначенное бывшим мужем содержание. Его я трачу только на сына. Не из гордыни, а из справедливости. Если подсчитать уничтоженные мною нервные клетки этого нормального любящего мужчины, то я ему должна ежемесячно приплачивать в течение всей жизни. И у полковника жалование стрелять не в моих правилах, хотя он не жадный. В общем, обстоятельства велели трудиться, и филонить более возможности не было.
– Девушка, подскажите дорогу. Двор у вас вымерший, спросить не у кого…
У распахнутой задней дверцы потрепанной иномарки, из тех, которым гибэдэдэшники при острой нужде в деньгах предпочитают отечественное новье на колесах, стояла размалеванная девица в коротком лиловом плаще. И протягивала мне какую-то бумажку.
Двор действительно был пустоват, даже четвероногих друзей никто не выгуливал. В ноябрьскую слякоть люди предпочитали смотреть телевизоры, лишний раз, потрепав псов за загривки, дав им лакомство и виновато пробормотав: «Терпение, немного терпения». Я приблизилась, но заглянуть в записку не успела. Заплутавшая пассажирка неожиданно сиганула в сторону, а меня толчком сзади послали в салон. Причем, умелым толчком, одновременно пригибая голову. Мне повезло. Я ударилась подбородком о костлявое мужское колено в вонючих, давно, а, может, и никогда не стираных джинсах, громко клацнула челюстями, но зубы не сломала и язык не прикусила. Кто-то заломил мне руки за спину и торопливо связал тонким шнуром, едко впившимся в кожу. А затаившаяся в машине сволочь одновременно приодела меня по высшему разряду, напялив на спело загудевшую от вынужденного кульбита тыкву просторный непрозрачный целлофановый мешок. Потом меня приподняли в четыре руки и впечатали в сиденье. Я была готова к транспортировке на любое расстояние. У меня ломило поясницу, ныла подвернутая нога, саднили запястья и болели скулы. Приказ «не вздумать пикнуть» был излишним. Я, попросту говоря, вырубилась с перепугу.
Очнувшись, первым делом горько улыбнулась. Всего несколько дней назад я в компании возмущалась скудостью фантазии бандюганов и киношников. С пеной у рта вопрошала, куда подевались изощренные способы заманивания жертв в ловушки? Хоть криминальную хронику смотри, хоть фильмы, везде запихивают какого-нибудь бедолагу в машину. Проклятая моя склонность к словоблудию. Будто накаркала. Учил, вернее, поучал же Измайлов: «Детка, намерения большинства людей определяются вопросом «стоит ли», а действия – вопросом «сколько стоит». Как обычно попал в точку, стрелок. С преступниками ясно: надо схватить человека побыстрее, запугать посильнее и отвезти подальше. А создателям малобюджетных сериалов ни к чему тратиться на гонорары «приглашенной звезде», неторопливо играющей созревание в себе преступного замысла. Легче обойтись парой статистов в масках и «Жигуленком» собственного дедушки.
Самое паршивое, что со мной вот так вот обходились не первый раз, а, наверное, третий или четвертый. Но раньше я случайно ввязывалась в раскрытие убийств и, сама того не ведая, противостояла всякой мрази. Господи, да с собственного ведома разве решилась бы? А теперь с какой стати парюсь под грязным мешком? «Почему со мной подобное происходит? – рвала себе душу я. – Есть же счастливцы, которые теоретически знают, что, живя в „юдоли скорби“, должно испытывать боль, обиду, страх, недоумение, раскаяние и отчаяние. Но никогда не испытывали. Почему? Да потому что не шляются ночью по подворотням с незнакомцами. А те, кто шляется даже из лучших побуждений, неизбежно нарываются на неприятности. Ох, у меня в этом парнике скоро начнется мацерация кожи от пота и слез. Какое отношение к сегодняшнему катанию может иметь моя вчерашняя глупость? Что у меня за манера жучить себя, когда и так плохо? Никакого отношения. Нонсенс. Ошибочка рьяных слуг: не ту особу доставят хозяину и получат втык. Интересно, кого хотели похитить в родительском дворе»? Слегка приободренная перспективами обидчиков, я хрипло к ним обратилась:
– Эй, деятели! Скоро вас с прискорбием известят, что вы умыкнули случайную прохожую. Отпустите, пока не поздно, не позорьтесь.
Молчание. Только пакет шуршит на башке, когда я верчу ею. Мне померещилось, будто в машине никого, кроме меня, нет. И эта консервная банка несется сама по себе. Я вздрогнула и вежливо попросила:
– Ребята, не расщедритесь на чуточку «Момента»? Никогда клея не нюхала. Полагаю, если пакет напялен, самое время попробовать.
– Я тебе сейчас из баллончика прысну, трепушка, – глухо сказал мужчина справа.
Так, это тот, который связывал. Тот, который упаковывал голову, посапывал слева и в переговоры не вступал. Зато он потуже затянул мешок на моей шее. Насколько мне было хорошо до этого, я оценила через пару минут. «Трепушка»… Смешное слово, звучит скорее снисходительно, чем угрожающе. Мне вспомнился Пончик. Его неумолчный брех в потемках. Казалось бы, слышишь лай явно крупной матерой дворняги, так не подавай голос, она и не догадается о твоем существовании. Нет, тявкает, накликает на себя беду. «Ты не умнее собаки, Полина, – вынуждена была признать я. – Бредовая же идея – пытаться договориться с мучителями, еще и смешить их. Гораздо достойнее было бы безмолвствовать. Но опять не получилось. Доходит, доходит, да все никак до тебя не дойдет, что чужие слова для людей – пустой звук». Я запоздало пришипилась и стала изгонять из черепушки мысли, пока не осталась одна: «Надо изгонять из черепушки мысли».
Минут через тридцать машина остановилась. Вместо того, чтобы снять пакет, они еще туже его завязали. Теперь и предыдущее состояние показалось мне райским. О своей коже я давно перестала беспокоиться. Потому что не дышать мне стало легче, чем дышать. Я ощущала, как набрякали веки и припухали щеки.


