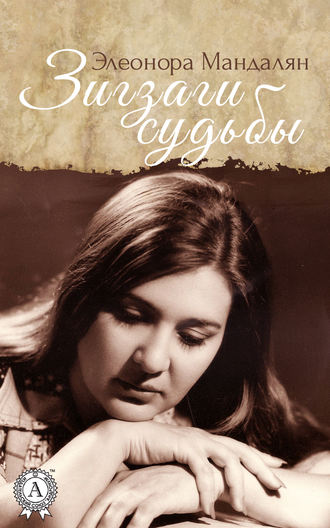
Элеонора Мандалян
Зигзаги Судьбы
7. Мамина вторая любовь

Кирилл Калайда (мамин второй муж)
В 1950-м в нашу жизнь вошел замечательный человек – Кирилл Николаевич Калайда (1917 г.р.), мамина вторая и самая большая любовь. Ему было 33 года, маме –35, а мне – 10–11. Профессиональный художник и архитектор, он занимался художественным оформлением Москвы, ее ключевых объектов, и праздников. Его имя мало кому из москвичей было известно, но с плодами его творческих трудов сталкивались на каждом шагу абсолютно все.
Его отец, судя по фамилии, был украинцем. Кирилл Николаевич никогда о нем не говорил, а мы не спрашивали. А вот с матерью, Маргаритой Артемьевной, несколько раз пересекались. Красивая, суперинтеллигентная женщина, черноокая, чернобровая брюнетка с благородной проседью на висках. Этакая восточная княгиня. Армянка по крови, но коренная москвичка. Сын унаследовал не только ее глаза, но и породу. (Впрочем, о породе отца, как я уже сказала, судить не могу.) Она была пианисткой и, в свое время, выступала в концертах вместе с Рахманиновым. Моя мама виделась с ней только в экстренных случаях, поскольку отношения их теплотой не отличались.
Дело в том, что мама была третьей гражданской, как теперь говорят, женой Кирилла Николаевича. Предыдущие две тоже имели своих детей, что его матери явно не нравилось. У нее с сыном была хорошая квартира на Бауманской, но она, естественно, не пускала в нее очередную жену «с довеском», и он уходил жить к своей избраннице.
В плане жилплощади вариант моей мамы, наверняка, оказался самым для него тяжелым. Как мы жили в Москве, я уже описывала – мама, бабушка, я и собака в 14 кв метрах малогабаритной коммунальной квартиры. Кирилл Николаевич спал с мамой на стареньком диване. На ночь бабушка отгораживала их моими ширмами с аистами. Это я сейчас понимаю, что за личная жизнь у них была, когда в затылок сопели старуха и довольно взрослая уже девица-подросток (и еще хорошо, если сопели). Так он, будучи первым лицом по художественному оформлению столицы Советского Союза, прожил с нами десять лет.
У нас по-прежнему собирались гости. Но теперь это были в основном друзья Кирилла Николаевича. Зимой они с мамой ходили на лыжах. Иногда брали с собой и меня. Летом выходные проводили с нами на даче, а в будние оставались в Москве. Мама к тому времени устроилась, не без помощи К.Н., художником-декоратором в универмаге. В летний отпуск они уезжали вдвоем на море.
За все время нашего совместного проживания с Кириллом Николаевичем я не помню случая, чтобы в семье вспыхнул скандал или кем-то было высказано недовольство. Шутки, улыбки, взаимное уважение и безграничная симпатия с нашей стороны по отношению к нему. Да иначе и быть не могло.
Рафинированный интеллигент, неприхотливый, покладистый в быту, тонкий острослов, он был душой и украшением любой компании, с каждым находил общий язык, никогда ни в чем себя не выпячивая, и в то же время неизменно становясь центром внимания и притяжения. Он умел быть одинаково своим человеком и на самом высоком уровне, и с бабушками-сороками, коротающими свой век на лавочке. Он мог, шутки ради, подойти к пацаненку, уплетающему бутерброд, и с подкупающей естественностью попросить: «Ма-аленький, дай колбаски!»
В его обществе окружающие не замечали уже никого, ловя каждое его слово, буквально глядя ему в рот. Друзья и сослуживцы его обожали. А мою маму я никогда прежде не видела такой счастливой. Он был ее кумиром… Да и моим тоже. Будучи с детства строптивой и своенравной, не признающей ничьих авторитетов, его я обожала. Я верила каждому его слову, зная наперед, что если он подсказал, посоветовал что-либо, значит, так оно и должно быть. И никак иначе. Нет, он не стал мне ни отчимом, ни тем более отцом, хотя бы в силу своей занятости. Скорее – гуру, уважение и доверие к которому сродни поклонению. Это был особый, Богом отмеченный человек.
До сих пор помню скороговорки, которым он меня учил для четкости дикции. Не откажу себе в удовольствии упомянуть хотя бы одну (на вариации «м», «н» и «л»):
На мели мы лениво налима ловили.
Для меня вы ловили линя.
О любви не меня ли вы, Мила, молили?
В туманы лимана манили меня.
Или хохмы, типа этой: «Вот било смиху як батко помер. Батко был великий, а хроб зарубили малэньки. Его туды пхают, а он нэ лизя. Маткэ плаче, а мы смеимся.»
Я знала от мамы, что ее избранник – прекрасный художник и архитектор. Его изысканные эскизы я могла разглядывать часами. Знала, что он – эрудит. (Он наизусть мог цитировать едва ли не все произведения Ильфа и Петрова, а мама, развлечения ради, иногда устраивала ему веселый экзамен – открывала произвольно энциклопедию, читала заголовки, и он безошибочно на все развернуто отвечал.)

В саду на даче
Но не знала, что этот тонкий, одухотворенный человек с аристократическими манерами и мальчишескими выходками, пропитанными свойственным только ему шармом, молча страдавший язвой желудка (бабушка готовила ему диетические блюда), прошел всю войну, побывав в ее горячих точках, не раз и не два заглянув в глаза Смерти, имел награды (орден Красной Звезды и орден Отечественной войны). По крайней мере, я не слышала, чтобы дома он заговорил о войне и о своей причастности к ней.
В 1941-м Калайда был зачислен слушателем в ВоенноИнженерную Академию имени Куйбышева, после чего получил направление в Карелию, и в чине капитана стал командиром отдельной саперной роты штаба фронта на Масельском направлении. А когда Южную Карелию отстояли, их подразделение было переброшено в Заполярье, в район Кандалакши (на юго-западе Мурманской области России), где он командовал отдельной маскировочной ротой инженерных войск.
После демобилизации Кирилл Николаевич целиком посвятил себя однажды избранной специальности. Его первой самостоятельной работой стала архитектурная реконструкция и художественное оформление Елисеевского магазина. Ему принадлежит авторство в оформлении витрин и интерьеров таких торговых гигантов столицы, как «Детский мир» и ГУМ, а после того как, в 1949-м было принято решение открыть в Москве рестораны и магазины национальных республик – ресторанов «Арарат» и «Узбекистан», магазинов «Киргизстан» и «Казахстан»…
Как Кирилл Николаевич работал над оформлением витрин и интерьеров «Детского мира» я хорошо помню. Стол, диван, мой сундук – все было завалено эскизами. А потом мы с мамой несколько раз ездили на Дзержинку смотреть, как мысль, запечатленная на бумаге, воплощается в жизнь. Витрины были огромные и выглядели очень эффектно.
В 1957 году в Москве… не проходил, нет – разразился, как майский гром после долгой суровой зимы, первый в СССР Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Ах, какой это был незабываемый праздник! Москва ликовала, все ее жители были на улицах, площадях, в парках. Никто не мог усидеть дома. Люди, десятилетиями варившиеся в собственном соку, увидели вдруг в своей привычной среде молодежь из 130 стран мира, приветливую, коммуникабельную, жизнерадостную.
Их возили по Москве в обыкновенных открытых грузовиках, раскрашенных в цвета лепестков фестивального цветка. Задумка получилась гениальная, обеспечившая контакт и единение гостей с москвичами, обступавшими колонну грузовиков такой тесной стеной, что те едва могли двигаться. Улыбки, рукопожатия, танцы и песни, попытки объясниться без знания языка собеседника – все было переполнено эмоциями с обеих сторон. Вся Москва всколыхнулась в те дни в едином порыве безудержного веселья.
Ближе всего к моему дому (всего три тролейбусных остановки) был Парк Культуры и Отдыха им. Горького, и мы с друзьями спешили туда, чтобы влиться в этот многоцветный интернациональный апофеоз. Запомнились чешские шпигачки и пепси-кола, впервые нами отведанные, как «заморский деликатес». И молодые улыбчивые иностранцы, пожимавшие нам руки, одаривающие нас значками, адресами, открытками. Эти реликвии мы долго потом бережно хранили. А еще запомнился чернокожий африканец, протянувший мне руку для рукопожатия. Я впервые видела живого негра. Он был весь, как эбонитовая скульптура. Но меня повергла в шок бледно-фиолетовая ладонь этого иссиня черного человека и я, к моему стыду, не смогла заставить себя пожать ему руку.
К этому восхитительному празднику правительство Москвы готовилось два года, на всех уровнях. Работал в стрессовом режиме и Кирилл Николаевич. Миссия у него была самая ответственная – оформить стадион «Лужники» для четырехчасового открытия фестиваля…

– Давай, милый, давай!
В том же 1957 году К. Калайда стал заместителем начальника Управления городского оформления и рекламы Мосгорисполкома (сокращенно Мосгороформле-ние), а потом и начальником, то есть главным художником Москвы, на протяжении тридцати последующих лет определявшим лицо столицы Советского Союза. А если учесть, что все прочие города стремились брать пример с Москвы, то и всей страны. Он отвечал за художественно-рекламное оформление ключевых объектов и районов столицы, включавшее праздники, выставки и прочие торжественные мероприятия.
В 1958 году в Брюсселе открылась первая после войны Всемирная выставка, проходившая под девизом «Человек и прогресс». За архитектуру и оформление советского павильона отвечал Калайда, находившийся в Брюсселе с начала его строительства. Павильон СССР, построенный из стекла и алюминия, был признан лучшим из лучших. Специальное жюри, оценивающее уровень оформительского искусства, присудило ему Гран-При.
В ноябре 2006 года, когда Кирилл Николаевич уже давно пребывал на пенсии в возрасте почти 90 лет, корреспонденты московской муниципальной газеты «Мещанская слобода» побывали у него дома, после чего в газете появилась статья под броским заголовком: «Художник всея Руси». В ней был отражен весь трудовой и творческий путь пройденный этим незаурядным человеком, с акцентом на 1950-1980-е годы, когда от К.Н.Калайды зависел облик всей Москвы.
В 1967 году, отмечалось в «Мещанской слободе», для координации рекламной деятельности бесчисленных Министерств и ведомств, определения «идейно-художественного направления» рекламы в стране и экономической эффективности рекламных мероприятий, был учрежден Межведомственный совет по рекламе при Минторге СССР. «Калайда возглавил одну из пяти секций совета – секцию эстетики. Его заместителями стали главный художник Всесоюзной Торговой Палаты Р.Р. Кликс и главный архитектор Гипроторга Минторга СССР О.А. Великорецкий. Таким образом, через систему Минторга деятельность Кирилла Николаевича распространялась на весь Союз… Под его началом трудилось почти три тысячи человек – декораторов, монтажников, живописцев, и семь предприятий, которые осуществляли праздничное оформление города по его эскизам, включая Красную площадь.»
И еще одна выдержка из статьи «Художник всея Руси»: «С именем этого человека связана целая эпоха в художественном оформлении города. В течение 30 лет он был, по сути, главным художником города. На протяжении этого времени, вплоть до 1988 г. Кирилл Николаевич был бессменным председателем художественного совета «Мосгороформления». Через его руки проходили все эскизы, все проектные разработки Управления, будь то рисунки гигантских агитационных панно или установок, эскизы рядовых витрин или центральных универмагов, этикетки к бутылке фруктового сока или фирменных бланков магазина – все, вплоть до декорирования праздничных колонн демонстрантов в красные дни календаря. Без его замечаний и одобрения не проходил ни один проект.»
К летней Олимпиаде 1980 года по его эскизам обрели праздничный облик центральные площади, подъезды к столице и весь маршрут, по которому в Москву должен был прибыть олимпийский огонь.
Многие годы Калайда был председателем партийной организации Московского Союза Художников. В 1976 году ему было присвоено звание заслуженного художника Российской Федерации. В 1988 году он вышел на пенсию в возрасте 70 с лишним лет, но продолжал работать преподавателем в Архитектурном институте. «Так заканчивались три последних десятилетия в жизни советской Москвы, вкус и цвет которых во многом определял Кирилл Николаевич Калайда», писали о нем.
По воле прихотливой судьбы, но не по моей вине, я потеряла связь с человеком, почти 10 лет заменявшим мне отца. В 1958 году я вышла замуж и уехала из Москвы, а вскоре после этого мама и Кирилл Николаевич расстались. Он ушел к четвертой жене, тоже, кстати сказать, с ребенком, и на том наши контакты навсегда оборвались. Мама тяжело переживала этот разрыв, долго не могла придти в себя.
8. Еще одна сказка детства – Архангельское
И снова возвращаюсь в свое детство.
В далеких 50-х лето было для меня чем-то особенным. Собственно, ясно чем – отсутствием тесных московских рамок, кирпично-бетонной ограниченности отведенного для жизни пространства. Им на смену приходило раздолье, бескрайность неба и полей, ветерок, запутавшийся в листве, многоцветье влажных трав, соловьиные трели, говорливость лесного ручья, теплые, заросшие тиной озера с бесплатными лягушачьими концертами на закате.
«Прелести» пионерского лагеря
Поначалу меня попробовали отправлять в пионерский лагерь. В принципе, там было интересно, хоть и по-школьному все слишком организовано. Вставать по горну, строиться на линейку по горну, по горну же на обед. Для каждого мероприятия – своя мелодия, под которую дети придумали куплеты. Утром это звучало так: «Вставай, вставай, дружок! С постели на горшок. Вставай, вставай, парточки надевай.» А приглашение к трапезе так: «Бери ложку, бери хлеб, и садися за обед.»
Кормили так себе. Достаточно упомянуть многократно переваренные на завтрак яйца с резиновым, сизо-зеленым желтком. Но были сборы у вечернего костра и походы «по горам, по долам». В баню нас водили раз в неделю всем отрядом – мальчиков отдельно, девочек отдельно. И все бы ничего. Но в лагере все мы заражались вшами. А это «удовольствие» то еще! Мама и бабушка два-три раза за смену приезжали меня навещать. Мы уходили в лес, стелили на траву одеяло, и бабушка по несколько часов подряд вытаскивала у меня личинки вшей, перебирая каждый волосок. А волосы-то длинные, ниже пояса и довольно густые.
Когда возвращалась домой, бабушка мазала мне голову керосином и заматывала ее на несколько часов полотенцем. Благодаря ей мне удалось от этой напасти избавиться, сохранив волосы. Но снова отправлять меня в лагерь больше не рискнули. С тех пор каждое лето, три месяца в году мы снимали дачу – сначала в Звенигороде. Именно там я научилась плавать в Москве-реке – на первых порах по-собачьи. Мама была моей основной подружкой, ежедневно ходила со мной на песчаный пляж. Она больше загорала, а я весь день плескалась в воде.
А потом мы открыли для себя Архангельское, и все остальное подмосковье перестало для нас существовать. Теперь мы проводили лето только здесь, в Воронках или Михалково – одной из двух деревушек, в которых когда-то жили крепостные Голицыных и Юсуповых. Михалково стояла совсем на отшибе. Всего 35 домов посреди полного безлюдья. Перед ней пшеничное поле с васильками и маками, за ней лягушачье болотце, а все остальное пространство – лес, лес, лес.

Дрессирую соседскую козу
В деревне Михалково…
Как-то, собирая цветы в поле, я увидела ворону, почти вороненка, с переломанной лапой. Животных я всегда любила, любых, поэтому раненую птицу в беде не оставила, принесла домой. Ходить на одной лапе она не могла, и тогда я положила ее в корзинку и отправилась, бог знает куда, на поиски ветеринара, пройдя с десяток километров пешком. Было мне в ту пору лет двенадцать. До ветеринара я все же добралась. Он осмотрел перебитую лапку птицы, усмехнулся и говорит: «Ворон обычно отстреливают, как вредителей, а ты, глупая девочка, притащила ее на лечение.» Чуть не плача, я стала умолять его помочь пострадавшей. Пожилой седовласый деденька в халате надо мной сжалился и, поворчав, положил сломанную лапку в лубок.
Ворона поправлялась на редкость быстро. Я назвала ее Кларой и держала на веревочке, в углу веранды. Вскоре она стала совсем ручной, отзывалась на свое имя. А когда мы садились есть, она бегала вокруг стола и громко каркала, требуя подачки. Частенько залезала в миску к Домби. Пес у нас был послушный и мой запрет не обижать лесную гостью соблюдал. Поскольку девчонкой я была ужасной воображалой, любила повыпендриваться, то начала кататься на велосипеде по деревне вместе с Кларой. Она восседала очень гордо, крепко вцепившись лапами в руль. Свободный конец веревки был у меня в руке.
Но однажды ворона сложила все пальцы в щепотку и веревка соскользнула с ее лапы. Взмахнув у моего носа крыльями, она вспорхнула и исчезла из вида. Как потерянная, я бродила по деревне и звала, звала ее. И вдруг услышала откуда-то с вышины, в ветвях, знакомое «Кар-р-р!» А в следующий момент – хлопанье крыльев, и моя Клара с разгону плюхнулась мне прямо на грудь. Моему восторгу не было границ. Ворона ко мне вернулась! По доброй воле! Про веревку мы больше не вспоминали. Она стала полноправным членом нашей семьи. И на велосипеде каталась со мной уже без привязи.
Но бедная Клара переоценила свои возможности и доброту нашего пса. Домби, вне сомнения, ревновал меня к Кларе. К тому же, хоть он и был псом покладистым, но до тех пор, пока дело не касалось сахарной косточки, которую он мог часами самозабвенно грызть. А я, натаскивая его на то, чтобы он охранял мой велосипед, пока я собираю цветы, обучение начинала с кости: со зловещим видом тянула к ней руку и нехорошим голосом приговаривала: «Отдай…Отдай…». Домби грозно морщил нос, рычал, потом бросался на кость и начинал ее остервенело грызть.
Так вот Клара, не зная всего этого, так и норовила у Домбика чего-нибудь стибрить. То, что она хозяйничала в его миске, он еще кое-как терпел. Но когда она беспардонно уселась на кость, которую он грыз, и попыталась вместе с ним ее поклевать, пес такой наглости не выдержал и цапнул ее за горло… Могилка бедной Клары осталась в Михалкове, под осиной.

В Михалкове
И еще один эпизод, связанный с этой деревушкой. Так сложилось, что до моего переезда в Америку, ну в очень зрелом возрасте, у меня был только один случай, когда я посадила дерево. Да и не дерево даже, а ветку вербы, которая так долго стояла у меня на окне в банке с водой, что пустила корни. Согласовав место с хозяйкой дачи, я пристроила вербу у нее на участке. И естественно забыла об этом. Много-много лет спустя, когда мне уже было 35, я внезапно очень серьезно заболела. Мне никто не мог помочь и, как это бывает в таких случаях, я обращалась к разным экстрасенсам, приезжая ради этого в Москву. Т. к. Архангельское навечно осталось самым любимым моим местом, мы туда всякий раз с мужем наведывались. В основном теперь уже – в открывшийся посреди леса ресторан «Архангельское» (или в «Русскую избу» – дальше по шоссе, в Ильинском). А один раз добрались и до Михалково.
Нашли мою старую хозяйку, разговорились. Пришлось напоминать, кто я. И тут она мне сообщает:
– А ты помнишь, как посадила прутик у меня в саду? Он вырос в красивое пышное дерево, всем на загляденье.
– Правда! – обрадовалась я. – Где оно? Покажите!
Хозяка помрачнела:
– В него ударила молния, обуглила и переломила ствол пополам.
– Когда это случилось? – осторожно спросила я.
– В прошлом году. В начале лета.
Она назвала время, когда я так неожиданно заболела. Мне стало не по себе. Неужели здесь могла быть какая-то связь? Знакомая экстрасенс, которой я об этом рассказала, ответила однозначно. На дереве, которое сажает человек, объясняла она, навсегда остается его аура, и между ними сохраняется невидимая связь.
– Не переживай, – сказала мне тогда хозяйка, – посмотри, твое дерево не умерло. На оставшейся части ствола появились первые зеленые побеги…
И в Воронках
В Михалкове мы снимали дачу года два, а потом переметнулись в Воронки. Воронки поцивильнее и к Архангельскому ближе. Домов там уже с две сотни, свой сельсовет и небольшой продуктовый магазинчик. Вообще же все продукты мама привозила с собой из Москвы. А я встречала ее с велосипедом на Ильинском шоссе, на автобусной остановке, что у самого входа в музей-усадьбу. Сумки вешала на руль, маму сажала впереди себя на раму, и через 10 минут мы дома.

Я и мама в Воронках
Разделенные дорогой на две части, Воронки стоят на возвышении. Точнее – перед полуоврагом-полуущельем, заполненным водой. Слева от дороги пруд мелкий, заросший тиной, а справа – вполне пригодный для купания. Позади деревни – поле. А за полем лес. Лес и впереди, по ту сторону пруда, до самой Усадьбы «Архангельское», известный, как ландшафтная Воронковская роща. Но там правительственные дачи (еще их называли, косыгинскими или маршальскими) – сразу две, по обе стороны дороги.
Надо сказать, что в Архангельском и в примыкающем к нему Ильинском таких дач девять штук. Одна из них принадлежала Алексею Косыгину, другие – Маршалам победы Леониду Говорову, Ивану Коневу, Кириллу Мерецкову и кому-то еще. Огромные, отгороженные глухим забором участки леса с просторной усадьбой и подсобными помещениями внутри, снаружи они выглядели необитаемыми.
Ну а у нас, в Воронках, условия были поскромнее – две комнатки и терраска, кабинка с дыркой в полу во дворе, вода в колодце или в овраге, из родника. Спускаешься, бывало, с ведерком к ручью, а там лось с ветвистыми плюшевыми рогами стоит, тоже на водопой пришел, и ни чуточки тебя не боится, даже отойти в сторону не спешит. Красота природы, нас окружавшей, все компенсировала.
Весной сады благоухали сиренью, от которой легко и радостно кружилась голова. В начале лета я лазала на дурманящую ароматом черемуху и варварски ломала на букет ее хрупкие, отягощенные цветением ветки. За черемухой шли ландыши и ночные фиалки – скромные белые волшебницы, живущие в глубинах леса. По нежности, красоте и аромату, от которого можно сойти с ума, с ландышем не сравнится ни один цветок.
Поход с лукошками за грибами дарил свои эмоции. Радостно было наткнуться на многочисленное семейство опят, облепивших старый пень, углядеть сопливеньких крепышей-маслят с кокетливо налипшими на шляпки листочками. Веселые, разноцветные сыроежки будто сами просились в лукошко. Подосиновики с тяжелой, темнокрасной шляпой на высокой ножке – субъектики посолиднее и встречаются в лесу не часто. Особая статья – белые грибы, буровики. Стоит такой, весь из себя, где-нибудь под елкой. Шоколадная шляпка, как с картинки. Ножка беленькая, толстенькая, ребристая. А пошаришь вокруг, под палыми еловыми иголками, и, если натолкнешься на его деток, еще не успевших вылезти на поверхность, считай, что поход за грибами удался на славу. На обед бабушка нажарит на керогазе их огромную сковороду – с луком, картошкой и укропом. А из белых грибов еще и суп сварит. Или замаринует их.
В мареве позднего лета на прогреваемом солнцем пригорке я собирала в кружку землянику под дружный хор мух и кузнечиков, в компании с вьющейся столбиком мошкарой. А когда, скажем, готовилась к экзаменам в институт, уединялась вместе с Домби на буйно цветущем ромашковом лугу позади дома. Стелила плед под сенью березы, и никто, кроме комаров, мне не докучал. Разве что привязанная к колышку хозяйская коза, снабжавшая нас парным молоком.
Все лето я бродила с этюдником по лесам, полям и ручьям, рисуя акварелью пейзажи. Купалась в любую погоду, даже в грозу и ливень, в пруду, гоняла на велосипеде по лесным тропам и проезжим дорогам, играла в волейбол и пинг-понг. Вечером дачники и местные устраивали на утоптанной площадке перед Сельсоветом танцы под Луной или посиделки с играми, типа «фантика», «ручейка», «испорченного телефона»… и первые несмелые переглядки с каким-нибудь мальчиком.
Этим мальчиком был для меня Сережа Голобородько, «абориген». На редкость чистый и порядочный парень. Он жил вдвоем с матерью и, заменяя отсутствие отца, все умел делать по дому и по хозяйству сам. Сережа был явно ко мне неравнодушен, но за несколько лет нашей дружбы так ни разу и не сказал мне об этом. Чтобы быть поближе ко мне, он тоже купил себе этюдник и краски и начал рисовать. Это его увлечение в конце концов окончилось тем, что он стал профессиональным художником.
Зимой я иногда приезжала в Воронки покататься на лыжах, и местные ребята учили меня съезжать с горки. Вообще все они хорошо относились к дачникам, никого не обижали, не задевали, а если надо, то и защищали, как своих. Правда, однажды это вылилось в трагедию.
Среди воронковских мальчишек сформировалась небольшая группа местной шпаны, задиристой, агрессивной. Мы, дачники, с ней естественно не общались, а они нас не трогали, но заставляли держать ухо востро. Как-то раз ко мне приехал из Москвы один знакомый парнишка, с которым мы вместе посещали изо-студию. Он не был моим поклонником. Просто приехал к знакомой девочке на этюды, потому что я много рассказывала во время занятий о красотах Архангельского.
Закрепив на берегу воронковского пруда свои мольберты с этюдниками, мы увлеченно занялись рисованием. И тут на пригорке появились те самые парни. Понаблюдав за нами, их главарь подозвал к себе моего товарища (к своему стыду я даже не помню его имени), отвел в сторону… Я услышала крики. Бросилась к ним и остолбенела, увидев, что лицо моего гостя заливает кровь.
Мальчишки тут же разбежались. Я притащила пострадавшего домой, бабушка обработала ему рваную рану на голове, забинтовала, и мы с мамой повезли его в Москву, в больницу, где бедняге наложили несколько швов… А потом, когда мы уже все вернулись в Москву, к нам вдруг пришла мать этого мальчика и гневно сказала:
– Мне очень хотелось увидеть девочку, из-за которой моему сыну проломили голову.
Я не знала, куда себя деть от стыда.
То был первый и последний, и совсем нетипичный случай агрессии местных за все годы, что мы снимали там дачу.







