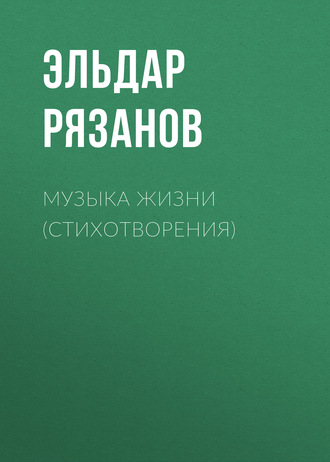
Эльдар Рязанов
Музыка жизни (стихотворения)
Бессонница
Слышно – шебуршат под полом мыши,
сквозь окно сочится лунный свет.
Плюхнулся на землю с елки снег,
от мороза дом кряхтит и дышит.
Скоро рассветет, а сна все нет.
Извертелся за ночь на подушке,
простыни в жгуты перекрутил,
а потом постель перестелил
и лежал недвижный и послушный,
огорчаясь ссорами светил.
Всё не спал и видел хаотичный
о себе самом престранный фильм:
я герой в нем, но герой в кавычках.
Нету сил послать к чертям привычки,
взять и отмочить нежданный финт.
Вот летаю с кем-то до рассвета…
Вижу, что безделье мне к лицу…
Вот целую руку подлецу…
Скачет фильм по рваному сюжету.
Жаль, что к несчастливому концу…
Проскрипела за окном береза,
на полу сместился синий блик.
В пустоте безмолвен горький крик
и шумят задушенные слезы…
Это, видно, сон меня настиг.
1985
Музыка жизни
Что жизнь? Музыкальная пьеса:
соната ли, фуга иль месса,
сюита, ноктюрн или скерцо…
Там ритмы диктуются сердцем.
Пиликает, тренькает, шпарит,
бренчит иль бывает в ударе,
играется без остановки.
Меняются лишь оркестровки…
Ребячии годы прелестны,
хрустальны, как отзвук челесты.
Потом мы становимся старше,
ведут нас военные марши,
пьяняще стучат барабаны,
зовущие в странные страны.
Но вот увенчали нас лавры —
грохочут тарелки, литавры,
а как зажигательны скрипки
от нежной зазывной улыбки.
Кончается общее «тутти»,
не будьте столь строги, не будьте:
мелодию – дивное диво
дудим мы порою фальшиво.
Проносится музыка скоро
под взмахи судьбы – дирижера…
Слабеют со временем уши,
напевы доносятся глуше,
оркестры играют все тише…
Жаль, реквием я не услы…
Ленивое
Я более всего
бездельничать мечтаю,
не делать ничего,
заботы отторгая.
Я лодырь и лентяй,
ужасный лежебока.
Хоть краном поднимай,
пусть подождет работа.
Проснуться поутру,
валяться всласть, зевая.
О, как мне по нутру,
признаюсь, жизнь такая.
Бессмысленно глазеть,
на потолок уставясь!
Лень – сладкая болезнь,
что вызывает зависть.
Трудиться не люблю.
Работать не желаю.
Подобно королю,
знать ничего не знаю.
Что ж делать, я – таков!
Да только, между прочим,
работа дураков,
к несчастью, любит очень.
Она со всех сторон
все время в наступленье.
А я немедля в сон,
я весь – сопротивленье.
Безделье – моя цель.
Я в койке, как в окопе.
Но где-то через щель
пролезли эти строки…
1985 год
Старичок-бодрячок
полон оптимизма,
энергичен, как волчок,
бегает по жизни.
Он кривой, как сморчок,
глух и шепелявит.
Старичок-бодрячок
все кричит о славе.
Старичок-паучок —
у него команда…
Попадись на крючок —
станешь есть баланду.
Он упрям, как бычок,
сильно напирает;
старичок-бодрячок
ордена хватает.
Заиграл вдруг смычок
маршик похоронный.
Старичок наш – молчок,
сник, неугомонный.
Нет теперь дурачка,
он на катафалке.
Старичка-бодрячка
как-то даже жалко.
* * *
Жизнь скоро кончится… Меня не станет…
И я в природе вечной растворюсь.
Пока живут в тебе печаль и память,
я снова пред тобою появлюсь.
Воскресну для тебя, и не однажды:
водою, утоляющею жажду,
прохладным ветром в невозможный зной,
огнем камина ледяной зимой.
Возникну пред тобой неоднократно, —
закатным, легким, гаснущим лучом
иль стаей туч, бегущих в беспорядке,
лесным ручьем, журчащим ни о чем.
Поклонится с намеком и приветом
кровавая рябиновая гроздь,
луна с тобою поиграет светом
иль простучит по кровле теплый дождь.
Ночами бесконечными напомнит
листва, что смотрит в окна наших комнат…
Повалит наш любимый крупный снег —
ты мимолетно вспомнишь обо мне.
Потом я стану появляться реже,
скромнее надо быть, коль стал ничем.
Но вдруг любовь перед тобой забрезжит…
И тут уж я исчезну насовсем.
* * *
Хочется легкого, светлого, нежного,
раннего, хрупкого и пустопорожнего,
и безрассудного, и безмятежного,
напрочь забытого и невозможного.
Хочется рухнуть в траву непомятую,
в небо уставить глаза завидущие
и окунуться в цветочные запахи,
и без конца обожать все живущее.
Хочется видеть изгиб и течение
синей реки средь курчавых кустарников,
впитывать кожею солнца свечение,
в воду, как в детстве, сигать без купальников.
Хочется милой наивной мелодии,
воздух глотать, словно ягоды спелые,
чтоб сумасбродно душа колобродила
и чтобы сердце неслось, ошалелое.
Хочется встретиться с тем, что утрачено,
хоть на мгновенье упасть в это дальнее…
Только за все, что промчалось, заплачено,
и остается расплата прощальная.
Зима
Город маревом окутан,
весь обвязан и опутан
проводами белыми.
Стужа забирает круто —
все заиндевелое.
На заснеженной коряге,
словно кляксы на бумаге,
коченеют вороны
и зрачки сквозь призмы влаги
крутят во все стороны.
Не пробиться сквозь туманы,
воздух плотный, оловянный,
атмосфера твердая.
Холодрыга окаянный
обжигает морды.
Мир – огромная могила.
Все погибло, все застыло.
Тишь! Ледовая беда!
Кажется, что эта сила
не оттает никогда.
Тело до костей промерзло,
больше не согреется.
Черное воронье кодло
тоже не надеется.
* * *
Ветер закружился над деревней,
хищный ветер из холодной мглы…
Завздыхали бедные деревья,
закачались голые стволы.
Сокрушенно наклонялись елки —
шум верхушек, шелест, шорох, стон…
Словно где-то ехал поезд долгий
под какой-то затяжной уклон.
Слезы с веток сыпались на крышу,
сучья глухо падали в траву.
Этот безутешный шепот слышу,
с чувством сострадания живу.
12 апреля 1986
Боткинская осень

Впервые
Все поплыло перед глазами,
и закружился потолок.
За стенку я держусь руками,
пол ускользает из-под ног.
И вот я болен. Я – в кровати…
Беспомощность не по нутру.
Стараюсь в ночь не засыпать я,
боюсь, что не проснусь к утру.
* * *
Как будто вытекла вся кровь,
глаз не открыть, набрякли веки.
Но звать не надо докторов —
усталость это в человеке.
А за окном трухлявый дождь.
И пугало на огороде
разводит руки… Не поймешь,
во мне так худо иль в природе.
Тоскуют на ветвях навзрыд
грачами брошенные гнезда.
Но слышен в небе птичий крик:
вернемся рано или поздно!
Хочу тоску преодолеть.
Надеюсь, что преодолею.
А ну-ка, смерть! Не сметь! Не сметь!
Не сметь садиться мне на шею!
Сентябрь 1986
Больница
И я, бывало, приезжал с визитом
в обитель скорби, боли и беды
и привозил обильные корзины
цветов и книжек, фруктов и еды.
Как будто мне хотелось откупиться
за то, что я и крепок, и здоров.
Там у больных приниженные лица,
начальственны фигуры докторов.
В застиранных халатах и пижамах
смиренный и безропотный народ,
в палатах по восьми они лежали,
как экспонаты горя и невзгод.
Повсюду стоны, храп, объедки, пакость,
тяжелый смрад давно немытых тел.
Бодры родные – только б не заплакать…
Вот тихо дух соседа отлетел…
А из уборных било в нос зловонье,
больные в коридорах, скуден стол.
Торопится надменное здоровье,
как бы исполнив милосердья долг…
Со вздохом облегченья убегая,
я вновь включался в свой круговорот,
убогих и недужных забывая.
Но вдруг случился резкий поворот.
Я заболел. Теперь живу в больнице.
И мысль, что не умру, похоронил.
Легко среди увечных растворился,
себя к их касте присоединил.
Теперь люблю хромых, глухих, незрячих,
инфекционных, раковых – любых!
Люблю я всех – ходячих и лежачих,
отчаянную армию больных.
Терпением и кротостью лучатся
из глубины печальные глаза.
Так помогите! Люди! Сестры! Братцы!
Никто не слышит эти голоса…
Сентябрь 1986
* * *
Вроде ссоры не было, заминки,
недовольства, склоки иль обиды.
Потихоньку разошлись тропинки, —
сам собою скрылся ты из вида.
Жили в одном доме по соседству,
каждый вечер вместе гужевались,
а потом переменил ты место,
и дорожки наши разбежались.
Я-то думал, сведены мы дружбою.
Оказалось – это география…
Так друг дружке стали мы ненужными
в нашей разобщенной биографии.
Сентябрь 1986
Больничные частушки
Хорошо тому живется,
у кого одна нога:
и порточина не рвется,
и не надо сапога.
Фольклор
Тот, конечно, перебьется,
у кого одна рука, —
ведь один рукав не шьется,
и перчатка не нужна.
*
Хорошо тому живется,
у кого стеклянный глаз:
капли капать не придется,
а сияет, как алмаз.
*
Если глухо одно ухо,
ты, подруга, не зуди:
стерео не надо звука,
и наушник лишь один.
Хорошо тому живется,
если нет обеих ног —
шортами он обойдется,
брюк не надо и сапог.
*
Хорошо живется в мире,
у кого одна губа.
У него улыбка шире,
весела к нему судьба.
*
Замечательно живется,
если нет обеих рук —
он жилеткой обойдется,
Экономия вокруг!
*
Хорошо тому живется,
у кого один лишь зуб:
он без мяса обойдется,
будет есть протертый суп.
*
А вот как тому живется,
у кого одно яйцо?
Он без женщин обойдется…
А без женщин жизнь – дрянцо!
Сентябрь 1986
* * *
О, эта неуверенность в глазах,
приниженность, готовность к нездоровью,
запрятанный в зрачках привычный страх,
что всякий раз судьба ответит болью.
Какая цепь несчастий, неудач,
болезней, слабоволий, невезений
создала лики, где запрятан плач?..
В них – стыд и горесть самоунижений.
Просительны фигуры, голоса,
бездонны годы тихого страданья…
Я взгляды отвожу, а их глаза
участья просят, словно подаянья.
А после долго чувствую спиной,
что здесь постыдна самооборона.
И я иду, подстреленный виной,
и тщусь забыть… Как муторно, как скорбно!
Сентябрь 1986
* * *
Сто различных настроений
у подружки дорогой.
Словно кружит день осенний
между летом и зимой.
Рядом быть с тобой не скучно,
не дано предугадать:
вдруг лицо покроют тучи,
то оно – как благодать.
Вот летит из туч луч света,
светится в ответ душа.
Ты прекрасна в бабье лето,
невозможно хороша.
Ты щедра и бескорыстна,
будто неба синева.
Загрустила… Словно листья,
тихо падают слова.
Вспышка! Ссора! Нету мира!
Ветер вспыльчивый задул,
закачалась вся квартира,
я из дома сиганул.
Предугадывать нелепо,
что нахлынет на тебя,
просто надо верить слепо
и терпеть, терпеть, любя.
Ведь предвидеть нереально:
вдруг навалится циклон,
или с нежностью печальной
ты приходишь на поклон.
Я задел тебя не очень —
пролился слезами дождь…
Просто потому что осень
и ты сильно устаешь.
Я, конечно, на попятный,
стал вокруг тебя кружить.
Ты нежданна и внезапна,
как природа и как жизнь.
P. S. Дом напоминает кратер
иль затишье пред грозой…
Потому что мой характер
тоже, скажем, не простой.
Как столкнутся две стихии —
вихри, смерчи и шторма!…
Лучше напишу стихи я,
чтобы не сойти с ума.
Октябрь 1986







