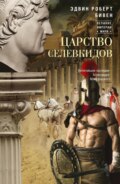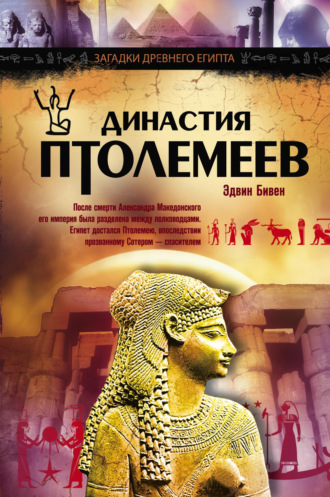
Эдвин Роберт Бивен
Династия Птолемеев. История Египта в эпоху эллинизма
Что же касается пребывания Александра в святилище Амона, то Каллисфен рассказывает следующее: «Жрецы разрешили только одному царю войти в храм в обычной одежде; остальные же должны были переодеться (кроме Александра) и слушать изречения оракула, находясь вне храма, и только он – из храма. Ответы оракула давались не словами, как в Дельфах и у Бранхидов, но большей частью кивками и знаками… причем прорицатель принимал на себя роль Зевса (то есть Амона. – Авт.). Однако прорицатель в точных выражениях сказал царю, что он – сын Зевса»[19].
В более поздних вариантах рассказа, дошедших до нас через Клитарха, он был расширен и приукрашен. В них Александр спрашивает, дарует ли ему бог, его отец, всю землю во владение, и получает ответ, что бог непременно так и сделает. Затем он спрашивает, понесли ли наказание замешанные в убийстве его отца Филиппа, и оракул восклицает, что вопрос этот нечестив, потому что его отцу, богу, невозможно навредить. Эти новые подробности могут быть следствием развития мифа об Александре, возникшего еще до его смерти. С другой стороны, когда Александр объяснял полученными от Амона указаниями причину того, что в Индии он принес жертвы отдельной группе богов[20], кажется вполне определенным, что такое повеление ему действительно дал оракул. По-прежнему остается неразрешенным вопрос, когда были получены указания: во время того исторического визита Александра в святилище или позднее через посланцев, так как мы знаем в связи с обожествлением Гефестиона, что Александр и впоследствии продолжал советоваться с богом через посланцев.
У нас нет причин сомневаться, что жрецы Амона действительно приветствовали Александра как сына верховного божества. Однако теперь считается, что это было общепринятым обычаем для всех царей Египта[21]. Каждый фараон со второго тысячелетия до н. э. официально был сыном Амона-Ра. Согласно установленной формуле, Амон даровал своим царственным сыновьям «головы всех живущих», «все страны, все народы», «все земли до самого круговращения солнца». Возможно, Тарн прав, считая, что Александр не проходил «ритуала», если под этим понимать конкретную церемонию коронации, обычную для фараонов, но он, очевидно, не мог советоваться с оракулом, не пройдя через тот или иной обряд; и такой ритуал, во время которого жрецы Амона приветствовали того, кто приходил к ним в качестве царя Египта, почти наверняка должен был включать в себя объявление царствующего фараона происходящим от божественного отца и обладающим всемирным господством.
Примечательно не то, что египетские жрецы назвали Александра сыном Амона, а то, что именно за это высказывание ухватились греки и, вероятно, сам Александр, который со всей серьезностью утверждал это перед всем миром. Александр «продолжал», как пишет Хогарт[22], быть сыном Амона «в странах, к которым Амон не имел никакого отношения… Неясно, имелись ли в обычной практике центральноазиатских религий какие-либо средства или прецеденты, почти такие же буквальные и убедительные, как в практике египетской религии, установления сыновне-отцовской связи между смертным правителем и верховным божеством[23]. Но достоверно известно одно: все время, пока приверженцам Александра его божественное происхождение служило для оказания ему почестей во время похода, а его критикам из греков и других народов – для осмеяния, его отцом неизменно выступал Амон. После смерти Александра его обожествление, поддерживаемое его преемниками в собственных же целях, и в Малой Азии, и в Сирии, и в Вавилоне от начала до конца было связано с египетским, а не каким-либо иным азиатским пантеоном. В интересах греков и проэллинских правителей он иногда появлялся на монетах с атрибутами героя, например Геракла; но если его изображали в виде полноценного бога, то бараньи рога Амона обязательно выглядывали среди его прекрасных волос… Именно в роли Зуль Карнейна, Двурогого, он попал из доисламского фольклора в Коран и оттуда снова в псевдоисторию половины Азии и большей части Африки. Эти-то факты, более чем какие-либо иные свидетельства, склоняют меня к мысли, что Александр сам настаивал на своем происхождении от Амона после отъезда из Египта и с большим или меньшим успехом устанавливал свой культ везде, куда бы ни шел».
По словам Птолемея, из Сивы Александр со спутниками вернулся в Египет, направившись прямым путем через Нитрийскую пустыню в Мемфис. Аристобул утверждает, что он вернулся, как и шел, через Паретоний, но Птолемей в этом вопросе обладает бульшим авторитетом. В Мемфисе Александр принял посольства от греческих государств и подкрепления из Македонии. Дети египетской земли снова увидели проявление культуры ее новых господ в великом музыкально-гимнастическом празднестве. Приносились жертвы Зевсу-царю, конечно же по эллинскому обычаю. Однако мы знаем, что этот бог с греческим именем и греческими ритуалами в некотором роде отождествлялся греками с египетским Амоном, сыном которого Александр только что был объявлен.
Весной 331 года до н. э. – с возвращения Александра из Сивы не могло пройти больше месяца или двух – он покинул Египет, отправившись в поход против персидского царя, находившегося в Месопотамии. Мертвому телу Александра суждено было однажды вернуться в Египет, но сам он уже туда не возвратился. По всей вероятности, он почти не видел нильской долины выше Мемфиса, хотя македонцам удалось занять территорию по крайней мере до первого порога, ибо мы читаем о том, как Александр приказывает доставить Аполлонида Хиосского (грека, перешедшего на сторону персов и захваченного войском Александра) в Элефантину для содержания под стражей[24].
Александр оставил Египет четко организованной провинцией новой македонской империи. «Египет он устроил таким образом: назначил в Египте двух номархов[25] египтян, Долоаспа и Петисия[26], и между ними и поделил египетскую землю. Когда Петисий отказался от своей должности, Долоасп принял всю власть. Фрурархами он назначил «друзей» (phrūrarchoi tōn hetairōn): в Мемфисе Панталеонта из Пидны, в Пелусии Полемона, Мегаклова сына, из Пеллы. Командовать чужеземцами он поставил этолийца Ликида, «писцом» (grammateus) у них Эвгноста, Ксенофантова сына, одного из «друзей» (hetairoi), а «наблюдателями» (episkopoi) Эсхила и Ефиппа, сына Халкидея. Правление соседней Ливией он поручил Аполлонию, сыну Харина, а управление Аравией, прилегающей к Героополю, Клеомену из Навкратиса. Ему было приказано оставить (местных) номархов управлять их номами по их собственным обычаям, как установлено исстари; ему же собирать с них подати, которые им велено было вносить. Стратегами в войске, которое оставалось в Египте, он назначил Певкеста, сына Макартата, и Балакра, сына Аминты (двух своих самых знатных македонян), навархом же Полемона, сына Ферамена… Говорят, что Александр разделил власть над Египтом между многими людьми, восхищаясь природой этой страны, которая представляла собой естественную крепость: поэтому он и счел небезопасным вручить управление всем Египтом одному человеку»[27].
Перед нами краткий очерк организации, описать которую подробно у нас нет возможности. Ей суждено было просуществовать очень недолго. Еще в дни Александра эффективное управление страной, видимо, вскоре было сосредоточено в руках одного человека, грека Клеомена из Навкратиса, ставшего гражданином новой Александрии, и, по всей вероятности, введенная Александром система перестала действовать, если даже не была полностью отменена. Когда преемники Александра из династии Птолемеев изобрели новую систему, она была основана на других принципах. Насколько можно видеть по короткому изложению у Арриана, установленный Александром принцип устройства подразумевал тщательный контроль. Даже верховное военное командование разделено между Певкестом и Балакром. Клеомен принимает налоги, но их сбором занимаются местные номархи. Высокое положение, отведенное в Александровой системе двум коренным египтянам, – деталь, которая вновь появилась в правление последних Птолемеев. Видимо, Клеомену не хватило ума использовать свои возможности управления финансами, чтобы добиться для себя реальной власти. Такое впечатление, что в греческом мире он вскоре приобрел репутацию человека бесчестного и лихоимца. В Афинах он стал непопулярен из-за того, что вследствие принятых им мер взлетели цены на зерно[28]. Примеры его крутых мер при сборе налогов можно найти в труде по экономике, который (ошибочно) приписывают Аристотелю.
«Александриец Клеомен, будучи сатрапом Египта, когда возник голод, в других местах сильный, в Египте умеренный, запретил вывоз хлеба. Так как номархи заявляли, что нельзя будет внести платежей из-за запрета вывозить хлеб, вывоз он разрешил, но обложил хлеб большой пошлиной, таким образом и ему удалось получать – если не те же платежи от номархов, то от хлеба, вывозимого в небольшом количестве, – большую пошлину, и у них [номархов] не было уже оснований для отговорок. Когда он переплывал тот ном, божеством которого является крокодил, был похищен один из его рабов. Тогда он, созвав жрецов, заявил, что, подвергшись нападению первым, он намерен покарать крокодилов, и дал предписание охотиться на них. Жрецы, чтобы божество их не подвергалось оскорблению, собрав сколько смогли золота, отдали ему, и тогда он отступился. Когда царь Александр поручил ему заселить город около Фароса (Александрию. – Авт.), а торговый порт, находившийся прежде в Канобе, сделать там, он, прибыв в Каноб, заявил жрецам и тем, кто владел там имуществом, что явился с тем, чтобы переселить их. Жрецы и жители, внеся деньги, отдали ему, чтобы он оставил торговый порт у них на месте. Получив их, он тогда уехал, но потом, вернувшись, когда у него уже было готово все, что касалось устроения, стал требовать у них денег в чрезмерном размере: эта сумма, по его словам, составляет для него разницу в том, чтобы торговый порт был здесь, а не там. Так как они сказали, что едва ли смогут дать, он переселил их… Когда хлеб в стране продавался по десяти драхм, он созвал поставщиков (τοὺς ἐργαζομένους) и спросил их, как они желают поставлять ему; они ответили, что за меньшую цену, чем продавали купцам. Тогда он велел купцам передать ему за столько, за сколько они продавали другим, а сам, установив цену на хлеб в тридцать две драхмы, так и продавал. (Видимо, это означает, что он избавился от посредников, и таким образом всю прибыль государству принес сам. – M.) Созвав жрецов, он заявил, что в стране делаются большие расходы на храмы, поэтому необходимо закрыть некоторые храмы и распустить большую часть жрецов. Тогда жрецы, каждый лично и все сообща, отдали храмовые деньги, так как думали, что он действительно собирается сделать это, а каждый хотел, чтобы и храм его оставался у них, и сам он оставался жрецом»[29]. (Если этот довод означал, что они либо должны были пожертвовать частью своих владений, либо отдать большую сумму правительству, тогда едва ли кто из тех, кому было известно громадное богатство египетских жрецов, стал бы спорить с Клеоменом. – M.)
Насколько Клеомен заслужил дурную репутацию, сказать невозможно. Очень просто путем незначительного искажения фактов представить любые решительные действия фискальной власти как несправедливые и деспотичные, к тому же очевидно, что позднее очернение памяти Клеомена было в интересах Птолемеев. Александр, как мы знаем, не хотел его смещать. Арриан приводит цитату из предполагаемого письма Александра Клеомену, в котором первый сообщает: «Если я найду, что и храмы Гефестиону выстроены хорошо, и жертвы в них совершаются как следует, то я прощу тебе все прежние проступки и в дальнейшем, чтобы ты ни натворил, тебе от меня худого не будет». Но Магаффи указывает, что письмо не может быть подлинным, так как в нем упоминается Фаросский маяк, построенный лишь через много лет после смерти Александра. Конечно, возможно, что Клеомен действительно ухитрился сохранить милость Александра, выказывая рвение в делах, особо заботивших Александра, как, например, развитие Александрии и отправление культа Гефестиона. Стоит заметить, что три-четыре века спустя считалось, что Клеомен тесно связан с основанием Александрии, о чем сказано в «Истории Александра Великого», то есть в местной александрийской традиции.
Глава 2
Птолемей I Сотер
(сатрап Египта, 323–305 годы до н. э., царь Египта, 305–283/82 годы до н. э.)
В июне 323 года до н. э. Александр, создав Македонскую империю на всей территории прежней Персидской державы и за ее границами, внезапно скончался в Вавилоне. Примерно через пять месяцев Птолемей, сын Лага, один из его стратегов, прибыл в Египет в качестве сатрапа, назначенный новым македонским царем Филиппом Арридеем. Новый царь, единокровный брат Александра, был слабоумен, и реальную власть осуществляли великие македонские полководцы, служившие Александру, и главным образом Пердикка, конкретные функции которого, до сих пор неясные современным ученым, вероятно, уже были предметом споров среди самих вождей в запутанной борьбе, начавшейся после внезапной кончины великого завоевателя. Ясно, что Пердикка твердо вознамерился занять место верховного регента империи и что, когда военачальники Александра Македонского собрались в Вавилоне, чтобы распределить между собой сатрапии, он был там самым влиятельным человеком. В тот миг сомнения и смятения Птолемей быстро и уверенно понял, что хочет получить для себя – Египет. Пердикка или совет вождей, выступающий от имени слабоумного царя, дал ему желанное назначение, и Птолемей как можно быстрее постарался убраться на безопасное расстояние от будущей схватки, которую он предвидел. «Должно быть, там не обошлось без сделки между Пердиккой и Птолемеем; ценой Птолемея за признание Пердикки был Египет и наделение Арридея (македонского вождя, а не царя. – Авт.) правом организовать похороны»[30].
Как утверждает Диодор[31], среди прочего македонские вожди в Вавилоне договорились о том, что тело Александра должно быть погребено в храме его божественного отца в оазисе Сива. Во всяком случае, Арридею, одному из их числа, было поручено соорудить погребальную повозку и организовать кортеж с беспрецедентным великолепием, и, видимо, Птолемей тут же осознал, что престиж его государства, которое он уже мысленно создал себе в Египте, возрастет безгранично, если оно будет владеть телом великого македонского героя, которое как предмет культа обладало необычайным влиянием на умы людей. Самым естественным местом для погребения Александра были Эги, исконный город македонских царей на родине его династии, и возможно, что сначала возник именно этот вариант, а не погребение в оазисе. Во всяком случае, рано или поздно это стало намерением Пердикки. Но Птолемей его опередил. Когда Пердикка находился в Малой Азии, Арридей, действуя в сговоре с Птолемеем, отправился с погребальным кортежем из Вавилона в Египет. Если перевозить тело в Сиву, то в любом случае пришлось бы (если только не доставлять его в Паретоний по морю) сначала отправиться в Мемфис; видимо, Арридей объявил о том, что направляется в оазис, уже выехав из Вавилона. Птолемей в сопровождении внушительного военного эскорта встретил кортеж в Сирии и завладел телом Александра. Достигнув Мемфиса, он не продолжил путь в оазис. Нам неизвестно, решил ли к тому времени Птолемей, что последним приютом Александра должна стать Александрия. Павсаний сообщает, что тело оставалось в Мемфисе, пока сын Птолемея не переправил его в Александрию примерно сорок лет спустя[32].
Диодор[33], Страбон[34] и другие античные авторы говорят, что именно первый Птолемей положил тело Александра в Семе (Соме) в Александрии, где оно еще находилось и в римские времена. Возможно, это правда, и утверждение Павсания в таком случае объяснялось бы просто тем, что тело несколько лет находилось в Мемфисе, пока гробница в Александрии не была готова его принять. Обычная дорога из Сирии в Александрию, как указывал Магаффи, идет не через дельту, а через Мемфис. Но Павсаний настолько уверенно называет перевозку тела из места его упокоения в Александрию одним из злодеяний Птолемея II, что у него должны были иметься для этого веские основания. Как бы то ни было, в нашем распоряжении имеются источники, свидетельствующие о существовании государственного культа, а имена отправлявших его жрецов служили для датировки документов во всему царству при Птолемее I. В двух документах жрецом называется брат царя Менелай, а так как впоследствии эпонимный жрец государственного культа являлся жрецом Александра, то есть вероятность (хотя это и не утверждается), что Мене-лай был жрецом Александра. Если так, то центром культа первоначально мог быть храм-усыпальница Александра в Мемфисе, а затем он был перенесен Птолемеем II в александрийскую Сему[35].
Македонский вождь с греческим именем Ptolemaios[36], прибывший в Египет в 323 году до н. э. в качестве его нового правителя, был сыном Лага (Лага или Лаага: удлиненная форма имени содержится в папирусе того времени из Элефантины, и, вероятно, это всего лишь греческое La-agos, «вождь народа»)[37]. Когда династия Птолемея приобрела значительный авторитет во всем мире, его происхождение от непонятного Лаага стало считаться довольно постыдным[38]. Есть одна злая история о том, как Птолемей спросил у грамматика, кто был отцом Пелопса, – туманное, как всем было известно, место в мифологии, – грамматик ответил так: «Я скажу, если ты сначала скажешь мне, кто был отцом Лага». Юстин в своей живописной манере преувеличивает контраст между сравнительно скромным происхождением Птолемея и его дальнейшим величием, говоря, что Александр возвысил его из рядовых. Это чепуха. Мы, во всяком случае, знаем, что мальчиком Птолемей принадлежал к своего рода пажам (basilikoi paides) при дворе Филиппа и был близким другом Александра до его восшествия на престол. Лаг, должно быть, принадлежал к мелкой аристократии Македонии. Мать Птолемея звали Арсиноей: официальная генеалогия позднее представляла ее связанной с царским родом, и возможно, не без оснований. В кампаниях Александра Птолемей отличился в качестве командира. Он стал одним из семи телохранителей царя. В Индии он играл особо выдающуюся роль. Насколько нам видна личность Птолемея сквозь туман времени, это был крепкий, чистокровный македонянин с практическим умом, который часто отличает предводителей земледельцев, трезвой осмотрительностью. Он предпочитал заглядывать далеко вперед и действовать наверняка, обеспечив себе надежные преимущества. Для него были характерны нечеловеческая сила, которая заставила его искать наслаждений со многими женщинами, сердечное добродушие, привлекавшее наемников под его знамена со всех греческих земель, – то есть он был человеком скорее крепкой, чем тонкой, телесной и умственной конституции. Однако он не без интереса относился к греческой литературе; молодые македонцы, принадлежавшие к высшему сословию, уже в течение одного или двух поколений учились говорить и читать по-гречески, и Птолемей не только активно старался привлечь к своему двору греческих литераторов, философов и художников, но и сам в качестве автора внес весьма похвальный вклад в греческую историческую литературу. Его перу принадлежит повествование о кампаниях Александра, которое характеризует безыскусная приверженность к фактам и отсутствие риторического краснобайства. Таков был этот человек, который прибыл в Египет в качестве сатрапа при царе Филиппе Арридее и его соправителе Александре, младенце, сыне Александра Великого, родившемся уже после его смерти. Птолемею в то время было около сорока четырех лет.
Согласно вавилонским договоренностям, Клеомен должен был остаться у власти в Египте как помощник Птолемея (гипарх)[39]. Клеомен был предан интересам Пердикки, и потому была надежда, что он будет действовать в качестве сдерживающей силы при новом сатрапе. Но как только Птолемей в неподчинение Пердикке завладел телом Александра, между сатрапом и будущим регентом началась открытая война. Клеомен мог сдерживать Птолемея только до тех пор, пока тот боялся открыто порвать с Пердиккой. Теперь разрыв произошел; и Птолемей добился того, чтобы Клеомена обвинили в чем-то, осудили на смерть и казнили. Конечно, теперь ему следовало ожидать полномасштабного нападения Пердикки, как только у того будут развязаны руки. Тем временем Птолемей расширил свои владения вдоль африканского побережья, овладев древней греческой колонией Киреной и ее дочерними городами. В дни смуты после смерти Александра в тех местах разразилась гражданская война; одну сторону возглавлял спартанский наемник Фиброн, другую – критянин Мнасикл. Беженцы, принадлежавшие к побежденной стороне, отправились в Египет, чтобы упросить сатрапа вмешаться. Птолемей отправил сухопутные и морские силы под началом олинфянина Офелла, состоявшего у него на службе, которые должны были занять страну, и оба наемника объединили силы для борьбы против него. Офелл разбил их, захватил Фиброна и распял его. Затем, в конце 322 года до н. э., Птолемей лично явился в Кирену, чтобы овладеть ею. Покорение государства столь выдающегося, имевшего более чем вековую традицию республиканской свободы, начиная с падения былой греческой династии ее правителей, македонским вождем произвело громадное впечатление на греческий мир. Киренцы так и не согласились на роль зависимой провинции. В будущем они часто будут не подспорьем македонских царей Египта, а колючкой у них в боку. И все-таки Кирена подарила эллинистическому Египту, как Ирландия Англии, целый перечень блестящих личностей, таких как поэт Каллимах, географ Эратосфен, а также множество воинов. Судя по папирусам, среди воинов-колонистов Фаюма и Верхнего Египта была значительная доля киренцев. А тем временем Птолемей оставил Офелла в Кирене в качестве правителя.
Пердикка напал весной 321 года до н. э. Тогда ясно стала видна вся дальновидность Птолемея, обеспечившего для своей власти хорошо защищенный территориальный базис. Пердикке не удалось перебраться через восточный рукав Нила, и он был убит в собственном же лагере. Птолемей мог бы заступить на его место. Но он знал, что безопаснее быть правителем Египта, чем регентом империи. Осенью 321 года до н. э. победившие вожди, принадлежавшие к партии противников Пердикки, встретились в Трипарадисе, городе где-то на севере Сирии, чтобы снова договориться о разделении власти в империи. Право Птолемея владеть Египтом и Киренаикой было подтверждено.
На протяжении сорока лет последовавшей борьбы между великими македонскими вождями – людьми, научившимися воевать под началом Александра, Птолемей, сын Лага, оставался у себя в африканской провинции в безопасности, как черепаха в панцире, пока армии отправлялись в походы во все концы Азии и флоты соперников бились в Эгейском море. Однако в какой-то степени он все же высовывался из панциря и вмешивался в схватку, ибо правившая Египтом власть теперь была эллинской по характеру и имела разнообразные политические, экономические и культурные связи с другими государствами греческого мира. Из Александрии она смотрела на север, в сторону моря, с интересом, которого не мог испытывать ни один прежний египетский фараон. И Птолемей, желая сохранить безопасное место и средоточие власти в стране у Нила, одновременно стремился завладеть некоторыми другими соседними странами, которые словно придатки прилегали к его сатрапии, а также заполучить базу для своих морских сил на островах и левантийском побережье. Эллинистический Египет был державой более средиземноморской и менее африканской, чем старый Египет фараонов, которые иногда расширяли свои владения до Судана и дальше. Птолемеев никогда не заботили завоевания в верховьях Нила дальше первого порога. Но Птолемей стремился удержать Южную Сирию, как и фараоны-завоеватели до него, – дополнение к подвластным ему землям на востоке, как Киренаика на западе. Он также хотел овладеть Кипром, как Амасис II в VI веке до н. э., а кроме этого, расширить сферу влияния на греческие Эгейские острова, города на побережье Малой Азии и некоторые области даже в самуй Греции. Для этого он должен был вылезти из панциря и рискнуть. Чтобы Египет в новые дни мировой политики и мировой торговли стал сильным и процветающим государством, он не мог оставаться изолированным и самодостаточным. Например, на нильской земле не произрастал высокий корабельный лес, но его доставляли из Ливана и с кипрских холмов. Торговый путь, который шел по Нилу в Александрию и обратно, имел соперника – путь из Персидского залива через Аравию в Газу, и правителю Египта необходимо было контролировать оба.
Поскольку эта книга посвящена больше истории Египта, чем династии Птолемеев, то в ней не будут рассматриваться действия Птолемея и его наследников в войнах и дипломатии как одной из сил греческого мира. Однако следует отметить, насколько превратности мировой политики повлияли на внутреннюю историю Египта. За два года[40], последовавшие за заключением в Трипарадисе договора, Птолемей овладел Сирией южнее Ливана, страной, которую мы теперь зовем Палестиной, а греки в те дни обычно звали Келесирией («Полой Сирией» – из-за впадины Иорданской долины). Правителем в этой области, согласно договоренностям Трипарадиса, был грек из Амфиполя по имени Лаомедонт. Птолемей попытался сначала выкупить у него страну, а после отказа Лаомедонта занял ее силой. Именно в тот раз, согласно общепринятому мнению, Птолемей захватил Иерусалим в день субботний, когда религия запрещала иудеям оказывать сопротивление[41]. Буше-Леклерк считает более вероятным, что это произошло в 312 году до н. э. Однако едва ли возможно, что Птолемей не захватил города этого странного народа (каким они казались грекам), когда расширял владения в Палестине в 320–318 годах до н. э. Когда сатрап Фригии Антигон вернулся из восточных провинций в 316 году до н. э., одержав победу над оставшимися сторонниками Пердикки, он, в свою очередь, стал представлять для своих старых союзников ту же опасность, которую представлял Пердикка. Селевк, сатрап Вавилона, бежал в Египет, и против Антигона был создан новый союз вождей. Тем, что Птолемей занял Келесирию, он, очевидно, дал основание для недовольства любому, кто желал быть хозяином всей империи. В 315 году до н. э. Антигон вторгся в Келесирию, и Птолемей благоразумно отступил – черепаха заползла в панцирь. Антигон захватил города сирийского побережья до самой Газы. Но морской флот Птолемея под командованием Селевка тем временем продолжил войну с Антигоном на море. Птолемей бросил войско на Кипр. Этот остров с его смешанным греко-финикийским населением не был единым. Несколькими областями Кипра управляли независимые царьки. Некоторые из них стояли на стороне Антигона; династы же Сол, Саламина, Пафоса и Китр поддерживали Птолемея. С прибытием войска Птолемея начала устанавливаться его власть на всем острове[42]. Кипр мог пригодиться Птолемею в качестве военно-морской базы в борьбе против Антигона, который теперь владел финикийскими портами на сирийском побережье. В 313 году до н. э. Птолемей, потеряв Келесирию, временно утратил и Кирену. Через девять лет подчинения чужеземному македонскому правителю город взбунтовался и осадил цитадель с египетским гарнизоном. Однако Птолемей сумел послать новое экспедиционное войско, которое подавило восстание в Кирене и снова установило в городе власть египетского наместника Офелла. В тот же год Птолемей лично отправился на Кипр и довершил завоевание острова. Финикийский царевич Кития Пумаййятон (Pûmayyaton, Пигмалион), поддерживавший Антигона, был казнен. В 312 году до н. э. Птолемей снова отправился из Египта в Палестину, чтобы нанести удар и вернуть ее под свою власть. Антигон оставил командовать там своего сына Деметрия, в то время юношу двадцати лет. Деметрию суждено было пройти блестящий и полный приключений жизненный путь и прославиться в истории под прозвищем Полиоркет (Poliorkētēs, Осаждающий), но при встрече весной 312 года до н. э. у границ Палестины с бывалым воином, который сражался под началом Александра, Деметрий потерпел сокрушительное поражение. Битва при Газе отмечает целую эпоху в истории, ибо именно после этого разгрома Деметрия Селевк увидел, что перед ним открылась дорога для возвращения в Вавилон, и зарождение империи Селевкидов в Азии датируется этим годом (312 до н. э.). Во второй раз Птолемей оккупировал Палестину и овладел финикийскими городами[43].
Затем судьба совершила неожиданный поворот, как часто бывало в те бурные дни. В 311 году до н. э. Деметрий разбил войско Птолемея в Северной Сирии, и Антигон с севера отправился походом в Палестину. Во второй раз Птолемею пришлось убраться из Палестины в свой черепаший панцирь. Одновременно снова взбунтовалась Кирена, на этот раз не против Офелла, а под его предводительством. Для Птолемея настали нелегкие времена. В 311 году до н. э. он и остальные македонские вожди, его союзники, – правитель Македонии Кассандр и правитель Фракии Лисимах – заключили мир с Антигоном, по условиям которого Птолемей оставлял Келесирию. Это была лишь краткая передышка в длительной борьбе, и вскоре война продолжилась, как прежде. Теперь усилия Птолемея были в основном направлены на установление господства на море. Он потерял Палестину и Финикию, но все еще владел Кипром. Все македонские вожди признавали свою приверженность принципам, выраженным фразой «автономия эллинов», и под этим предлогом каждый из них мог выгнать гарнизон своего противника из любого греческого города, который удерживал противник, и поставить вместо него собственный гарнизон в качестве хранителя свободы этого города. Морской флот Птолемея активно действовал после 311 года до н. э. на побережье Малой Азии, вырывая, где мог, города из-под власти Антигона. Агенты Антигона, с другой стороны, пытались переманить на его сторону династов Кипра. С одним из них им это удалось – или, во всяком случае, Птолемей считал, что удалось, – но неясно[44], то ли это был Никокл, царь Пафоса (как пишет Диодор), то ли Никокреонт, династ Саламина, выполнявший роль губернатора провинции при Птолемее, – и правитель был принужден Птолемеем к самоубийству. Несмотря на вражеские происки, Птолемею пока удалось сохранить власть над Кипром. В 308 году до н. э.[45] он даже высадился с войском в самой Греции и поставил свои гарнизоны в Мегаре, Коринфе и Сикионе. В том же году, изгнав из Андроса гарнизон противника, он сделал первый шаг к установлению своего протектората над Кикладскими островами в Эгейском море, который в последующие годы должен был стать важным фактором в Средиземноморском регионе. Делос, являвшийся политическим центром Кикладского архипелага, очевидно по причине его религиозного значения, Птолемей также вырвал примерно в то же время из-под власти Афин, которым Делос подчинялся почти два века. В найденной на Делосе описи храмового имущества упоминается ваза с посвящением: «От Птолемея, сына Лага, Афродите». Также вероятно, что в 308 году до н. э. армия под командованием пасынка Птолемея Мага вернула Киренаику: Маг был водворен там в качестве наместника[46].