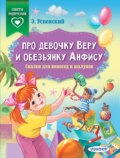Эдуард Успенский
Лжедмитрий Второй, настоящий
Постоянно входила прислужница и что-то приносила Александре. Вкусно пахло блинами.
Инокиня много молилась в углу, что-то читала, что-то шептала. И в разговоре участия не принимала.
Патриарх рассказал о соборе. О Шуйских и Мстиславском.
– Завтра мы к тебе, Борис Федорович, придем с молебном, с духовенством, с боярами бить челом о принятии престола. Так что, Борис Федорович, готовься принять государство.
– Рано еще, – сказал Годунов.
– Что, не приходить? – спросил Иов.
– Приходить приходите, а государство принимать рано. Народ должен по-настоящему забеспокоиться. Должен понять, что по-другому нельзя. Иначе меня будут считать самодельцем.
– Смотри, Борис, не переиграй, – хмуро сказал Семен Никитич. – Дают – бери!
– Переиграть опасно, это верно. А недоиграть в сто раз хуже. Переиграл – без трона остался, недоиграл – без головы, – возразил Годунов.
* * *
В другом, противоположном конце Москвы, в большой загородной усадьбе Черкасских тоже шло совещание. Вернее, только начиналось.
Съехались Шуйские, Романовы, Черкасские. Ждали Шестуновых, Голицыных и кого-нибудь из Бельских. Богдана Яковлевича из столицы уже выслали.
– Никто вас не видел? – спрашивал каждого входящего Борис Иванович Черкасский. – Никто не провожал?
– Не до нас сейчас, – ответил на этот вопрос старший Шуйский – Василий. – У него своих забот хватает.
– А что, мы и на крестины собраться не можем? – спросил Федор Никитич Романов.
– Все хорошо, только крестника у нас нет, – сказал младший Шуйский – Дмитрий.
– Крестника нет, масленица есть, – вставил Михайла Никитич Романов.
– А верно! Так за царскими делами обо всех обычаях забудешь, – воскликнул Василий Шуйский. – Тащите блины скорей.
– И крестник у нас имеется, – возразил Черкасский. – Ради него и собрались.
– Кто такой? Когда родился? Не о таком ли крестнике нам намекал Андрей Яковлевич? – посыпал вопросами Василий Шуйский.
Все поняли, что речь шла о старшем Щелкалове, о высланном Андрее.
– О таком, о таком, – ответил Черкасский.
– Вот бы поглядеть, – сказал князь Василий.
– Да ты его видел не раз, – сказал Федор Романов. – Тебе только вспомнить надобно. Рыжий такой малый, бойкий. Он у нас крутился. Потом к Борису Ивановичу служить перешел. А сейчас в Чудовом монастыре при нашем благословенном Иове служит.
– О чем речь? – забеспокоился Дмитрий Шуйский – царский воевода не из числа первых.
Младший Бельский, невежа, тоже ничего не понимал. Но никто им ничего не объяснял и даже не считал нужным.
– Дело славное, – оценочно сказал Василий Шуйский. – Но больно опасное. И говорить о нем впрямую не след. Кто не понял, пусть и не понимает. Потом поймет. А прямых слов сейчас не говорите.
Федор Никитич, Михайла Никитич, Борис Черкасский, Василий Голицын сразу все поняли и никаких имен не произносили и не спрашивали.
Невежа Бельский не сразу понял, но сразу закрыл рот на замок. И все другие участники блинной вечери приняли условия игры: «Да и нет не говорить. Черно-бело не носить».
– Вот что, – сказал Василий Шуйский, – кто бы из нас его ни встретил, на эту дорожку его наставляйте. Не в лоб, обиняком. Намеками, подсказками. Если беда его прихватит, выручать его следует. Сами выручайте и своим людям это велите. И денег незаметно давать ему надобно.
Он выдержал паузу:
– И все, и больше об этом не говорим.
А за здоровье государя нашего Годунова Бориса Федоровича сладкого меда выпить непременно следует. Да еще под блины.
В этот вечер судьба Григория Отрепьева была решена. Причем никто ни разу не назвал ни его имени, ни его фамилии. Как ни прислушивались подавальщики, ничего интересного не узнали.
* * *
Москва гудела и стекалась потоками людей к Кремлю. Готовился второй поход на Новодевичий монастырь – уговаривать Бориса Годунова принять огромную осиротевшую страну и престол. Вчера Борис отказался:
– Как и прежде я говорил, так и сейчас говорю: не думайте, чтобы я помыслил вступить на это высочайшее место после такого великого и праведного государя.
Все православные христиане пребывали в недоумении, в скорби и плаче. Даже противники Годунова, многовековые бояре, недоумевали:
– Чего он тянет? Чего выдумывает? Согласился бы, да и дело с концом. Всем кишки выворачивает.
Но дело было не так просто. Эти же бояре на днях подступали к нему, чтобы он целовал грамоту, что против их воли ничего принимать не будет. То есть соглашались, чтобы он сидел на троне, но со связанными руками.
А это означало верную гибель Годунова через год, через два. Попробуй усиди на русском троне без топора или дыбы под рукой.
Сильно помог Годунову Романов Федор Никитич. Стал оказывать ему поддержку среди бояр в обмен на клятву Бориса быть с ним во всех делах советником и по всей Русии соправителем.
И все же Годунов колебался.
Накануне вечером по Москве разнесся слух, что патриарх с духовенством решили так: если Борис не согласится сесть на царствие, отлучить его от церкви. Сами они тогда снимут с себя церковное облачение, наденут простые рясы и запретят службу по всем церквам.
Такого страшного ужаса Москва еще не помнила.
Поэтому все решили пойти. Взрослые решили взять с собой детей для убедительности.
Впереди несли икону Владимирской Божией Матери. За ней с песнопениями, с молитвами шел патриарх с митрополитами и многое белое духовенство. За священничеством в толпе шли сановитые бояре, дети боярские, дворяне, важные горожане, стрельцы в городской одежде и простой люд.
Народу было много, целое людское море. И людские потоки в это море вливались и вливались.
Никогда еще москвичи не были так объединены одним желанием. Никогда еще не были так близки между собой люди всех сословий.
Но по всему было видно, что главной действующей силой в этом потоке являлось духовенство.
Годунов вышел навстречу шествию из монастыря не один, тоже с духовенством и тоже с иконой – Смоленской Божией Матери.
– Государь мой, патриарх Иов! Зачем ты на такое серьезное дело меня сподвигаешь?
Иов, уже разозленный многодневной кампанией, сказал при всех:
– Да затем, Борис, что, кроме тебя, никому это дело не под силу. Иначе море крови прольется допреж того, как порядок установится.
А люди окружили Новодевичий монастырь широким потоком и вразноголосицу вопили:
– Благочестивая царица! Помилуй нас!
– Дай нам на царство своего брата!
– Помилосердствуй о нас!
– Пощади нас!
Люди лезли на деревья, пытались влезть на башни и стены. Одного мальца, припирая шестом к стене, подняли наверх к зубцам стены, находящимся у окон царицы. И он вопил там каким-то неестественно сильным голосом:
– Пощади нас, царица! Пощади нас, царица!
Служащие монастыря не спихивали его наземь. Это наводило на размышления. Потому что при всей беспорядочности и непонятности жизни тех дней царская охрана работала исправно и четко.
Борис и патриарх Иов вошли в монастырь и прошли в палаты царицы. Они пробыли там около часа.
Слегка усилился мороз. Чуть-чуть начали вытекать ручейки из людского моря, окружавшего монастырь. Шум голосов затихал.
Вот наконец, на радость огромного количества людей, от Красного крыльца палат царицы к окраинам людского моря побежала радостная весть:
– Согласился!
– Согласился!
– Борис Федорович дал согласие!
– Слава тебе, Господи, Царица Небесная!
* * *
Судьба Годунова как-то так складывалась, что события никогда не приходили к нему поодиночке. Но его незакованное мышление всегда позволяло ему из двух бед извлечь хотя бы одну выгоду.
Так и в этот раз пришла весть: Орда вышла из Крыма.
Механизм упреждения набегов Крымской орды на Русию был до чрезвычайности примитивен. И в такой же степени надежен.
Вдоль главной «царской» дороги, или «дороги великого хана», на равнинах тут и там росло большое количество высоких дубов.
Каждый раз, идя набегом на Русию, крымский хан или калга собирались спилить их на обратном пути. И каждый раз на обратном пути было не до этого.
При этих дубах на расстоянии многих верст друг от друга размещались конные сторожевые двойки. Менялись они каждые четыре дня.
Едва начинался рассвет, один из них забирался на самую верхушку дуба, в специально устроенное гнездо, и внимательно, до боли в глазах, начинал всматриваться в даль.
Второй постоянно находился под деревом при лошадях. И не дай бог им отлучиться от поста, засекут до смерти!
Как только верхний сторож на первом дубе замечал пыль или что-то очень подозрительное вдали, он давал команду нижнему:
– Тревога! Крымцы! Татары! Гони!
Нижний караульный прыгал в седло и скакал на своей степной добротной лошади ко второму дубу что есть мочи.
На подходе к нему он кричал и со всех сил размахивал руками, привлекая к себе внимание.
Едва верхний дежурный со второго дуба замечал его, он давал команду своему напарнику приготовиться и сесть в седло.
Так весть неслась до ближайшей крепости и дальше попадала в Москву.
Очень часто тревога была ложной. И об этом обычно сообщал второй караульщик, который не имел права слезать с дуба, пока точно не установит причину тревоги.
Татарин – враг подвижный, проворный и опасный. Зная, что за ним ведется надзор, он двадцатью-тридцатью тысячами всадников всегда мог отвлечь внимание дозорщиков.
А потом основной конной массой нанести кровавый удар там, где его совсем не ждали. Поэтому и сторожили его во многих направлениях.
Никакой поклажи у татар не было. Никакой добычей они себя не обременяли, кроме самой дорогой – пленников. Каждый татарин имел при себе две-три хорошо приученных лошади. И любой из крымцев всегда мог, не теряя скорости, на скаку поменять лошадей.
Из оружия татары имели лук, стрелы и саблю. Иногда плеть. К седлу они еще привязывали длинную веревку. Они прекрасно стреляли из лука с седла на скаку.
Сотня татар спокойно обращала в бегство двести необученных русских.
В этот раз механизм сработал как всегда.
Сначала поскакали нижние дежурные с вестью: «Тревога! Крымцы! Орда выходит!»
Потом верхние, с некоторым опозданием, поскакали с вестью: «Нет, не Орда, только часть ее: в Москву идет великое посольство».
И как всегда, новость передавали только самому высокому начальству. Чтобы она не расползлась по границам, по посольствам и по торговым гостям. Чтобы она, упаси господи, не мобилизовала врагов.
В Москве она поступила в палаты Семена Никитича Годунова.
Несмотря на позднюю ночь, он отправился с докладом к Борису. О набегах Орды, о пожарах, о моровом поветрии государю следовало сообщать немедленно.
– Хорошо, что это не Орда, а посольство, – сказал Семен Никитич, когда доложил обе новости. – Нам только Орды не хватало.
Годунов выслушал весть и ответил сразу:
– Орды нам и вправду не хватает! – Он постоял в полумраке кабинета и объявил свое решение: – Не будем князьям и боярам сообщать о посольстве. Скажем первую новость – Орда идет.
– Всегда ты нас запутываешь, Борис, – недовольно произнес Семен Никитич. – Для чего нам Орда? Тебе забот не хватает? У тебя бояре смирными стали, ручными? У тебя Москва утихла?
– А для того и нужна, чтобы бояр призвать к порядку, показать им, кто хозяин. Кто может полки собрать, начальников назначить без свары. Кто может в две недели всю Русию к Серпухову стянуть.
– Смотри, и в самом деле Орду накаркаешь!
– А и накаркаю. Орда уже не та стала. Вспомни, как в последний раз их гнали.
Оба вспомнили набег татар в девяносто первом, после убийства царевича. Черная тень набежала на лицо Годунова, он перекрестился. Семен Никитич перекрестился тоже.
* * *
Афанасий Нагой сдавал. Сдавал не от усталости и возраста, сдавал от резко изменившейся жизни. Он привык к интригам, гонке, опасностям, которых не боялся. Не потому он не боялся, что был безумно храбр, а потому, что слишком хорошо считал. И каждую опасность он трижды предвидел за версту и трижды успевал принять против нее меры.
Сейчас ему не приходилось куда-то гнать, вести сложные переговоры, интриговать и рисковать. Ему не приходилось преодолевать сопротивление среды и свое собственное, и внутренняя сила разрывала его, как рыбу, вытащенную из глубины воды на поверхность.
Он стал пить. Пил он всегда, но раньше все выпитое перерабатывалось в нем, как хорошее горючее, и только придавало ему сил. Теперь выпитое угнетало его. Он мрачнел. Мрачность направлялась внутрь его, ее надо было снова заливать вином.
В первые дни весны он пригласил к себе в рабочую комнату мальчика Дмитрия для какого-то важного разговора.
Сам он был на удивление умыт, причесан и нарядно одет. Дипломатический лоск еще не совсем был утерян.
Мальчик был удивлен тем, что его позвали в комнату, куда никто из домашних, кроме Симеона, никогда не впускался.
– Слушай, Дмитрий, – обратился к нему Нагой, – я тебе сейчас скажу одну вещь, о которой ты и сам бы мог давно догадаться, если бы был поумнее.
Афанасий говорил так не из желания унизить подростка, а из-за какой-то врожденной грубости по отношению к меньшим. Мальчик уже привык к такой манере и иногда сам подражал ей в разговоре с сельскими подростками.
– Ты не просто ребенок, – сказал он. – Не просто сын дворянина и даже боярина. Ты, дорогой юноша, являешься членом царской семьи. По некоторым причинам тебя удалили из семейства и поручили мне тебя воспитывать.
Мальчик с удивлением смотрел на Афанасия и не говорил ни слова. Но видно было, что информация с невероятной скоростью перерабатывается в его голове.
– Больше я тебе сегодня ничего не скажу, – закончил Афанасий. – А узнанное держи со страшной силой за зубами. Если ты еще не понял, в какой стране живешь, поверь мне на слово. Ты ведь знаешь, я слов на ветер не бросаю. Под пыткой никому не говори, что от меня услышал. Не дай тебе Бог!
Он махнул рукой, выпроваживая мальчика из комнаты. Мальчик вышел. Но Афанасий после секундного раздумья окликнул его:
– Дмитрий! – Мальчик вернулся. – Подожди. Я покажу тебе одну вещицу.
Он вытащил из ящика рабочего стола красивую черного дерева шкатулку с золотыми цветочными узорами на крышке и вынул небольшой, но тяжелый нательный крест на золотой цепочке, украшенный искрящимися камнями.
– Это твой, смотри, – показал он крест мальчику. – Скоро я тебе его отдам навсегда.
Дав юноше подержать драгоценный предмет, он вновь убрал его. Но положил не на место, а в середину раскрытой на столе огромной книги, которую читал.
Это было Евангелие.
– Иди!
В этот же день он позвал в кабинет Копнина.
Если сам Афанасий поменял образ жизни, никуда не ездил, то Копнина и Жука он постоянно безжалостно гонял из одного конца страны в другой. И давал Копнину одно поручение сложнее предыдущего.
Они недолго проговорили в кабинете при закрытых дверях. Копнин вышел и сразу велел Жуку закладывать карету.
За всеми этими движениями внимательно наблюдал Симеон. «Они взяли карету, а не коляску, – рассуждал он. – Значит, их поездка связана с человеком. Афанасий лично беседовал с Дмитрием, минуя меня, значит, начинается новый виток интриги».
Он чувствовал что-то непривычное в воздухе. А все непривычное в Русии всегда означало только одно – опасность. Только опасность, и ничего другого.
И в этот день к вечеру у Афанасия Нагого в кабинете состоялся еще один необычный разговор. С доктором Симеоном.
Мрачный и уже слегка запьяневший Афанасий с удивлением смотрел на визитера. Они не договаривались о встрече:
– Что тебе надо, доктор?
– Афанасий Федорович, когда ближайшая оказия в Москву?
– Оказия? – удивился Афанасий.
– Точно, оказия.
– А для чего?
– Надобно передать знак одним людям.
– Куда?
– На немецкий гостевой двор.
– Что за знак?
– Так, весточка. Она должна прийти. Иначе там будет большое беспокойство.
– Хорошо, оставь. Завтра будет оказия.
Учитель вынул из-за пазухи небольшой, хорошо упакованный пакет.
– Вот, Афанасий Федорович.
Как только Симеон вышел, Афанасий закрыл дверь и стал тщательно вскрывать пакет. Шаг за шагом, чтобы, не дай бог, не изменить внешний вид. Дипломат был хорошо тренирован в таких делах.
В пакете лежала всего-навсего редкого вида пуговица от камзола.
«Проклятые латиняне», – выругался про себя Нагой.
Через некоторое время он через мальчишку на побегушках вызвал к себе Симеона. Афанасий был уже изрядно пьян.
– Слушай, доктор, ты что думаешь, я тебе не доверяю?
– Береженого Бог бережет, Афанасий Федорович, – коротко ответил учитель и ушел, не желая продолжать разговор.
Но Нагой догнал Симеона у дверей его комнаты и сам зашел к нему.
– Я ничего от тебя не скрываю, доктор. Борис призван на царство. Патриарх с народом его уговорили. За мной, того гляди, здесь скоро жесткий досмотр установят. И надо скорей подлинного Дмитрия перепрятать, подальше услать. Место ему поменять. И образовывать царевича пора. Нужно деньги передать на его учение.
* * *
В конце апреля на берегах Оки собралась огромная рать. Число ее простиралось до пятисот тысяч. Такой большой армии Русия еще не собирала ни разу. И такого порядка и четкости в русских войсках еще никто никогда не видел. И усердие среди воевод и воинов было несказанное. Все города старались показать свою надежность и верность новому правителю.
И воеводы, и бояре, и дворяне, да и простые посадские люди помнили, чьим любимцем был и на каких примерах воспитан ясно солнышко Борис Федорович.
А кроме страха, людей веселила надежда на светлость нового царствования и радовала долговременная, проверенная опытом мудрость правителя.
К Годунову доставили двух пленников-беглецов – цесарского и литовского. Они вдруг показали, что хан уже в поле и действительно идет на Москву. Возникла перспектива тяжелейшего сражения.
Годунов с Мстиславским устроили проверку и счет войскам.
Смоленск выставил тысячу двести хорошо вооруженных конных воинов. Каждый был при кольчуге, копье, луке со стрелами.
Новгород выставил и того больше.
Были ратные люди из Ярославля, Рязани, Ростова, Грязовца, из сибирских городов.
Были и казанские войска с черемисами[4]. Были и татары вместе с мордвинами. И все верхами. И все по-особому вооружены.
Были и иностранцы: немцы, поляки, греки, латиняне. Их было до трех тысяч профессиональных солдат. Это была самая надежная часть войска. Они сражались уверенно и просто, как машина.
После них хороши были стрельцы-пищальщики и аркебузники. Они резко отличались от всего войска своими внешним видом – яркими зелеными и желтыми кафтанами – и довольно суровой дисциплиной. Это было еще не европейское, но уже и не азиатское профессиональное войско.
Но основную, самую многочисленную часть войска составляли даточные люди. Те, которых дали патриарх, митрополиты и прочие священнослужители. Те, кого прислали из сельских местностей, от монастырей, от землевладельцев, от посадских людей – одного всадника с определенного количества земли.
Это была самая большая часть войска и самая бесполезная. От аркебузных выстрелов лошади шарахались, сминая в основном своих. В атаку они шли по очереди.
Профессиональным завоевателям татарам разогнать, разрезать на части и погнать их в ужасе в любую сторону ничего не стоило.
Поэтому позади этого войска в двух мес-тах срочно возводились гуляй-города. С дощатой защитой от стрел, с пушками на постаментах, с ослами в середине для быстрого передвижения в нужную сторону.
К большому разочарованию окраинной горячей молодежи, слух о великом нашествии Казым-Гирея, да еще с турецкими полками, не подтвердился. К концу первой недели уже совершенно точно выяснилось, что приехало большое посольство во главе с мурзой Алеем просить дары и жаловаться на казаков. Уж больно сильно стали казаки прижимать крымцев.
Толстые мурзы с большим количеством слуг, удобств и шатров, с большой охраной никак не ожидали такого великого военного приема.
Когда цели и задачи крымцев стали понятными, Годунов решил извлечь как можно больше пользы из сложившейся ситуации.
Он решил показать крымцам всю мощь и силу русской армии.
Ночью вокруг посольского татарского стана завелась такая пальба из пушек, что ушам было больно.
Татары хоть и возили с собой в свои походы стенобитные машины, хоть и сами обзаводились уже пушками и катапультами, стреляющими горящими бомбами, но в силу кочевого образа жизни к пушкам все-таки не привыкли. А тут пушек было больше тысячи.
Послы от этих залпов вскакивали ночью и в ужасе метались по полотняным стенам своих шатров.
А когда их торжественно повезли навстречу Годунову, ехать им пришлось в середине семикилометрового тоннеля, состоящего из стрельцов с пищалями.
Если стрела на излете еще могла убить человека метров за триста, то для пищали это был далеко не предел. Она еще при этом пробивала кольчугу и кожаный панцирь. Пищалей татары не любили.
Годунов принял послов ласково.
На лугах Оки стоял белоснежно-белый огромный шатер, расшитый золотом. Добрая сотня бояр в золотых и парчовых одеждах окружала его. Несколько шатров поменьше расположились рядом.
Самые сановитые бояре находились внутри шатра. Они окружали постамент, на котором стоял золотой походный трон.
Борис сидел на троне во всем царском великолепии. Рядом с ним у трона стоял его сын Федор.
Послов заставили к Годунову ползти.
Он же поднял их с земли.
Выступал один Борис, бояре вокруг помалкивали.
Годунов сказал, что он вышел из Москвы с таким великим войском, потому что недруги сообщили о большом походе Орды.
Его речь переводили два переводчика. Один с татарской, другой с русской стороны.
– Мало того, – сказал Годунов, – недруги царя крымского в последнее время усиленно подбивают нас идти воевать Крым, ставить там города на перешейке.
Послам такое движение недругов явно не понравилось. Они запереглядывались, зацокали языками.
Годунов поспешил успокоить их:
– Мы не следуем этим советам. Мы считаем, что царь и хан должны быть в дружбе и союзе, а не проливать кровь друг друга. И купцы татарские должны быть в Русии желанными гостями.
Дальше Годунов объяснил послам, что он давно уже почитает Казым-Гирея своим братом и не понимает, какие злые силы заставляют крымцев воевать царские укра́ины.
На это мурза Алей ответил, что Казым-Гирей тоже изо всех сил почитает царя русского другом и братом. И никак не может понять, почему казаки делают набеги на крымцев и на владения турского султана.
Начались выяснения взаимных обид и претензий.
Мурзы не столько беспокоились об установления каких-то правил дальнейшей жизни, сколько волновались о подарках и казне. Видно было, что чем больше даров они привезут, тем более удачным будет считаться их посольство.
Исходя из этого Годунов и вел переговоры. Деньги в эти годы в казне были немалые, а порядка в стране еще не было. Выгоднее было откупиться от хана.
Но мысль построить города на перешейке ему крепко запала в голову.
Чем он хуже Грозного? Грозный воевал Казань. Годунов будет воевать Крым. Если не он, то уж Федор сделает это обязательно.
В Москву Годунов и все войско явились с таким шиком, с такой радостью, как будто они вернулись с Куликовской битвы.
Точно так же встретила их и Москва. Патриарх, все духовенство, все жители Москвы кланялись до земли, кричали: «Слава!», «Спасибо тебе за подвиг бессмертный!», «Господь радуется вместе с тобой!» – и благословляли Годунова.
Все дома по главным улицам были украшены зеленью и цветами. Все главные улицы были чисто подметены.
– Ну что, Семен Никитич, – ехидно спросил Годунов родственника, – теперь ты понял, для чего нужна Орда?
* * *
Никто не ожидал смерти Афанасия Нагого. Казалось, он будет жить вечно. Вечно будет сам гнать лошадей, сам пороть провинившуюся челядь, сам с нею пить водку после экзекуции.
Так нет…
Случилось…
Утром прихватило сердце. Лекаря никакого в округе не было. Пока за ним послали в город, пока из города приехали, все было кончено. А ведь казалось, все шло так хорошо. Был Великий пост, и целых два дня перед этим Нагой вовсе не пил.
Когда начался последний приступ, а это случилось днем в столовой комнате, Копнин поднял хозяина на руки и с трудом донес до кровати. Афанасию было плохо. Много говорить он не мог, да и не пытался – все главное давно уже было оговорено.
Послали за пишалинским священником. Послали за становым.
К половине дня все уже кончилось…
В эти часы Дмитрий и Симеон были в Грязовце. Симеон ожидал какой-то почты, Дмитрий интересовался часами и вообще любыми механизмами и оружием из Европы. (Афанасий Нагой не отказывал ему ни в чем. Наверное, весь доход от его земель уходил на воспитание и обучение мальчика.)
В Грязовце они дружили с несколькими домами. И главным образом со священником большого Никитского храма.
Это он сказал им, что что-то случилось у них в имении. А ему доложил об этом мальчик-прихожанин из дома городского воеводы.
В городе каждый следил за каждым.
Юноша и Симеон прыгнули в коляску, и Жук погнал в Пишалину.
– Слушай, – сказал Симеон, – я у села сойду. Если Афанасий умирает – это одно. Если за ним прислали стрельцов – это другое. Если его заберут, значит, заберут и меня. Если меня заберут, то убьют. Дай мне все деньги, что у тебя есть.
Дмитрий отдал ему кошелек с золотыми.
– Если все в порядке, – сказал Симеон, – растопи печь в моей комнате. Дрова возьми подымнее.
Все оказалось в порядке. Афанасий Нагой умер. В доме стоял плач. Пахло ладаном или миррой. Священник успокаивал женщин. Все уже были в черном.
Дмитрий бросился к Афанасию в комнату. Его не пустили. Там уже был становой пристав.
– Стой! Нельзя! – сказали ему.
– Мне проститься, – сказал юноша.
– Нельзя!
– Но это же мой отец!
Его уверенная манера, хорошая одежда и спокойная доброжелательность впечатляли. Вежливому, не барствующему юноше из аристократической семьи очень хотелось пойти навстречу.
Становой боролся с собой. Явно, что он имел иные указания. Явно, что он прибыл сюда не случайно и что его послали очень высокие люди. Очевидно, все бумаги Нагого будут опечатаны и отправлены в Москву. И по ним в Москве уже будут предприняты какие-то важные, может быть даже с кровавыми последствиями, действия. И все же становой уступил.
– Хорошо, проходи. Только ничего не трогай.
Подросток вошел в комнату. Подошел и царственно поцеловал Афанасия в холодный лоб.
Воспитатели добились своего, он осчастливливал собою окружающих. Потом он перекрестился и пошел к рабочему столу Афанасия.
– Что-либо трогать запрет! – насторожился становой.
– Это Евангелие, – ответил юноша, беря толстую кожаную книгу со стола. – Я буду молиться.
Дьяк не рискнул отобрать у юноши религиозное писание, и Дмитрий свободно вышел из комнаты.
Скоро печь была растоплена. И скоро появился наставник.
Увидев драгоценный крест в руках у юноши, он вытер испарину со лба.
Крест этот, обнаруженный становым, мог бы принести большое количество неприятностей.
Все бумаги Афанасия, все письма без разбора были уложены становым в плоский деревянный ящик и опечатаны.
Бумаги поехали в Москву.
Живого Афанасия трогать не смели. Но мертвый он уже был не страшен.
* * *
Когда городские приставы сняли арест с дома, Афанасия Нагого переодели во все белое, потому что иначе не хоронили, и перенесли в пишалинскую церковь.
Много народа пришло проститься с хозяином.
Кто-то из любопытства. Кто-то и в самом деле из жалости.
Для крестьян Афанасий был неплохим хозяином. Основной доход его шел не с полей и леса, не с труда закрепленных крестьян, а с царской службы и привходящих дел. От него порой зависели не только важные назначения за рубеж и внутри страны, но и целость головы на плечах. А такая зависимость – золотая вещь.
Что-то ждало крепостных теперь? То ли имение заберут в казну, то ли приедут опальные родственники и будут выжимать из земли и леса все до нитки. То ли все будет как раньше.
Афанасия отпели. Многочисленные дворовые жены, в том числе мать Дмитрия, плакали с большим усердием и умением:
– Тебе ли было оставлять белый свет?
– Не имел ли ты богатства, и чести, и семьи любезной?
– Не жаловал ли тебя царь-государь?
Церковный колокол звенел над лесами и водой.
Нарядно одетого Нагого опустили в холодную, сырую землю. На могиле поставили красивую мраморную плиту – красную в золотую искру.
И все.
Грандиозный замысел по смене власти в стране будут осуществлять другие. Афанасий Нагой даже не узнает о его результатах.
Сразу после похорон Копнин позвал Симеона и Дмитрия.
Разговор с ними он вел в своей комнате. Это была рабочая комната – дубль хозяйской. С той лишь разницей, что в ней все было проще и кондовее и стояла большая деревянная кровать.
– Вот что, уважаемые мои, – сказал Юрий. – Вам здесь оставаться нельзя. Да и мне, пожалуй, тоже. Как только арестованные бумаги в Москве прочтут, сюда сразу стрельцов направят с каким-нибудь прощелыгой из пыточного приказа. Вы понимаете. Вам надо идти в столицу под крыло к Бельскому Богдану, Щелкалову Василию, к Романовым. К Мстиславскому, наконец. Так считал хозяин. Но мой вам совет другой.
– Какой? – спросил Дмитрий.
– Идти в Литву. В Москве Годунов набирает силу с каждым днем, и вас быстро сдадут ему. То ли чтоб соперника удавить, то ли просто из-за подлизовости. В Литве вы нужнее. Там и русских опальных много, и сами поляки спят и видят, как на Русию выйти.
Копнин молчал, желая понять, насколько серьезно его собеседники относятся к его наказам. Когда он увидел, что его слушают с огромным вниманием и уважением, он продолжил:
– В Литве, барич, ты можешь и забыть о своем царском деле и жить спокойно, как все аристократы живут.
– Нет уж, – твердо сказал Дмитрий.
Копнин и Симеон с удивлением посмотрели на него. Юноша явно набирал.
– Мой долг быть на троне. Это мое царство.
Копнин и Симеон переглянулись.
– Много я видел разных долгов, – сказал Копнин. – Жаль, что часто они плахой кончались, а то и дыбой. Ну да ладно, Бог тебе судья. – Он перекрестился. – А я вот лично, по своему почину, приготовил вам вот что.
Он вытащил из шкафа и бросил на лавку две черные добротные монашеские рясы, две пары крепких сапог и вручил Симеону большой кошель с деньгами.
– Ну и кто мы такие в этом наряде? – спросил царевич.
– Монахи. Идете собирать пожертвования для Грязовецкого монастыря. А то и в святой путь к Ерусалиму. Это уж как вам удобнее. У меня на тот и другой рассказ бумаги есть.
– Спасибо, Юрий Иванович, – растроганно сказал учитель. – Для начала мы все-таки пойдем в Польшу. А потом уже на Москву. Мне польский вариант больше нравится.
– А мне московский, – сказал Дмитрий.
– Это уж вы сами решайте. Хозяина над вами нет. Только уходите быстрее.
– Сегодня же уйдем, – сказал Симеон. – Пусть только Жук довезет нас до Грязовца и чуть дальше. Чтоб в этом маскараде нам здесь внимание людей не привлекать.
– Он отвезет вас далеко за Грязовец. И вот что: если вы решите идти на Москву, то вам сначала надо зайти в другое место.
– Куда это? – удивился Дмитрий.