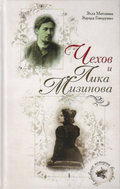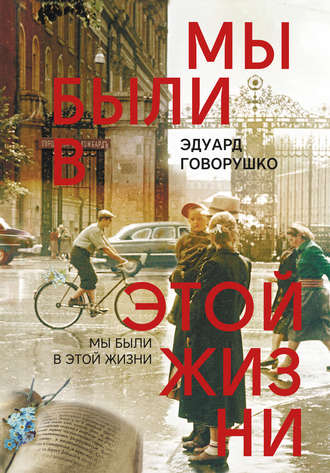
Эдуард Говорушко
Мы были в этой жизни
* * *
При школе была лошадь, при лошади – телега и сани, использовавшиеся для доставки из райцентра разного рода инвентаря и других нужных грузов. Управлял лошадью и заведовал школьным хозяйством Иван Кравченко, давний знакомый отца, одно время воевавший с ним в партизанах. Добродушный, чаще всего улыбающийся мужичок, роста ниже среднего. У него было трое детей, и все девочки. Может быть, поэтому он нежно и уважительно относился к нам, директорским мальчикам. Бывало, отправляясь в недальний и необременительный рейс, всегда заезжал и спрашивал – не хочется ли и нам прокатиться? Мы его тоже любили и очень завидовали начальнику лошади, в которой души не чаяли, умели её запрягать и управлять. Как-то отец нас расспрашивал, кем мы хотели бы стать в будущем. Я, к тому времени уже писавший заметки в районную газету «Коммунар», ответил – журналистом; Гена, неплохо играющий на баяне, сказал – музыкантом. Когда очередь дошла до девятилетнего Жорика, он мечтательно проговорил:
– А я хочу стать Кравченком!
Вместе с Кравченко отец ездил в райцентр за зарплатой для учителей. Но как-то зимой в сильный февральский мороз завхоз выдавал одну из дочерей замуж, и отцу пришлось за зарплатой ехать одному. Уехал он во второй половине дня, потому что до полудня лошадь требовалась для каких-то свадебных нужд.
Отправив отца в Рогачёв, напялив на него, кроме пальто, ещё и длинный тулуп, за которым сходила на деревню всё к тому дяде Якову, мать спустя несколько часов почему-то заволновалась: то вязать сядет, то в доме убираться начнёт – и всё на часы смотрит. Словом, ни места, ни дела себе не находила. А потом сказала: боюсь, с ним что-то случилось. Ехать до Рогачёва от силы час, деньги там уже приготовлены, ну час на обед в столовой, час назад… Уже должен бы вернуться. Побежала на почту, позвонила в районо… Деньги отец получил три часа назад… Что-то случилось, не находила она покоя, что-то случилось. Несколько раз порывалась пойти ему навстречу, но боялась разминуться…
В десятом часу раздался скрип шагов на крыльце, потом звякнула щеколда, но не так нетерпеливо, как нажимал её отец. Мать бросилась в сени, зажгла свет. И мы услышали её тревожный вопль и его голос: успокойся, дескать, я же здесь. Потом они вошли. Лицо у отца было окровавлено, руки тоже в крови.
– Выскочили из лесу, остановили лошадь, мне – по морде, забрали портфель с деньгами – и в лес!
– Сволочи, сволочи, – причитала мать, осторожно протирая лицо отца тампоном, смоченным в одеколоне – хорошо ещё, что живым отпустили. А с людьми рассчитаемся, дом продадим, корову, но рассчитаемся. Ты успокойся, не рвись, не трепи сердце…
И лишь спустя пятнадцать минут он сказал, что пошутил. Произошло по-другому, – тоже, впрочем, опасно. Уже на выезде из леса, километрах в четырёх от дома, лошадь от чего-то шарахнулась, понесла, сани опрокинулись в придорожную канаву, отец вывалился и, держась за сани, проволочился по промёрзшей дороге метров двадцать, расцарапав лицо, руки, разбив колени.
– А портфель? – обречённо спросила мать. – Потерялся?
– Портфель, как знал, привязал к саням и закрыл сеном… А где носится взбесившийся конь – не знаю. На хоздворе уже был, нет…
– Никуда не денется твой конь, – придёт в себя и прибежит к сараю! Молодец, что портфель привязал. Пойду его ждать, а ты попей чайку и посиди дома.
Отец не стал пить чай, и они пошли вместе. Прошёл лёгкий снежок, и они увидели, что лошадь уже побывала на школьном дворе. От него следы вели к дому Кравченко; они пошли к нему и скоро услышали скрип полозьев: Кравченко ехал назад.
Портфель с деньгами оказался на месте в целости и сохранности… Открыли школу, деньги оставили в сейфе, а потом с Кравченко пришли к нам. Обсуждение этого происшествия длилось не один час. Мать ничего плохого в сомнительной отцовской шутке не усмотрела – то ли привыкла к его манере шутить, то ли обрадовалась счастливому концу. Тем не менее взяла с отца слово, что больше никогда за зарплатой один не поедет. Кравченко советовал повторить шутку в школе: тогда узнаешь, мол, кто есть кто. Отец отказался, и на следующий день и без того услышал много сочувствующих ахов и вздохов в учительской.
А Жорик таки стал Кравченко. Каждую свободную минуту проводил на хозяйственном дворе, а когда впридачу к лошади в школе появилась и грузовая машина, научился ею управлять. Закончил автомеханический техникум и большую часть жизни водил пассажирские автобусы в Жлобине, где с помощью отца построил свой дом.
* * *
Родители никогда не выбирали, а тем более – не навязывали нам друзей. Дескать, тот грубиян, тот лентяй, а вот этот – замечательный мальчик, хорошо бы тебе с ним подружиться. Выпускали нас на улицу; впрочем, для деревни эта фраза звучит некорректно. Улица вот тут же, за домом, разрешения пойти на улицу мы никогда не спрашивали: сделал уроки, помог, если надо, по хозяйству, и ты – вольный казак. Всё зависело от нас самих, с кем дружить и как строить отношения со сверстниками. Бывало, процесс этот заканчивался дракой, кто-то из нас возвращался домой с разбитым носом или синяком под глазом. Мать охала-ахала, но никогда ни сама она, ни отец не ходили разбираться ни с обидчиком, ни с его родителями. Смотри, дескать, сам, как быть дальше с ним…
Но, как и каждому мальчишке, мне хотелось найти своё место в иерархии деревенских мальчишек, хотелось добиться уважения не только среди «хорошистов» и отличников, но и среди сорванцов, которые на самом деле в ней заправляли. Было у меня два варианта: научиться драться или освоить навыки дипломатии. Был я из того самого робкого десятка, поэтому драться не умел и учиться не хотел. Интуитивно пришёл ко второму варианту.: отчаянных забияк и закоренелых двоечников вежливо сторонился, другим, более мне интересным и авторитетным, старался быть чем-нибудь полезным и на этой основе – подружиться. И мне это удавалось. И тогда, и в более поздние времена.
В школе было проще. Там сразу сложилось несколько групп по интересам и увлечениям. В двух я был достаточно заметным: среди книгочеев и среди знатоков математики. В моём классе было по крайней мере четверо любителей чтения, в параллельном – тоже. Если к кому-то из нас каким-то путём попадала любопытная книга, из нашего круга она уходила только прочитанная всеми. Если её нужно было быстро вернуть, манкировали уроками, читали ночами – при свете керосиновой лампы или электрического фонарика под одеялом. Так много и безмятежно, как в школьные годы в деревне, я не читал никогда.
Однажды на уроке «Сталинской Конституции» в седьмом классе учительница застигла меня за чтением фривольного «Декамерона» Джованни Боккаччо: подпольный томик мне дали лишь на день. Книгу учительница, к моему ужасу, отобрала, а после урока повела в кабинет директора:
– Вот, полюбуйтесь, Лука Романович, что читает ваш сын на уроке «Сталинской Конституции»!
Дело было в 1953 году, Сталин был жив! Только теперь осознаю, что выплыви эта история из стен школы, у отца могли быть серьёзные неприятности. Родители тогда за детей отвечали.
Но отца в школе любили, и доносов он не боялся. Взяв «Декамерон» из рук учительницы, положил в ящик письменного стола.
– Хорошо, что вы это заметили, Валентина Михайловна! Спасибо вам! А с тобой дома поговорим! – он сказал мне это таким тоном, что учительница сочла нужным за меня вступиться:
– Вообще-то материал он знает на пятёрку. А читать под партой больше не будет, правда ведь?
Надо ли говорить, что отца из школы я ждал с чувством глубокого отчаяния. Ладно, книгу не дочитал, но ведь вечером её надо возвратить. Не знаю, читал ли отец «Декамерон», но книгу он принёс домой и сразу же отдал мне.
– Возьми, можешь дочитать. Книги для того и издаются, чтобы их читали. Но учти, если ещё раз мне скажут, что на уроке читаешь постороннюю литературу – мало не покажется.
А потом сказал маме:
– Не загружай его ничем! – и ко мне: – Книгу-то, небось, утром отдать надо?
– Через три часа Валерик Парахневич заберёт, ему на ночь дали!
* * *
Подростком, а затем и юношей я был очень невезучим в играх. Кое-как ещё справлялся в игре в «матки» (очень упрощённая разновидность американского бейсбола) и в городки. А вот в хоккее, в который азартно бились на скованной льдом реке самодельными клюшками и шайбами, на самодельных коньках, прикрученных к валенкам верёвками, и в футболе – поначалу из-за отсутствия настоящего мяча играли любым – резиновым, волейбольным, а то и тряпичным – был просто провальным. Перепробовали меня и в качестве защитника, и в качестве нападающего, был я и вратарём. Тоже никудышным. Кто-то дал мне и кличку подходящую – «Беда», больно бившую по самолюбию. А я очень старался, так как отличная учёба в школе славы среди деревенских мальчишек не приносила, скорее даже наоборот. А значит, и друзей среди моих сверстников, деревенских «авторитетов», не было, и девчонки смотрели как бы сквозь меня, из-за чего, помнится, очень переживал. Но чем больше старался отличиться с мячом или шайбой, тем хуже у меня получалось.
Было двое ребят, двое друзей в Поболово, которым я очень завидовал: мой сосед, четвёртый или пятый ребенок плодовитого сапожника Алексея по кличке Кривой – Ваня Толкачёв, классом старше меня, и Федя Иванов, сын переселенцев с Украины, классом моложе. Оба переростки, второгодники. И оба классно играли в футбол, их даже взяли в команду совхоза, сразу запасными, а потом ввели и в основной состав. Очень я им завидовал! Не столько мастерству, сколько тому, что к нему прилагалось – поездкам в район на соревнования, умению весомо разговаривать, по-взрослому курить и держать пивную кружку, подчёркнуто независимой и снисходительной манере вести себя с девушками, с которыми, казалось, у них всё было или, по крайней мере, могло быть сегодня же вечером. Более того, Иван, поговаривали, всерьёз ухаживал за школьной пионервожатой, присланной к нам из района. Хотя я был готов пожертвовать всеми своими пятёрками, чтобы стать с ними запанибрата, подружиться мне с этими хлопцами не удавалось, несмотря на то, что Иван был моим соседом. Как ни странно, помог мне тот самый день рождения, после которого мама отпаивала меня рассолом.
Пить меня учил дядя Яков. Помню, месяцем раньше попал к нему на первач. Он поставил на стол бутылку ещё теплёнькой самогонки и сковороду с только что поджаренным мясом. Налил полный гранёный стакан себе и – к моему ужасу – мне.
– Да я умру, если выпью, – возразил я. – Ещё никогда водки не пил.
– Не памрэш. Гляди, як гэта робицца!
Он выпил стакан самогона, как воду, не поморщившись, и перевернул его. Честно говоря, я действительно подумал, что там вода.
– Не веришь – попробуй сам!
Я только понюхал. Тогда он налил из бутылки в ложку и поднёс спичку: жидкость загорелась спокойным синим пламенем.
– Боишься? Не надо. Но запомни: стакан – норма для взрослого. Никогда не пей рюмками – превысишь норму и не заметишь. Налей стакан – и сразу потом переверни. И всё на этом. А коли нет – потихоньку отхлёбывай с каждым тостом. И закусывай, желательно салом. Стакан – и никогда пьяным не будешь!
Эту науку я и вспомнил в день семнадцатилетия Ивана. Всем расставили пятидесятиграммовые стопочки, я же себе попросил стакан и, произнеся тост, под изумлёнными взглядами совхозных футболистов осушил без остановки в надежде, что не поморщился. Самогон мне показался слабоватым. Я понюхал кусочек чёрного, необыкновенно ароматного хлеба и победно огляделся. Вот вам и директорский сынок! Вот вам и Беда!
Все захлопали, а я потянулся за салом. В этот вечер я был необычайно раскован, весел и остроумен. Даже пионервожатая, сидевшая рядом с виновником торжества, как мне показалось, бросила на меня оценивающий взгляд.
Всё было бы замечательно, но в эйфории совсем забыл завет дяди: только стакан. Когда гости стали расходиться, не выдержал и «на посошок» выпил ещё рюмку. И пошёл провожать через речку троюродного брата, прибывшего на побывку из воинской части. А на обратном пути и упал в горячий снег…
Когда мама меня выходила с помощью рассола, пошёл навестить именинника. В сенях как полоумные визжали двое подсвинков: в сильные морозы их подселяли поближе к теплу.
– Что с вашими поросятами, тётя Катя? – спросил я мать Ивана.
– Да друг твой вчера напился как свинья и выблевал в корыто, а они сожрали. Вот и распевают!
Мой друг лежал в постели полумёртвый с мокрым полотенцем на лбу. Увидев меня – а я старался держаться как гвоздь, – завистливо пробормотал:
– Я вчера перебрал, а ты, вижу, молоток, хоть и стаканами пьёшь. Мы с Федей завтра едем в Рогачёв получать мячи и форму для команды – надо к сезону готовиться. Поедешь с нами?
* * *
Следующим летом я играл в футбол с совхозной командой. Правда, только на тренировках, да и то недолго. Вместе с командой ездил и на соревнования в кузове совхозного автомобиля, правда, лишь в качестве особо приближённого болельщика. Но и этот статус возвысил меня в собственных глазах. В десятом классе выяснилось, что у Ивана с пионервожатой роман не сложился, и она положила глаз на меня. Признаюсь, если бы не поступил в университет и вернулся в деревню, вполне мог бы жениться. Она снимала квартиру в доме бабки Михалины, а та была мастерицей сводить молодых да ранних.
На пионервожатой женился мой друг Федя. Свадьбе мог помешать военкомат, но Федя колол дрова и «невзначай» отрубил себе мизинец и безымянный пальцы на левой руке. Призывника Иванова комиссовали, пионервожатая же, конечно, не могла устоять против этого подвига во имя любви.
Оба моих друга ушли из жизни довольно рано. Ваня Толкачеёв остался на сверхсрочную, рано женился, закончил какую-то военную школу, стал лейтенантом, а потом запил. Жена ушла, он умер на почве алкоголизма.
Федя Иванов на десятом году счастливой супружеской жизни разбился на мотоцикле. Целый день копал с женой картошку, таскал и грузил тяжёлые мешки. На скорости стало плохо с сердцем, и он врезался в дерево.
С детства у меня осталось убеждение, что дружество – одна из самых больших Божьих благодатей для человека, а умение дружить – одно из лучших качеств. Всегда старался сойтись с симпатичным мне человеком, понять его, открыться самому. Всегда был рад оказаться под руками, когда такому человеку нужна была помощь. И судьба не обделила меня друзьями. Расставшись со школьными, приобрёл новых в университете и на работе. Не знаю, удастся ли мне продолжить эти воспоминания, поэтому очень хочется назвать по именам тех, которые мне дороги до сих пор. Одни, как говорится, уже далече – мои однокурсники, доктора наук Магомед-Гаджи Назиров и Анатолий Исаев, талантливейший журналист Миша Малчун, преданнейший в дружбе Виктор Юдкин. Другие здравствуют, и мы всегда и во всём стараемся поддержать друг друга, хотя судьба и разбросала нас по разным странам и континентам: мои давнишние друзья живут сейчас в Израиле, в Германии, в США, не говоря уже о Риге и Москве.
Долголетнюю дружбу считаю высокой наградой, которую судьба может даровать человеку. А стаж нашей дружбы (это тоже работа) в большинстве случаев превышает три-четыре десятка лет. С Юрием Глаголевым – правда он теперь Юрий Голан – два года назад мы отметили 50-летие нашей дружбы.
В – Риге же у меня ещё и целый коллектив молодых друзей, тёплыми отношениями с которыми на склоне лет горжусь и дорожу не меньше: редакция газеты «Суббота», моё последнее и очень дорогое мне рабочее место.
* * *
В середине 1950-х к нам заявился высокий рыжеволосый детина и с порога бросился обнимать отца, хлопал его по спине и даже неловко поцеловал. Мама, выглянув из кухни, засуетилась и, не поздоровавшись с гостем, бросилась накрывать на стол.
– Это знаете кто, дети? – сказала нам, наблюдавшим за этой сценой, мама. – Давид Аркадьевич Раймер! Он спас вашего отца от расстрела!
– Что от расстрела – не факт, – возразил гость. – А вот если бы не Лука Романович, куковал бы я ещё десять лет в Сибири. Это уж точно факт! А так вот уже как три года сам себе хозяин.
Переводчика после войны арестовал КГБ, и получил он пятнадцать лет лагерей за сотрудничество с оккупантами. Из Краслага его вызволил отец, собрав целый ряд свидетельств о том, что Раймер был партизанским агентом у немцев, а кроме того, спас немало жизней.
В Краслаге, кстати сказать, провёл около десяти лет мой двоюродный брат, Ефим Максимович Говорушко. До войны учительствовал в средней школе городского посёлка Смолевичи, под Минском. Преподавал белорусский язык и литературу, писал рассказы на белорусской мове. Арестовали 9 декабря 1936 года, взяв прямо с урока, и в октябре 1937 года обвинили в том, что якобы состоял в контрреволюционной национал-фашистской организации, а также в антисоветской агитации. Дали шесть лет исправительно-трудовых лагерей. Отбыв срок, он жил на поселении там же, в Сибири. Помню адрес: Красноярский край, станция Решеты, деревня Поканаевка. К нему в Сибирь уехали его братья Иван и Владимир, так что где-то в Сибири есть наши родственники. В пятьдесят пятом Ефима Говорушко реабилитировали, – слава Богу, живым. Говорят, нет худа без добра, это тот самый случай: лагеря спасли его от гибели на войне. Вернулся в Смолевичи с женой-сибирячкой и двумя сыновьями. Один из них, Валентин – врач-реаниматолог в Смолевичской больнице, пытался возвратить к жизни первого секретаря ЦК КП Белоруссии Машерова, героя партизанской войны, очень популярного в народе человека, попавшего в загадочную аварию недалеко от Смолевич. Помню, были слухи, что аварию подстроил КГБ – Машеров будто бы мог стать опасным соперником Генсеку.
* * *
Как я понимаю теперь, отец довольно длительное время и сам жил под угрозой ареста. Побывав недавно в белорусском историческом архиве, из учётной карточки отца узнал, что после войны он написал заявление в Бюро райкома партии. Коммунист Лука Романович Говорушко просил официально подтвердить, что в 1942–1943 гг., выздоравливая в деревне после побега из плена, он, бывший армейский политрук, был связным партизанского отряда.
Дело в том, что тогда в Рогачёвском райкоме и других партийно-советских структурах работали ещё бывшие партизаны, знавшие его в это время. И решение о таком подтверждении было принято. Зачем же отцу оно понадобилось?
Чтобы, как говорится, спать спокойно. Он не мог не знать, хотя бы от своего ссыльного племянника Ефима Говорушко, сколько бывших военнопленных с подобной биографией томились в сибирских лагерях. В школе, конечно, не подавал вида, был деловым и общительным, хотя часто и озабоченным в ожидании намечавшихся проверок из РОНО… Но дома расслаблялся, если так можно назвать желание не скрывать своего настроения. Чаще всего помню его молчаливым, редко улыбающимся, напряжённым. И, несмотря на индульгенцию от Бюро райкома партии, нервно вздрагивал, услышав поздний стук в дверь. Как-то объяснил: в украинских лесах ещё, мол, скрываются бандеровцы и бывшие полицаи, их там гоняют, так они перебегают к нам… В этих обстоятельствах ходатайство об освобождении Давида Раймера для самого отца, как я понимаю теперь, действительно было делом рискованным.
Между прочим, в Поболово жили несколько семей репрессированных, обвинённых в тридцатых годах чуть ли не в шпионаже в пользу Польши. Все пропали бесследно. Отец по просьбе родственников составлял письма в областное отделение КГБ, чтобы узнать о судьбе исчезнувших людей. В конце концов именно к нему в начале шестидесятых годов приехал представитель этой могущественной организации и на доверительной основе не только сообщил нужные сведения для передачи родственникам, но и имя доносчика, жителя соседней деревни Лиски. Имя это, однако, запретил обнародовать, якобы для того, чтобы не нанести вред детям этого человека, которого к тому времени уже не было в живых.
Отец, рассказывая мне об этом, не скрывал удовлетворения от доверия такого рода со стороны органов. Не исключено, решил, что вот теперь-то может спать спокойно…
В первое послевоенное десятилетие, а то и позже, беззаботным и счастливым отца я практически не помню. Разве только когда в доме появлялись гости, он, будто бы «по должности» хозяина, становился радушным и весёлым.
* * *
С наступлением тёплых июньских дней и летних каникул мы с Геной переселялись на сеновал, объясняя родителям, что там лучше спится. Было очень удобно: по вечерам «гуляли» ухажёрами допоздна, а рано утром вставали на работу в колхоз, разбуженные звуком тугих молочных струй в подойное ведро где-то около пяти часов: мама доила корову.
Кстати, работать летом в совхозе или колхозе родители приучали нас с девяти-десяти лет: нечего, дескать, «лынды бить». Что означала эта присказка, я и сейчас не знаю, но звучала вдохновляюще. Традиционным занятием для мальчишек этого возраста стало сколачивание ящиков в совхозном яблоневом саду. Изготовить их надо было множество – урожай яблок в те времена был необычайным. Платили от выработки, несколько копеек за ящик. Позже нужно было снимать яблоки специальным шестом, съёмом, аккуратно, чтобы не повредить плод. Многие ходили и в ночное. В колхоз ходили с 12–13 лет: на лошадях бороновали картошку, потом окучивали. Гоняли и лошадей в ночное, проводя романтические часы у костра. С началом уборки зерновых трудились на соломокопнителе комбайнов. Таким образом зарабатывали себе на школьные обновы и учебники, а главное, обучались разным сельским ремеслам.
* * *
В девятом классе я был заместителем секретаря комсомольской организации школы. (Комсомол, если кто не знает, – Коммунистический Союз Молодёжи, в этот союз лучших помощников партии принято было вступать каждому успевающему ученику с 14 лет.) По должности обязан был присутствовать на выпускном вечере в десятом классе, и очень хотел там присутствовать из-за романтических отношений с пионервожатой: очень ревновал её к прежнему поклоннику – Ване Толкачёву, который тоже собирался на вечер.
Возвратившись вечером с работы, я стал наглаживать рубашку и светлые брюки, потом взялся чистить туфли. И тут подошла мама:
– Сынок, да у тебя же совсем глаза закрываются. Зачем тебе этот вечер?
– Да я обязан там быть! Вам отец не говорил?
Лет в четырнадцать по какому-то поводу я нагрубил матери, почти доведя её до слёз. С тех пор отец приказал нам говорить родителям «вы».
– Да как же, говорил! Но и сама прекрасно знаю, что без тебя обойдутся – там будет секретарь!
Я молча продолжал начищать ботинки. Не мог же сказать ей правду.
– Тогда вот что: ложись-ка ты на часок соснуть, а я тебя разбужу в полдевятого – закончится торжественная часть, и как раз к столу подоспеешь.
Никакого подвоха я не ощутил, может, потому что действительно хотел спать: пришёл от пионервожатой под утро, перед работой поспал только часа полтора, глаза действительно слипались.
– Форму парадную свою возьми на сеновал, как бы Гена вместе с аккордеоном не прихватил твою рубашку – он играет сегодня на танцах.
Проснулся я сам со странным ощущением какой-то потери. Зажёг фонарик и взглянул на часы: ужас, одиннадцать часов! Веселье в школе в полном разгаре, если вообще не закончилось. Бросился одеваться и… застыл в оторопи: ни рубашки, ни брюк, ни ботинок на месте не оказалось, не было даже рабочей одежды. Сразу же догадался, что ворота сарая будут закрыты на замок снаружи. Так оно и оказалось.
– Мать испугалась, что ты опять напьёшься, – сказал мне наутро отец. – А пассия твоя ни с кем не танцевала, всё тебя высматривала.
– Не расстраивайся, сынок, ещё нагуляешься, – поддержала его мама. – Зато я спокойно спала эту ночь.
– Только о себе и думаешь, – буркнул я обиженно, что было совсем несправедливо – мама всегда меня дожидалась, если я присутствовал на мероприятиях с выпивкой. Я никому и никогда не рассказывал об этой истории, а пионервожатой наврал, будто сам проспал из-за бессонных ночей.
Между прочим, мне не удалось поучаствовать ни на своём выпускном в школе, ни на университетском. Перед школьным торжеством появилась страшная резь в глазах, и Викентий Андреевич отправил меня в Бобруйскую больницу, поставив диагноз «трахома». Меня положили в соответствующую палату вечером перед выходным, а когда в понедельник пришёл глазной доктор, то быстро выгнал меня из заразной палаты – был весенний катар. Но школьное торжество уже закончилось.
Приехав в деревню за неделю до выпускного на факультете, я решил поплавать с маской в родной речке. И сильно порезал ногу острым осколком разбитой бутылки, причём стекло осталось в ране. В Москву приехал через две недели с палочкой. Диплом получал в деканате.
Мама, конечно же, была в обоих случаях ни при чём. Но особо и не огорчалась: кончилось-то всё хорошо, в пьянках сын не участвовал.
За свою жизнь я напивался лишь четыре раза, включая и случай в деревне. Но узнавал об этом лишь наутро, просыпаясь в своей постели с сильнейшей головной болью и столь же искренним раскаянием.
* * *
Серебряную медаль за среднюю школу я счёл за пропуск в лучший ВУЗ страны и замахнулся – ни больше ни меньше – на МГУ. Конечно же, хотел податься на факультет журналистики, так как три года сотрудничал в районке, редакция могла мне дать соответствующие рекомендации. Но в качестве профилирующего предмета серебряным медалистам нужно было сдавать экзамен по русскому языку и литературе, письменно и устно. Честно говоря, испугался, понял, что гораздо увереннее чувствовал бы себя на экзамене по математике. В конце концов выбрал географический.
Отец поехал со мной в Москву, мы остановились на Плющихе, где жила в коммуналке тётя Клава, вдова Фёдора Шинкевича, сына деда Андрея, с которым отец когда-то уехал в Подмосковье на заработки. Я её хорошо знал: каждое лето она приезжала к деду, привозила «на откорм» сына Юру, с которым мы подружились. Тётя Клава была замечательной портнихой и за лето одевала всех детей в деревне в вельветовые «толстовки» и шорты, зарабатывая, чтобы прожить нелёгкую зиму в Москве.
Это было летом 1956-го. Новое здание МГУ было открыто три года назад и произвело на меня, деревенского парня, совершенно неизгладимое впечатление: высота, колонны, громадные вестибюли, Музей землеведения, несколько библиотечных залов, магазины, две громадные студенческие столовые… На столах – бесплатный хлеб, салат из свежей капусты, а годом позже давали и по полтарелки бесплатного супа, правда, без мяса. Везде запах свежей стройки, в роскошных туалетах с невиданными белоснежными унитазами – дивный аромат импортных отдушек. Я уже не говорю о дворцах-общежитиях, которые нам удалось посмотреть. Тем не менее уже сейчас вспоминаю, что этот дворец науки я тогда воспринял без особого восхищения: Москва есть Москва, а какой ещё университет может быть в таком потрясающем городе? А может, ещё и потому, что я был озабочен реализацией своей мечты – учиться именно здесь, а потому ни о чём другом не задумывался.
Мне и в голову не приходило, что этот небоскрёб построен в столице страны, ещё совсем недавно пережившей самую ужасную и разорительную войну, потерявшей миллионы жизней. Как это удалось сделать спустя лишь восемь лет после Победы? Задумался я об этом много позже, будучи уже зрелым человеком, с гордостью вспомнившим об учёбе в самом престижном вузе страны. Знаю, что у наших записных критиканов всего советского есть давно готовый ответ на этот вопрос: Сталин, дескать, использовал дармовой рабский труд пленных немцев и заключённых, строил дворцы и отстраивал города за счёт бедствующих деревень… И всё же, всё же, всё же, как сказал поэт. Нужны были ещё высокопрофессиональные архитекторы, инженеры, металлические конструкции и другие новые строительные материалы, производство которых нужно было создавать заново, новые технологии, да и ещё много чего.
Другое дело – поддерживать этот дворец в идеальном состоянии на протяжении многих лет, своевременно, как в авиации, проводить так называемые регламентные работы на почти новых самолётах, которые в профилактическом ремонте вроде бы и не нуждаются. Четверть века спустя я привёз поступать на геофак МГУ свою дочь Юлию. Снаружи здание выглядело как новенькое, внутри же всё обшарпано, давно просили обновления интерьеры аудиторий и мебель. Такое же грустное впечатление было и от некогда комфортных блоков в общежитии, – лучше бы и не заглядывал сюда.
При первом же моём свидании с МГУ мне никак не верилось, что этот великолепный дворец науки каким-то образом может совместиться со мной, стеснительным деревенским тётюхой, краснеющим при обращении к нему с любым вопросом.
Отец же, вроде бы немало повидавший, в том числе и не раз бывавший в Москве, восхищённо цокал и качал головой, а под конец первого экскурсионного дня сказал с нескрываемым сомнением в голосе:
– Дай же Бог нашему телёнку да волка съесть!
Подразумевалось, конечно, что телёнок – это я, а в какой-то мере и он сам, волк же – невероятная удача для меня в виде поступления в Московский государственный университет.
Предъявив вместо паспорта справку – паспорта выпускникам сельских школ выдавали лишь при зачислении в вуз, чтобы не сбегали из деревни, – мы благополучно сдали документы в приёмную комиссию. Отец, помню, стоял в стороне, требуя от меня самостоятельности. А ещё помню, как умиляли членов приёмной комиссии имя-отчество абитуриента – Эдуард, видите ли, Лукич, да ещё и Говорушко, а также твёрдое белорусское «р» – «бяры дыравую трапку».
И это доброе умиление вселяло надежду в нас обоих.
* * *
Меня поселили в общежитие в Новых Черёмушках. Отец уехал в деревню, вручив мне пятьсот дореформенных рублей. Ещё тысячу дал тёте Клаве и наказал выдавать мне их по частям по мере расходования моих денег, чтобы осталось на обратную дорогу.
А через два дня на три дня тётя Клава уехала к родственникам в Белоомут, посчитав, что пятисот рублей мне хватит по меньшей мере на неделю.
Но какое вкусное было в Москве мороженое! На каждом углу – пломбир, эскимо, что-то невероятное в хрустящих вафельных кулёчках, только что изготовленное в ГУМе и ЦУМе.
Я мороженое впервые попробовал в 16 лет. Его привезли из Рогачёва на кирмаш (церковная ярмарка) в Петров день. Вкуснотища необыкновенная, но московское мороженое – это нечто! Словом, в день – а в Москве тем летом стояла необыкновенная жара – я съедал по полтора килограмма холодной вкуснятины, и мои пятьсот рублей исчезли в три дня, остались лишь крохи на метро и трамвай. А моя дражайшая тётя не появилась ни через три дня, ни через неделю. Каждый вечер я приезжал на Плющиху голодный, и соседи по коммуналке этого не могли не заметить. В канун письменного по математике они предложили мне тарелку ароматнейшего грибного супа и краюху хлеба. С благодарностью я ушёл с ним в комнату, и только поднёс ложку ко рту, как вспомнил, что москвичи, по дошедшим до меня слухам, грибов не знают. А это значит, что супом можно запросто отравиться и пропустить экзамен. И надо будет побитой собакой возвращаться в деревню на радость местным недоброжелателям, которые давно наслышаны о моих наполеоновских планах. Нет уж, извините!