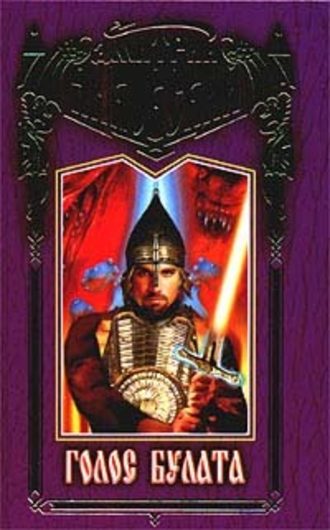
Дмитрий Янковский
Голос булата
Часть первая
1.
Ветер холодный, колючий, выдувал из души последнее тепло, царапал поднятым с дороги снегом темнеющую синеву над лесом. Звезды блестящими льдинками прокалывали небеса, смотрели безмолвно, уныло на одинокого путника, хрустящего драными лаптями по крепко схваченному насту.
Микулка замерзал. Спать хотелось до одури, хоть палки в глаза вставляй, сил идти почти не осталось, да и желания особого не было. И смысла. Забрел в Богами забытую глушь, все искал, выведывал… И чего? Сам сказать не может! Счастья… Где ж оно счастье-то? Волкам теперь будет счастье. Хотя волчье счастье – в пузе сыть, а какая нынче с него сыть? Кости одни.
Лес кругом кривоватый, редкий, торчит старыми корнями да сухостоем. Когда луна взойдет, будет видать шагов на полста не меньше, а пока камень кинь, не увидишь где в снег влипнет. Густая тьма металась вспомнившимся страхом, клацала звериными клыками, завывала жутким хохотом разбойника-ветра. Привязавшийся от заболоченного лимана упырь упорно шел следом, хотя сильно отстал прошлым днем, схоронясь в сыром овраге с первыми лучами солнца. Но теперь может легко догнать, если не почует кого поближе, потому как нежить устали не знает и холода не боится. Все чаще северный ветер приносил с собой голодный упыриный рев, кровь от него леденела в жилах и неодолимый страх вздымал непокрытые волосы на затылке. Микулка не любил, боялся ходить ночью, видывал под Киевом, что твари ночные с запоздалыми путниками делают… Но если до заката не нашел крова, надо идти дальше, иначе лютый холодный ветер вытянет жизнь быстрее, чем стосковавшийся по горячей крови упырь. Завывал, плакал северный ветер, даже если вплотную кто подойдет, не услышишь.
Микулка ухватил покрепче суковатый посох и ускорил шаг. И зачем? Лег бы в снежок, калачиком свернулся и спать. Мамку бы во сне увидел, Ветерка, Дружку… Никого не осталось. Один теперь на целом свете. Спать… А пока упырь добредет, я ему уже не нужен буду, он ведь только живое берет.
Но что-то толкало в спину, то ли ветер, то ли неутолимая жажда жить. Так и шел он по чуждому лесу Таврики, сонно трамбуя снег уставшими ногами. Может и нашел бы безвестную гибель, да филин гукнул прямо в ухо, Микулка чуть из портков не выпрыгнул.
– Чтоб тебя… Окаянный! – от души ругнулся Микулка.
Он взглядом проводил пернатого хозяина ночи, и глазам своим не поверил, разглядев на лесистом холме мерцающий огонек близкого жилья. Тут уж ноги сами понесли аки крылья! Воображение рисовало теплую постель, еду на столе… Микулка споткнулся об леденелый камень, ухнулся всем телом в снег, еще и подбородком к посоху приложился.
– Лешак тебя понеси! – отплевываясь от снега буркнул Микулка.
– И чего ты лаешься, как басурман? – спросил из темноты насмешливый старческий голос.
Микулка сел и обалдело огляделся. Вроде нет никого… Тьфу ты, напасть!
– Эй… Ты кто? И не прячься! Или боишься меня?
– Кхе… Кхе… – непонятно откуда прозвучал то ли смех, то ли кашель. – Как такого не испугаться! Витязь… С булавой, в доспехах. Токмо дыру на заднице не заштопал. Видать, чтоб со страху портки не замарать.
– Делать мне нечего, бояться тут всякого! – огрызнулся Микулка. – Я в пути столько повидал, что и лешака увижу – не испугаюсь.
– А может я и есть лешак?
– Да ну?
– Поверил? Дурья твоя башка! Вставай, в избу пойдем. Сколько можно задом снег растапливать?
Микулка поднялся, опираясь на посох и еле разглядел в лохматой сосновой тени что-то живое, низкорослое и подвижное.
"Точно лешак. Да и пес с ним! Лишь бы накормил да пригрел" – подумал Микулка, поднимаясь на пригорок к избушке вслед за хозяином.
Изба была большой, чистой внутри, а главное теплой. Настолько теплой, что хотелось купаться в этом тепле, пить его и раствориться в нем без остатку. Пахло смолистыми сосновыми бревнами, печным угаром и недавней едой. Вот только руки болели отогреваясь, да пальцы ног. У Микулки даже слезы на глазах выступили.
Хозяин выглядел жутковато. Маленький высохший старичок, нос крючком, лицо словно темная кожа дубленная, пальцы как корявые сучки. Таким себе Микулка лешака и представлял, вот только лешак шерстью поросший, мхом да грибами, а этот лысый почти. И глаза живые, насмешливые.
– Раздевайся! – буркнул хозяин, подкинув пару поленьев в пылающий зев печи, – Небось мокрый весь!
– Ну уж нет! Не буду я тут срамом своим сверкать! – Микулка дышал на онемевшие пальцы, чтоб хоть немного унять боль.
– Скидавай портки, кому говорю! Не то выгоню на мороз! Лучше там загинешь, чем тут медленно с застуды кровавой мочой изойдешь.
Микулка неохотно скинул драный тулуп, рубаху, портки… Старик подошел к неопрятной куче тряпья, поддел ее кочергой и закинул в жаркое пламя. Мокрая ткань зашипела зло и противно, отбрасывая потный смрад через трубу в ночное небо.
Хозяин порылся в сундуке, кряхтя и ругаясь вытянул на свет божий портки и рубаху, разложил на лавке возле печи.
– Одевайся в сухое. – уже мягче сказал он. – Ты чай не девка, чтоб я на твою наготу засматривался. По всему видать, ты и от еды не откажешься?
Микулка торопливо натянул рубаху, запрыгал на одной ноге, одевая портки.
– А что, хорошая еда? – хитро прищурился он.
– Кхе… Он еще харчами перебирает! Ночевать тебе на морозе…
– Да ладно Вам шутки шутить! А кушать и впрямь охота… Три дня не жра… без еды тоесть. Живот к спине прилипает, а кишки меж собой как Чернобог с Белобогом.
– Ты говори, да не заговаривайся! – серьезно одернул парня старик. – Еще молоко на губах не обсохло, а о древних Богах молвишь как о девках гульных. У тебя меж глазами и языком нет равновесия. Глаза видели мало, а язык молотит как помело. Не в ту сторону перекос! Поживи на свете, изменишься. Глаза повидают, язык приостановят. Кто много говорит, тот мало делает. А кто собрался делать, тому и говорить ни к чему.
Микулка примолк, оправдываться не стал. Знал, что и впрямь виноват, но прощения просить не стал, чего перед каждым встречным стариком кланяться…
– А ты из каких краев будешь? – сменил тему хозяин. – И как звать тебя?
– Микулкой кличут. Я с севера. Издалека. Мамку печенеги в плен угнали, сами знаете, для бабы это похуже смерти. А я не сберег ее. Слаб оказался. Как саблей плашмя меж ушей получил, так до заката и не поднимался. Дружку, собаку нашу, какой-то нелюдь конем затоптал. Так у меня на руках и померла. А перед смертью все руки мне лизала… Утром схоронил ее и ушел из деревни.
– Что ж так? Неужто в деревне никого не осталось?
– Остались… Да только мне там места нет.
– Странно. Это что же ты за человек такой, ежели тебе среди людей места нету?
– А Вы дедушка? Тоже ведь не в Киеве живете.
– Мал ты еще меня с собой сравнивать. Почему не остался среди своих?
– Ну… История больно длинная.
– Да я вроде не тороплюсь.
– Да как не торопиться, если каша в горшке остывает! – в притворном возмущении воскликнул Микулка.
– Эх, старый я дурень. Сам сыт, а про тебя и забыл, что ты три дня не емши.
Старик покряхтывая достал с печи горшок с ароматной кашей, поставил на стол, развернул белоснежную холстину с краюхой хлеба. Микулка устроился на крепкой сосновой лавке, пожирая глазами угощение. Каши в горшке было ОЧЕНЬ много. Вот только…
– Так у тебя и ложки своей нет? – словно прочел Микулкины мысли хозяин. – Экий ты недотепа! На вот, возьми мою. Только я с тобой одну ложку лизать не намерен. Завтра по утру вырежешь мне новую, баклуши липовые у меня есть.
Микулка отвечать не стал, и так все ясно, схватил ложку и принялся за кашу. Глотал жадно, аж бугры по спине гуляли, хрустел румяной корочкой. Да и каша была чудесная, видать в стряпне старик толк знал, сдобрил еду неведомой травкой. И тут Микулка почувствовал сильную дурноту, ком застрял в горле, а кровь отлила от головы и обожгла пузо.
– Эх… Дурень я дурень! – сокрушенно воскликнул старик.
Но Микулка его уже не слышал, он медленно валился на лавку, утягивая за собой холстину с хлебом.
* * *
Влажная тряпица приятно студила лоб, истекая быстро теплеющими струйками ключевой воды. Микулка с трудом разомкнул веки и внутренне дернулся, встретившись с горящими в полутьме совиными глазищами.
– Сгинь, нечисть! – сухими губами прошептал он, но сил подняться никак не хватало.
– Экий ты мастак ругаться! – раздался знакомый, насмешливый, с мягкой хрипотцой голос. – Одной ногой в сырой земле, а лаешься как басурман заморский.
Старик снял с Микулкиного лба потеплевшую тряпицу, помотал ею над лицом и вновь уложил на лоб, уже остуженную.
– Что со мной? – еле слышно шепнул мальчик. – Неужто отраву съел…
– Я те дам, отраву! Ишь в каком лихе меня обвинил! Кхе… И поделом мне, дурню старому, коль позволил тебе кашей пузо набивать после голодовки трехдневной. Тебя бы хлебушком с водицей разговеть… А так кишки и не сдюжили. Ничего, не помрешь! – успокоил старик.
– А филин Ваш?
– Филин птица вольная, он сам по себе. Просто со мной ему сподручнее, а мне с ним. Вот и живем вместе, по доброму согласию. Я его не тревожу, он мне не вредит. Кабы все так жили…
Старик отошел к печи, погремел горшками, поднес Микулке прямо ко рту лубяной ковш с парным отваром.
– Пей.
– А это что?
– Обжегся на молоке, теперь и на воду дуешь. – улыбнулся старик. – Пей, говорю! С горной травы отвар. В ваших краях такой и не сыщешь, а тут растет. Большущей живительной силы эта трава! Олени раненые ее поедом гложут, даже волк ест, коль припечет. А уж нам, людям, ни к чему не привыкать!
Микулка хлебнул терпкого отвару, внутри разлилось приятное тепло. А когда луна за окном перевалилась за верхушку горы, спал жар, губы повлажнели и Микулка попробовал подняться с лавки.
– Ты сильно не храбрись. – посоветовал старик. – Слаб еще. Перелазь на печь, и отлежись до солнца. А вот если по нужде, так ступай, нечего новы портки поганить.
– Какая нужда на голодное брюхо? – искренне удивился Микулка, с трудом перелезая на печь.
Что за сладкое чувство, лежать вот так на боку, слушать как за окном студеный ветер плюется снежными хлопьями. Хорошо! Тепло и приятно. Только ветер подвывает в трубе, да филин щелкает клювом, выискивая что-то в перьях. Или кого-то.
– Так ты и не сказал, отчего тебе среди своих места нету. – нарушил тишину старик.
– А вежливый человек второй раз не спросит, коль сразу не ответили.
– Соплив ты еще больно, вежливости меня учить. Не я у тебя в гостях. Может ты вор какой, а то и вообще душегуб-головник.
– Какой из меня вор!
– Так отчего тогда с деревни ушел?
– А оттого, что байстрюк я! – неожиданно сорвался на слезу Микулка. – И незнамо чей сын.
– А мамка что говорит? Она-то батьку твого должна бы знать. Ну хоть видеть. Если не во хмелю была. Да ты на хмельного дитятю не больно похож. Разве что худоват.
– А она все одно твердит… – махнул рукой паренек. – Герой, говорит, твой батька. Герой, каких свет не видывал. От муж ее за это бивал… Ну бивал… Пока сам дубу не врезал, спьяну в колодезь ухнулся. Рыбам на смех.
И остались мы вчетвером. Я ведь младший сын, у мамки от мужа еще двое. Старшие братья меня стали при всех геройским сынком кликать, так и вся деревня переняла.
– А кто ж твою мамку за язык-то тянул? Мало ли чего в жизни станется… Любовь такая штука. А тут еще и герой, коль не врет. Ну и скрыла бы от людей, что дите не от мужа.
– Да как тут скрыть! Волосы у меня вон какие! – шмыгнул носом Микулка.
– Волосы как волосы. Разве что грязные.
– Рыжие! – пояснил паренек. – А у нас в роду у всех русые. И у мамки, и у мужа ее, и у деда.
– Кхе… Вот уж незадача. – невольно улыбнулся старик. – Так значит мамка тебе про отца ничего не рассказывала?
– Наоборот, все уши прожужжала. Говорит, что был он то ли князем, то ли витязем великим. Но то что герой, так это точно.
– Так уж и князем? Ну хватил! Небось, когда с ним встречалась, ей не до происхождения было.
– Вот так и братья, и в деревне все смеются. Не верит никто. А по чести сказать, я и сам не верю. Где же видано, чтобы княжий сын в угарной землянке полбу глотал?
– Мало ты видывал. Отец небось о тебе ничего и не знает. Если и правда, что князь, так он помер давно. Да и зачем ему байстрюк, если и жив?
– Ваша правда. Вот потому и ушел я. Мало что ли насмешек наслушался? А еще, как назло, силы в моих руках поменьше, чем у парней в деревне. То и смеются… Пойдем, говорят, на реку кулаками биться. А какой из меня боец? Нос в миг расшибут, ухи в лопухи расквасят, а ребра потом месяц болят. Ну, хлопцы и гогочут потом.
– А почему братья за мать не вступились, когда печенеги наехали?
– Так она нам кричала, что бы мы в лес схоронились. Братья умные, они и послушались. В лесу печенеги не воины, им Степь нужна. А меня видать не зря дураком прозвали. Кинулся на всадников, как шавка на вола. Вот то саблей и схлопотал. Хорошо плашмя.
– Точно дурак. – одобрительно кивнул старик. – Если бы все на Руси такими дураками были, так печенеги летели бы в свою Степь, свистели, да кувыркалися. Ан нет, все умные. По лесам хоронятся. Это печенеги в лесу не воины. А придут лесные стрелки с туманных островов? Куда хорониться от них? В Степь? Мягкая у русичей шея! Голова сама кланяется, чуть ли не от ветра. Закалить бы эту шею, как булат закаливают! Да где же такого кузнеца сыскать?
– А мне почем знать? – пожал плечами Микулка. – С меня воин, как с кобылы олень.
– Вот дуралей… – усмехнулся старик. – Спи, давай. А то от умных мыслей голова распухнет.
– А как Вас звать? – запоздало опомнился паренек.
– Заряном. Так и есть – дед Зарян. И спи. Тебе сил набраться надо.
– А Вы?
– Много будешь знать, скоро состаришься. – буркнул дед, задувая масляный светильник.
Микулка поворочался немного и сладко уснул, утомленное тело с трудом отдавало усталость. Было тихо, только во тьме щелкал клювом неугомонный филин, да ветер завывал над крышей.
2.
Проснулся Микулка рано, едва солнце позолотило верхушки деревьев. Деревенская жизнь приучила к раннему просыпу, работы много, тут уж каждый лучик божьего света надо использовать с пользой.
Слабости в теле как не бывало, видать подействовал дедов отвар. Микулка оглядел избу, медленно наполняющуюся светом, но филина в ней не было, а вот дед Зарян спал уронив голову на сосновый стол. Вспомнив дедов наказ сотворить к завтраку ложку, Микулка с неохотой соскользнул с теплой печи и ежась спросонья, пошлепал босыми ногами в сени.
В сенях, усыпанных высохшими листьями дубняка, валялось несколько пар видавших виды валенок, в углу сиротливыми щенками сбились в кучу лапти. В другом углу притаились вонявший псиной тулуп и короткий полушубок с опушкой, в самый раз для не злой южной зимы. Зимы в Таврике и впрямь не холодные, снега по несколько лет кряду не увидишь, а вот весна злая. Только проклюнутся молодые листки на деревьях, только появится первый цвет миндаля, как заметет, завоет вьюга, от мороза в горах водопады на лету замерзают. А ветер… Одно хорошо, что не на долго. Весна в свои права быстро вступает. Коль замело, через полтора десятка дней жди жары. Примета верная.
Микулка влез в тулуп, заскочил босыми ногами в валенки и скрипнув дверью выскочил на искрящийся утренний снег. Ну и красотища кругом! За спиной скалистые горы небо собой подпирают, кругом низкорослый лес из сосны и дубняка. А впереди бескрайнее Русское море. К морю Микулка и шел. Хотел найти ромеев таврических, уйти с ними за два моря. Что он от своей земли хорошего видел? Маяту да обиды, труд непосильный за чашку полбы. А за морем, говорят, солнце и тепло круглый год, птицы живут диковинные, никто не работает, кроме черных невольников. Кругом виноград растет, а вина хоть залейся… И девки там уступчивые да жаркие. Говорят, заморское солнце так на них действует. Что еще надо? А надоест все, так иди в корабельщики. В дальние страны торговать, а коль силы есть, так и воевать. Чем не жизнь?
А что русским быть? Стыдоба одна! Родился бы ромеем, кто бы стал байстрюком кликать? Микулка вздохнул и захрустел по насту к ближайшим кустам, справить малую нужду.
Вернувшись в сени он сыскал короб с инструментом, достал неказистый плотницкий нож, тут же подобрал пару баклуш, если одну испортит, и вышел из избы строгать ложку. Мороз отступал, погоняемый золотистыми кнутами Ярила, с крыши капала талая вода, пробивая в насте неопрятные дырки, через которые видна была молодая трава. Странное место Таврика! Где это видано, чтоб снег на зеленую траву падал?
Слева, в едва размытой дали между деревьями, серебрилось залитое светом море. Микулка столько воды отродясь не видывал, слышал только рассказы старших, но и те сами не видывали, довольствовались байками купцов и воинов. Да и рассказы то были о морях студеных, северных… А это теплое, своим светом глаз радует, наполнено движением и не броской, но напористой силой.
Море дышало спокойно, не шипело издали пенным прибоем, но голос свой подавало, сплетая его с голосом леса. Это пели свои утренние песни морянки, нежась на скалах в не злых, пока, лучах солнца. Микулка все силился их разглядеть, небось разнятся с днепровскими берегинями, но хоть и острый у него глаз, не углядел, мешала лохматая стена леса. Зато в прозрачной зыбкой дали, рассекали упругие волны два морских змея, играли, высовывали из воды длинные шеи. Зрелище было завораживающее, Микулка даже на цыпочки стал, чтоб разглядеть получше переливающуюся на солнце радужную шкуру гигантов. Змеи сплелись в необузданном, диком танце и скрылись в темных глубинах. Паренек почесал затылок и уселся за работу.
Первая ложка вышла на удивление ладной. Гладкий липовый черпачок, гнутая плоская ручка. Микулка не удержался и вырезал посреди ручки Родово колесо о шести спицах. Хорошо. Деду понравится. Ложка готова, а руки еще работы просят, никак не привыкли без дела быть. Паренек взял вторую баклушу, повертел в руках, примеряясь, и сделал первый надрез.
Покончив с работой, Микулка вернулся в избу и чуть не подавился слюной от веявшего из печи съестного духа. Дед Зарян вовсю хозяйничал у стола, ломая хлеб, расставляя чашки. Судя по запаху, в доме водилась не только каша, но и мясо, булькавшее в одном из горшков с ароматной юшкой.
– Ну что, путешественник, – улыбнулся дед Зарян, – небось очухался уже? Гляжу из окна, а он ложки строгает… Чай десяток настрогал, никак не меньше!
– Пару.
– Кхе… Пару. А я уж думал, поедем на рынок к ромеям торговать. – в глазах старика так и прыгали веселые искры.
– А далеко ромеи? – навострил уши Микулка.
– Недалече. Верстах в двадцати на закат Херсонес, там те самые ромеи и есть.
– А Вы их видали?
– Приходилось… А тебе что за интерес?
– Так я к ромеям и шел! Чего бы меня лешак через всю Русь погнал без цели?
– А… Так ты, значить, с целью… Понятно. Небось за море собрался? Оно и понятно, с грязной-то Руси.
– Ну да. Новую жизнь начну, я молодой, мне не поздно!
– Оно, конечно, верно. Одно жаль. Знал бы я о твоей великой цели, так не палил бы твое тряпье.
Микулкино сердце на миг замерло от нехорошего предчувствия.
– Так Вы же мне портки сами дали! – обижено надул губы паренек.
– Я отдал, я и заберу. Вон, Ярило как разыгрался, если бегом, так двадцать верст пролетят, не заметишь. Еще и упаришься. А там тебя ромеи оденут в белые покрова, они их туниками кличут. Они ведь тебя ждут не дождутся. Все смотрят на восход и думают, где же наш Микулка? Не замерз ли, сыт ли? Только о тебе и думают. Да ты им не нужнее, чем змеям обувка! У них своих ртов хватает.
– Врете Вы все, дед Зарян. – обиделся Микулка. – Ежели б я сам не слыхивал людей из-за моря, я бы по молодости поверил. Да только я не такой дурак. Вон Родомир собрал себе дружину и пешим ходом ушел на закат. Долго ли, коротко ль, а пришли они в земли немецкие, кто жив остался, конечно. Родомир слал гонцов в Киев, так они через нас шли, рассказывали про всех. Кто купцом стал, кто шлосарем, замочных мастерских хозяином, а сам Родомир главным дружинником при ихнем князе. Чем не жизнь! Это ведь не поле пахать, и не рыбу в Днепре ловить. Знай себе командуй, да деньгами карман набивай.
– А большая у Родомира была дружина?
– Сотню копий собрал, чай не маленькая.
– Не княжья, но с такой и не срамно за море сходить, правда. Один значит купцом стал, другой шлосарем, Родомир-предводитель, ясное дело устроился. А остальные?
– Ну… Откель мне знать. Часть наверное в лесах загинула. А остальные делают, что хотят.
– Кхе… Кхе… Ну да! Хочешь, я тебе скажу, чем остальные заняты? Кто камень ломит для замков, а кто в войске в первых рядах против железных рыцарей бьется. И уж не по доброй воле!
Микулка побледнел.
– Да что Вы меня стращаете! Всяк сам себе хозяин. Не может там быть хуже, чем у нас. Хуже просто некуда. Кривичи бьются с радимичами, те с вятичами, поляки жмут кривичей, печенеги всем житья не дают, с голодухи целые деревни мрут. Вам ли не знать!
– Ведаю… И больно мне. За Русь больно, за русичей. Да вот только скажу я тебе вот что, а там сам думай, как поступить. Чужак, он и за морем чужак. Где ты видал, что бы чужаки в чести были?
– Так то у нас…
– А ведь русичи добрее. Грубые, пьют крепко, бивают не только чужих, но и своим достается. Да. Но в трудный день всегда руку подадут соседу, детям малым лучший кусок. Коль беда, так они ВСЕМ МИРОМ борются. А немчура по щелям, каждый за себя.
Их клич – мой дом, моя крепость. Так и живут. А у нас? Да, в междоусобицах погрязли по уши, и неустроенность, и грязь… Но если общий ворог объявляется, то плечом к плечу стоим! Ни о животе своем, ни о золоте-серебре, ни о славе громкой никто не думает. Очертя мечом голову, бросаются русичи в бой с любой бедой. И не так, как немчура, где каждый у своего порога бьется, а всем миром, одной дружиной.
И будешь ты там всю жизнь чужаком, еще и дети твои будут чужаковыми. И будешь искать свое место, пытаться выдергивать у них. А ведь своя земля помогает! Эх… Молодые, зеленые. Вам ведь жить! Вы все ищете место получше, а надо свое место, свою землю обустроить, чтобы имя русичей гремело, чтобы НАМ немчура завидовала.
Где же еще такие богатства, как у нас? Погляди кругом! Рыбы в реках аки звезд в небесах, звери по лесу бродят, только на лапы друг дружке не наступают. Леса столько, что избы можно в сто поверхов гнать. Нам бы гордости прибавить, да и только. Что б ценили свою землю, свои имена, старикову мудрость чтоб уважали, да юношескую горячность не гасили.
Эх, был бы я киевским князем, собрал бы я на пир лучших купцов, лучших воинов, лучших музыкантов, да кощунников. Сказал бы перед ними речь горячую, чтобы донести до каждого сердца мысль свою. Чтобы славили они Русь великую каждый по своему, кто товаром отменным, кто храбрым сердцем, кто песней душевной, а кто красным словом.
Только князем мне не быть. Стар я уже. Детей не нажил, живу один. Думал, грешным делом, что Сварг послал мне тебя, чтобы смог я передать то, чему за долгие годы выучился, к чему трудными думами пришел. А ты за море. Так и помру один. Печенеги ко мне не раз приходили, научи, говорят, наших детей своим наукам. Сколько добра предлагали! Да только русич я… Русичу и передам, коль Сварг позволит. А нет, так и помру.
Что-то кольнуло у Микулки в груди. Стало жалко деда старого, ведь паренька застуженного и голодного спас дед Зарян от верной смерти. Так по божески ли сразу бросить? К ромеям завсегда успеть можно, молодость она длинная. А пока поживу тут, деда утешу. Одно лето проживу. Может дед к тому времени и помрет. А нет, так тогда и посмотрим.
– Простите, дед Зарян! – потупил глаза Микулка. – Я же говорил, что меня дураком обзывали. Дурак я и есть. Видно Чернобог мне душу крылом черным застлал. Я останусь. Чему хотите буду учиться. Хоть травами ведать, хоть по птицам гадать. Я же не басурман неблагодарный! Я… Я русич.
Глаза старика посветлели, мелькнул в них огонек надежды, может выйдет из парня толк.
– Ну садись, поешь, раз остался. – с нарочитой грубостью буркнул Зарян. – Только смотри не спеши. И много не ешь. Пару ложек каши, да с мяса отвар. Там грибы тертые, навар густой, сытный. Наешься.







