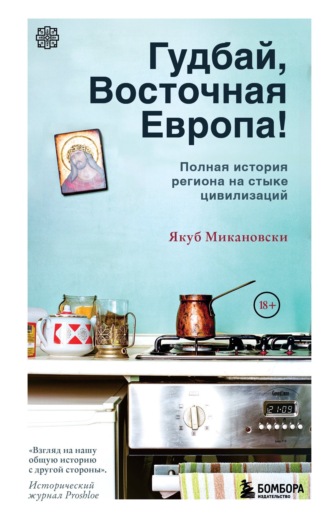
Якуб Микановски
Гудбай, Восточная Европа!
Часто upior пытались вернуться к той жизни, которую оставили позади. Они завидовали живым и стремились воссоединиться с ними. Иногда эти ожившие существа воспринимали свою новую жизнь как возможность получить оплачиваемую работу. В Косово один вампир, изгнанный из своей родной деревни, уехал в соседний город, где открыл магазин и успешно управлял им в течение многих лет, прежде чем был пойман и убит разъяренной толпой. Болгарский вампир из Никодина, которому на момент смерти было всего семь лет, уехал в чужой город, где стал очень способным учеником мясника. Болгарский вампир из Доспея, что в Самоковском районе, аналогичным образом покинул свой дом и устроился на работу в Стамбуле. Много лет спустя его вычислила жена. Она сообщила всем вокруг, что это существо совсем не то, за кого себя выдавало, а скорее оживший труп ее почившего супруга. Прислушавшись к ее словам, родственники подожгли его в сарае для сена.
Несчастные тени! Меня нетрудно растрогать историей о каменотесах и парнях из мясной лавки, которые, получив шанс на бессмертную жизнь, просто занялись примерно тем же самым, что делали всегда. Это напоминает мне историю, рассказанную польской ведьмой на суде. Дьявол предложил ей все, что она пожелает, и она попросила в качестве вознаграждения всего два часа в таверне Торуни – вот что значит ограниченный кругозор.
Какими бы трагикомичными ни казались эти истории, в них содержится зерно правды о сущностной природе восточноевропейских вампиров. В первую очередь они совсем не мертвецы-возвращенцы, чья миссия – охотиться на живых. Скорее, они мертвецы, которые забыли до конца умереть. Вместо того чтобы отправиться в подземный мир, они сделали все возможное, чтобы продолжать жить так, как жили раньше, спали со своими женами, играли со своими детьми, время от времени мстили тем, кто причинил им вред. Великая истерия 1730-х годов нарастила бесчисленные слои мифов и романтических фантазий вокруг фигуры вампира, скрывая его истинную природу. Чтобы увидеть, каким был вампир до того, как на сцену вышли Дракула, летучие мыши и гирлянды чеснока, мы должны обратиться к тому периоду, когда легенды только начали выкристаллизовываться.
В 1718 году в городе Стародубовня, на территории нынешней Словакии, похоронили поляка: виноторговца, мошенника и в некотором роде бабника. Его звали Михаэль Каспарек. Похороны прошли как обычно: Каспарека погребли на церковном дворе со всеми необходимыми церемониями, в гробу, покрытом красным шелком, над которым рыдали жена и брат, оставленный разбираться с кредиторами. Восемь дней спустя Каспарек вернулся. Ночью он явился своему слуге, потом начал регулярно затевать драки, кусаться, избивать и душить людей. Он столкнул продавца хмеля в реку Попрад. Он ворвался на соседскую свадьбу и потребовал, чтобы его накормили рыбой. Когда на свадьбе ему отказали в вине, он осушил бутылку, разбил все стаканы и ускакал на белом коне. Жители города не на шутку встревожились. Они подали жалобу мировому судье. Священник обратился за советом к епископу в Кракове, поскольку город принадлежал Венгрии, однако тамошние церкви были польскими, а большинство жителей – немцами… типичный восточноевропейский бардак.
Тем временем Каспарек все еще развлекался. Он переспал с собственной вдовой и оплодотворил ее. Повторил успех с четырьмя другими женщинами. Затем он исчез. Люди вздохнули с облегчением. Три недели спустя из-за границы пришли сообщения о том, что его видели в Варшаве, где он расплачивался с долгами и влезал в новые. Наконец, спустя месяцы епископ одобрил расследование и судебный процесс. Их было трудно организовать, поскольку Каспарек все еще де-факто был похоронен на церковном дворе. Поэтому они выкопали его, отрубили ему голову, а остальное сожгли. На всякий случай священник отлучил его от церкви.
А он снова вернулся. В Старой Любовне вспыхнул пожар. Руководство города допросило брата и вдову Каспарека. Они поклялись, что Михаэль не заключал договор с дьяволом и не обладал волшебным кольцом. Тем временем пожары не прекращались. Горожане предположили, что Каспарек мстит за свою посмертную казнь. Пошел слушок, будто кто-то слышал, как кто-то сказал: «Ты сжег меня, мне лучше сжечь тебя». Наконец, вдова сделала признание. Она, оказывается, знала, почему Каспарек продолжал возвращаться. Он сказал ей, что дьяволы не пустят его в ад, а Бог – на Небеса, потому что они сожгли не его сердце, а сердце другого человека. Разгадка найдена: в его трупе лежало сердце овцы. Настоящее сердце потом нашли под навозной кучей и торжественно сожгли в ратуше Стародубовни.
Несколько месяцев, проведенных Каспареком среди живых, стали настоящим кошмаром для маленького словацкого городка. И все же в покойничке было что-то неуемное и комичное. Казалось, в этом жуликоватом продавце вина просто слишком много жизненной силы, чтобы ее могла вместить могила. Даже смерть не отвратила его от лжи, мошенничества, интриг и беспорядочного секса. И то, что можно сказать о нем, можно сказать и о многих других. Мертвые не исчезают после смерти. Они продолжаются как в их собственном сознании, так и в нашем. Они возвращаются снова и снова: иногда завистливые, иногда обиженные, часто просто отчаянно нуждающиеся в человеческом тепле. Послание, которое они приносят в ответ, всегда, по сути, одно и то же: «Мы живы. Мы живем. Наши сердца горят».
2
Евреи

В 1912 году еврейский драматург и фольклорист Семен Ански отправился в экспедицию в заброшенные районы восточноевропейского еврейства. Его исследовательское путешествие было проложено по наименее посещаемым уголкам черты оседлости. Более столетия эта территория была единственной частью Российской империи, в которой разрешалось селиться евреям, здесь их проживало около пяти миллионов, что делало эту землю крупнейшей еврейской общиной в мире.
Во время своих путешествий он останавливался в каждой забытой деревне и торговом городке, собирая легенды и документируя местные обычаи. Он также интересовался еврейскими памятниками и историями, связанными с ними. В маленьком украинском городке Каминка он отправился посмотреть на могилу знаменитого раввина Шмуэля Каминкера, легендарного хасидского святого, который был известен в начале XIX века своей способностью изгонять одержимых призраков, или dybbukim. Сила Шмуэля сохранилась и после его смерти.
Говорили, что могила Шмуэля защищала Каминку от пожаров и наводнений. Когда кладбищенский сторож повел Ански посмотреть древнюю могилу Шмуэля и соскреб немного мха, покрывавшего табличку с именем, он, к своему удивлению, обнаружил, что на ней написано: «Моше, сын Моше». Они стояли вовсе не перед могилой Шмуэля, просто ее месторасположение неправильно запомнили.
Крик отчаяния пронесся по Каминке. Раввины, миряне, женщины и дети – все устремились на кладбище, чтобы увидеть скандальную находку. Их мир рухнул в одно мгновение. У них отняли Святого, который защищал их от опасности. Видя отчаяние людей, Ански деликатно пошел на попятную. Он рассказал горожанам, что ему доподлинно известно: надгробные плиты иногда перемещаются; кусок может отколоться от одной могилы, затем появиться на другой, и со временем таким образом может переместиться целая надпись. Поэтому вполне вероятно, что уважаемый рабби Шмуэль действительно был похоронен под могильной плитой «Моше, сына Моше». Горожане с большим рвением схватились за эту идею, поскольку она позволяла им сохранить то, что было для них самым дорогим: память о святом человеке и регулярное использование его чудотворных сил.
Девятьсот лет назад, по исчислению евреев, в Восточной Европе не было ни могил, ни призраков. Некоторые заезжие туристы также находили территорию почти безлюдной. Одним из первых еврейских путешественников, записавших свои впечатления о регионе, был арабоязычный купец из Каталонии Ибрахим ибн Якуб, посетивший Польшу и Богемию около 965 года. Он писал о том, как неделями странствовал по густым лесам и заболоченным землям, но нашел лишь несколько поселений – деревянные форты, окруженные частоколами из заостренных кольев. Единственным сколько-нибудь значимым городом, который ему встретился, была Прага. Купцы приезжали туда издалека, чтобы торговать оловом, мехом и, главное, рабами.
Евреям, выходцам из Средиземноморья и Западной Европы, где они прожили тысячелетие, нужен был способ вписать новую территорию в свою ментальную географию. Они начали с названия, помазав малонаселенные, в основном славянские, земли именем Ханаан, по библейскому названию Святой земли до прихода израильтян. На протяжении веков эти ранние еврейские поселенцы общались на так называемом кнаанике, или «языке Ханаана», в котором славянская лексика записывалась буквами еврейского алфавита. Однако к позднему Средневековью этот язык почти вымер, уступив место немецкому идишу новоприбывших из Ашкеназа (еврейское название земель, окружающих Рейн). Этот язык почти не оставил следов, за исключением надписей на монетах и глоссов в произведениях раввинской литературы.
Евреи-ашкеназы, изгнанные из Германии в результате массовых убийств и притеснений, сначала отправились в чешские земли Моравии и Богемии, затем медленно просочились в Венгрию, Польшу и Литву. Польша-Литва оказалась особенно благоприятной для еврейского расселения. После женитьбы языческого герцога Ягайло Литовского на христианской принцессе Ядвиге Польской в 1386 году эти две страны обрели единого правителя. Объединившись, они образовали огромное царство, включавшее территорию большей части сегодняшних Польши, Литвы и Беларуси, а также большую часть Украины и части Латвии. Это обширное государство было слаборазвитым и малонаселенным, зато толерантным, особенно в вопросах религии. В этой объединенной монархии (позже переименованной в Речь Посполитую) католики, протестанты и православные могли жить бок о бок. Мусульмане и евреи также были желанными гостями: первые служили конными солдатами, а вторые работали на богатых дворян, организуя торговые связи.
На своей новой родине евреи процветали. Численность ашкеназов в содружестве росла такими темпами, что современные демографы до сих пор не могут их объяснить. У самих евреев было объяснение успеха: так и было предопределено. Красивая история, которую часто пересказывают, повествует о евреях Ашкеназа и о том, как их долгие годы преследовали разные короли. Однажды, когда они уже отчаялись когда-либо найти для себя спокойный дом, с небес упала записка. В ней были слова: «Поезжайте в Польшу». Евреи отправились туда и были приняты со всеми почестями. Им дали золото, места для поселения, защиту от врагов. Они процветали и распространились по всей стране. Недалеко от Люблина они набрели на лес, где на каждом дереве был вырезан трактат Гемары, раввинских комментариев к еврейскому закону, – так они поняли, что евреи селились здесь и раньше. Увидев знаки, они поняли, почему эта земля называлась Полин – в переводе с иврита «поселиться здесь».
К 1600 году Польша, в значительной степени свободная от религиозных преследований, процветающая в торговле, приобрела репутацию Paradisus Judaeorum – «Рая для евреев». Польша-Литва послужила ковчегом, выйдя из которого евреи заселили большую часть остальной Восточной Европы. Большинство евреев, живших в России, на Украине, в Беларуси, Латвии, Румынии, на территории будущей Чехословакии и Венгрии в 1900 году, могли проследить свои корни до земель, которые когда-то находились под властью польской короны. Сегодня влияние этого нового государства-основателя еще сильнее и распространяется по всему земному шару. Около восьмидесяти процентов живущих сегодня евреев могут проследить свою родословную до Речи Посполитой.
Славянские «земли Ханаана» со временем стали колыбелью ашкеназов. Однако это не означает, что Восточная Европа служила домом только для них: Балканы приютили две другие группы евреев. Романиоты говорили на греческом диалекте, написанном еврейскими буквами и похожем на идиш, – еванике. Корни этих древних сообществ уходили во времена Римской империи. Группы романиотов, по сути, основали балканское еврейство, но в конце XV века их в значительной степени вытеснили пришельцы с Запада. Когда в 1492 году своих евреев изгнала Испания, многие из них нашли убежище в растущей Османской империи. Носители испанского языка, ладино, эти сефарды – от Сефарад, еврейского названия Испании – быстро стали доминирующей еврейской общиной на Южных Балканах. До XX века большинство евреев Болгарии, Македонии, Боснии и Сербии были сефардами. Румыния тем временем была ашкеназской на севере и сефардской на юге, объединяя две общины.
Присутствие как ашкеназских, так и сефардских евреев в Восточной Европе способствовало не только языковому разнообразию региона: подобно двум далеко разнесенным электродам, оно также создавало заряд, поток энергии, который оживлял религиозную жизнь обеих групп. Их взаимное влияние помогло превратить Восточную Европу в прекрасную арену для религиозных инноваций и творчества – особенно перед лицом кризиса. Важный пример относится к середине XVII века.
В 1648 году на евреев Речи Посполитой обрушилась катастрофа. Все началось со ссоры между двумя дворянами, поляком и украинцем. Поляк, влиятельная фигура, захватил дом украинца, украл его жену и избил его сына. Обиженный украинец по фамилии Хмельницкий бежал на восток, в казацкую крепость на бесплодных землях украинской степи, и успешно подстрекал к восстанию против короны. Восстание Хмельницкого было совершено во имя украинского народа и православной веры. Но если метил он в основном в католических правителей Польши, то на деле его жертвами по большому счету стали евреи. Евреи украинской части Польши-Литвы находились на виду благодаря своей роли в торговле на фоне преимущественно сельской экономики и в значительной степени были совершенно беззащитны, а потому подверглись всем мыслимым зверствам. Натан Ганновер, раввин с Волыни, который проповедовал на Украине во время восстания, озаглавил свои воспоминания «Пропасть отчаяния». Его хроника событий представляет собой каталог невообразимых ужасов: с жертв заживо сдирали кожу отрубали им конечности, детей насаживали на копья, кошек зашивали в животы беременных женщин, младенцев убивали прямо на коленях у матерей.
Люди, пережившие массовые убийства Богдана Хмельницкого, были уверены, что наступил конец света. Десятилетие спустя тут и там вплоть до Амстердама и Каира все еще объявлялись беженцы, все еще производился их выкуп. Тем временем на Польшу обрушивалось бедствие за бедствием: после опустошительных казацких набегов последовали нашествия шведов, татар, русских и даже трансильванцев. К 1660 году страна лежала в руинах.
Эти войны изгнали польских евреев из их домов и лишили средств к существованию. Они также подорвали их чувство безопасности; никогда больше они не будут считать себя избранным народом. По всему еврейскому миру потенциальные мессии начали привлекать внимание толп, ожидающих чуда, в частности, некий житель Измира из турецкой Анатолии, который называл себя Саббатай Цеви. Тысячи людей устремились к этому новому искупителю, содрогаясь от апокалиптического энтузиазма, охватившего как Восток, так и Запад. Это пылкое увлечение продолжалось до рокового 1666 года, когда Саббатай, поставленный перед выбором между обращением в ислам или превращением в мишень для стрел за свою веру, предпочел обратиться. Даже после отступничества Саббатая некоторые верующие в Польше и Литве продолжали верить в его божественную избранность.
Резня, устроенная Хмельницким, пошатнула что-то важное в мире польского и литовского еврейства. Этим людям потребовалась помощь на Небесах, заступничество кого-то, кто отстаивал бы их интересы перед божественным престолом. В Саббатае Цеви они увидели иноземного мессию, который мог бы освободить их; и когда план провалился, они обратились к более близким источникам покровительства.
Человек, который больше всех постарался извлечь выгоду из этих стремлений, вошел в пантеон славы под почетным именем Баал Шем Тов – самая важная фигура в истории восточноевропейского еврейства. Еще до смерти Баал Шем уже стал героем фольклора, мистическим великаном, героем сотен сказок. В течение жизни одного поколения эти истории заслонили собой всю правду об этом человеке.
У нас мало достоверной информации о юности Баал Шем Това. По-видимому, он родился около 1700 года в регионе Речи Посполитой – Подолье. Став частью Украины, она была настоящей пограничной территорией, расположенной на точном пересечении католического, восточно-православного и исламского миров. Менее чем поколением ранее Подолье отвоевали у Османской империи. Во времена Баал Шема земля все еще была опустошена войной. Ее леса кишели бандитами, медведями и случайно забредшими оборотнями; по дорогам Подолья (а они были в ужасном состоянии) перевозили скот из Молдавии и специи из Стамбула. Высоко в горах, в пещерах православные монахи практиковали экстатическую медитацию.
В некотором смысле Подолье напоминало Аппалачи и долину Миссисипи в Северной Америке, такую же пограничную территорию, которая заселялась примерно в то же время в XVIII веке. Оба места ранее находились вдали от посторонних глаз – благодатная почва для рождения легенд и небылиц. Дошедшие до нас истории о ранних деяниях Баал Шем Това напоминают сказки о Поле Баньяне и Дэви Крокетте. Он приручал диких медведей и сражался с оборотнями, по дружился с бандитами-неевреями, например с великим Олексом Довбушем, украинским аналогом Робин Гуда. Его карета могла преодолевать немыслимые расстояния, и говорили, что он мог выпить кувшин крепчайшей румынской сливовицы, не опьянев. Сколько других героев Торы могли бы похвастать такими способностями?
Как и Дэви Крокетт (и в отличие от Пола Баньяна), Баал Шем был реальным человеком. Историки располагают письмами, написанными его собственной рукой, известны подробности его частной жизни.
Обосновавшись около 1740 года в украинском городе Меджибож, он начал платить налоги, соответственно, его учли при переписи населения. Он работал на довольно скромных работах: в разные периоды своей жизни он был учителем начальной школы и кошерным мясником. Какое-то время он копал и продавал глину для изготовления керамики. Позже, пока он медитировал в лесу над тайными именами Бога, его жена держала таверну. Со временем он овладел искусством манипулирования словами и буквами для создания эффективных амулетов и оберегов в своего рода народной каббале, широко практиковавшейся в то время. Одно только имя героя Баал Шем Тов означает ни больше ни меньше чем «Мастер Доброго Имени»: не столько личное имя (родился он Исроэлем бен Элиэзером), сколько некое описание таланта. В Польше и Литве действовало много различных Баал Шемов. Некоторые из них были признанными раввинами, в то время как другие были путешественниками – время от времени они появлялись под видом фокусников и шарлатанов, продавали амулеты и распространяли лекарства.
В своем родном городе Меджибоже Баал Шем То в занимался тем же самым. Он был местным каббалистом, практическим мистиком, умел диагностировать болезни и находить их источник в непризнанных грехах. Большинство его чудес творились в реальном мире, где простых людей одолевали пустые кошельки, насморк и завистливые соседи. Он занимался делами владельцев гостиниц, прелюбодеев, дворян, священников и воров. Он возвращал украденных лошадей, лечил глазные болезни, составлял завещания, заключал договоры аренды и даже устраивал розыгрыши – иногда довольно жестокие. Он без особого труда раздавал советы направо и налево и хорошо разбирался в домашнем скоте.
То ли благодаря личной харизме, то ли эффективности своих решений Баал Шем Тов стоял особняком в ряду других мистиков из маленьких городков и многочисленных религиозных целителей, наводнивших польско-литовское приграничье. Он был не просто индивидуальным целителем или мистиком; он был тем, кому люди могли доверить донесение действительно важных требований до Отца на Небесах. Из его сохранившихся писем мы знаем, что он приписывал себе такие заслуги, как предотвращение нападения казаков и остановка распространения чумы, во многом таким же образом, как taltos Эржебет Тот хвасталась, что спасла треть Венгрии от землетрясения. Как и она, Баал Шем называл себя защитником всего своего народа. Он удовлетворил критическую потребность людей в посреднике, в ком-то, кто мог бы прорваться сквозь небесную бюрократию и обратиться с просьбой непосредственно к Богу. На самом деле это и есть его настоящая находка; Баал Шем заслуживает уважения как духовный изобретатель хасидизма. Баал Шем То в создал в своем лице образ tzaddik, праведного человека и учителя, который одновременно выступал для своих приверженцев прямым проводником в рай.
Умерший в 1760 году Баал Шем То в растворился в легендах. Передаваемые из уст в уста от ученика к ученику, эти рассказы содержали суть его наследия, своего рода демократизированного мистицизма. Одно из центральных учений хасидизма состояло в том, что человеку не нужно быть посвященным в тайны еврейской мысли, чтобы прикоснуться к божественным тайнам. Религиозный экстаз принадлежал каждому. Радость была таким же способом служения Богу, как и аскетизм. К Богу можно прийти через горячую молитву, но также и через танец, песню и празднование. Или через рассказывание интересных историй.
Рассказывание историй составляло неотъемлемую часть жизни хасидов. Хасидская сказка – выдающееся литературное достижение восточноевропейского иудаизма. Как литературная форма она бесконечно гибка. В ней можно найти остроту хорошо рассказанного анекдота или шутки, пафос короткого рассказа или тайну дзэнского коана. Некоторые из них приземлены до грубости; другие обладают самой утонченной духовностью. Как комплекс они представляют собой настоящий космос. Если какая-то всеобъемлющая драма и может оживить религиозную практику так это бесконечное стремление примирить человека и Бога. В еврейской мысли родились два основных способа подойти к этой задаче: один состоял в том, чтобы поднять нас ввысь, пока Небеса не окажутся в пределах нашей досягаемости. Другой состоял в том, чтобы схватить Небеса и тянуть их вниз, пока они не коснутся нас здесь, на земле.
Статус духовного лидера среди хасидов не передавался по наследству – по крайней мере, первоначально; его нужно было завоевать, привлечь последователей силой своего учения, чудодейственностью своей молитвы. Некоторые внушали доверие своей способностью предсказывать будущее. Другие предлагали юмор и теплоту, чтобы привлечь к себе учеников. Другие – и они вдохновляли на самую горячую преданность – бичевали своих последователей огненными словами.
Менахем Мендель из Коцка, позже известный как Коцкерский ребе, был одним из таких лидеров. Ядром его учения стало стремление к истине, которую можно было достигнуть путем безжалостного самоанализа, отказом от ложного благочестия. Это был трудный путь, в котором не наблюдалось особой радости, традиционно ассоциирующейся с хасидизмом. Его подход оказал магнетическое воздействие на хасидов со всей Польши. Даже признанные знатоки Торы покидали свои дома и учебные заведения, чтобы работать поближе к источнику света, но ребе Коцкер оказался скуп на любовь. Он насмехался над своими последователями, презирал их и сдирал кожу с их душ. За это они его и обожали.
Пыл Менахема Менделя был заразителен, и вскоре при его раввинском дворе начали витать мессианские настроения. В период упадка и духовной распущенности общества трудный путь, который он отстаивал, казался шагом вперед и обещанием дальнейших прорывов. Однако в одну-единственную ночь 1839 года все это рухнуло.
История падения Коцкерского ребе до сих пор полнится противоречивыми легендами. Нет двух одинаковых свидетельств, ни одно из них не исходит от очевидцев. Некоторые говорят, что он осквернил субботу на глазах у паствы, бросив непотребный вызов святому закону. Другие говорят, что он начал проповедовать доктрину настолько радикальную и настолько близкую к ереси, что его собственные верные последователи почувствовали, что пришло время замолчать. Другие утверждают, что причиной неприятностей стали шпионы конкурирующего прихода в Белце – они утверждали, что видели, как раввин раскуривал трубку в субботу во время посещения лечащего врача в Лемберге. Однако, что бы ни случилось, это явно глубоко повлияло на Менахема Менделя. После такого падения он заперся в комнате на верхнем этаже своего дома и сидел там, одинокий и невидимый, в течение последующих двадцати лет. Согласно легенде, его единственными спутниками в те десятилетия были огромные ручные крысы и старые серые лягушки, которые прыгали вокруг раввина, как дрессированные собаки.
Сегодня дом с башней так и стоит в Коцке, сонном рыночном городке в тридцати милях к северу от Люблина (сегодня польский город Кок). Деревянные доски, покрывающие его снаружи, почернели от времени. У теперешнего хозяина есть огромная спутниковая тарелка и большая злая собака. Башня на деле меньше, чем можно было бы предположить по рассказам; кажется, в ней едва хватает места для одной мансардной комнаты. И все же ребе Коцкер провел там последние девятнадцать лет своей жизни. Из его окон открывался вид на весь город, от главной площади до дворца Яблонских, дома его покровительницы, красивой польской дворянки, пожертвовавшей землю под его синагогу.
Внешне в Коцке за последние полтора столетия мало что изменилось. Центральная площадь по-прежнему вымощена булыжником. Из дворца Яблонских по-прежнему открывается прекрасный вид на реку Вепш, обрамленный неоклассическими колоннами и аллеей старых каштанов, хотя сегодня дворец отдан под больницу для душевнобольных. Кроме дома ребе и братской могилы за городом, от еврейской общины ничего не осталось. Также нет ничего, что объясняло бы, почему ребе Коцкер почувствовал необходимость замкнуться в себе. Психический срыв? Или, как продолжали верить некоторые из его последователей после его смерти, его заставило уединиться нечто более глубокое – ощущение скрытого мира, существование которого, как он чувствовал, нужно держать в секрете?
Ко времени смерти Коцкерского ребе в 1859 году еврейская Польша почти полностью находилась в руках хасидов. В Литве религиозный ландшафт выглядел совершенно по-другому. Еврейская Литва придерживалась убеждений противников хасидов, поборников старой ортодоксии и исследовательских привычек под названием misnagdim. Духовным лидером направления выступал одаренный ученый, родившийся в 1720 году, по имени Еилия Зальман, более известный под почетным прозвищем Виленский Гаон. Илия был раввинским гением – люди подобного уровня рождаются раз в тысячелетие. При жизни Гаона и после него Вильнюс гудел от восторженного изучения Талмуда. Предполагалось, что мужчины любого сословия должны преуспевать в религиозных знаниях. Например, даже среди портных Вильнюса человек, изучавший только религиозный кодекс Hayye adam, считался невеждой.
Литовские евреи, или литваки, считали себя самыми образованными евреями Речи Посполитой, если не всего мира. Это не вызывало симпатии у польских соседей. Евреи в Варшаве, которые больше ценили преданность вере, чем ученость, высмеивали литовских евреев за их суровую набожность и забавный акцент. Даже мой дедушка, выросший недалеко от границы между двумя территориями, считал, что те евреи странно разговаривают. Для польских хасидов литваки казались ходячими мозгами, бессердечными людьми. Литваки же называли польских хасидов невежественными, суеверными и беспутными гуляками, которые способны напиться за столом своего учителя и которые отказываются учиться.
Раскол между хасидами и misnagdim разобщил евреев Польши и Литвы. Представители отдельных семей – и те разошлись по разные стороны баррикад. Иезекииль Котик родился в 1847 году в зажиточной православной семье в Каменце, местечке недалеко от города Бреста в Беларуси. Его дед был самым богатым и влиятельным человеком в городе – владел крупными арендными участками, руководил местной водочной монополией и держал на коротком поводке всех влиятельных российских чиновников. Отец Котика, Моше, должен был унаследовать бизнес, но в тринадцать лет, незадолго до намеченной свадьбы, сбежал, чтобы поступить на службу ко двору ближайшего хасидского раввина. В некоторых семьях, как, например, в семействе тестя Моше, после такого предательства родители демонстративно разрывали на себе одежду и отсиживали шиву, как если бы ребенок умер. Такое прижизненное оплакивание практически провели по Моше.
Каким-то образом под давлением семьи отец и сын в конце концов помирились, но разрыв так полностью и не преодолели. С тех пор дедушка Котик и остальные члены семьи отмечали праздники в главной синагоге. Моше сделал то же самое отдельно, с мужчинами из своего молитвенного дома. Кульминационным моментом года для Моше была не семейная Пасха, а ежегодная поездка ко двору раввина, где он сидел неделями, полностью пренебрегая домашними делами. Такой вот акт сопротивления. В свою очередь, сын Моше Иезекииль тоже восстал против отца. Несмотря на большие возлагаемые надежды, он понял, что не может стать хасидом, и в конце концов покинул родину ради жизни бродячего рабочего.
В конце концов Иезекииль поселился в Варшаве и начал вполне современную карьеру владельца кафе и одного из первых телефонов в городе. Однако воспоминания о детстве остались с ним. Когда в 1912 году он начал писать мемуары, они оказались очень важным свидетельством. Уже тогда местечковая жизнь его юности казалась затерянным миром, давно стертым с лица земли антисемитизмом, индустриализацией и массовой эмиграцией в Америку. Эмоциональной кульминацией воспоминаний Иезекииля является описание Йом Кипура таким, каким он отмечался в 1850-х годах. В этот единственный день в году ссоры между сыновьями и отцами, богатыми и бедными, хасидами и всеми остальными откладывались в сторону, община (хасиды и misnagdim) собиралась, чтобы как один покаяться в своих грехах:
«О те давние Дни Искупления. Боже милостивый, что же тогда происходило! Во время исполнения молитвы Кол Нидре прихожан в синагоге, казалось, охватывали чувства возбуждения и страха… Каждый изливал свое сердце Создателю, стоя посреди реки слез. Душераздирающие вопли с женской половины доносились до мужчин, и те присоединялись к своим женщинам и сами разражались хором рыданий. Плакали сами стены, камни на улицах вздыхали, дрожали от брезгливости к себе рыбы в воде. Как горячо молились эти люди – те самые евреи, которые в течение всего года жестоко сражались друг с другом до каждого гроша, за средства к существованию! Ни ненависти, ни зависти, ни жадности, ни коварства, ни проклятий, ни злых сплетен, ни еды, ни питья. Все сердца и взоры были обращены к Небу, везде витала духовность – простые бестелесные души».
В такие дни, как этот, можно было забыть, пусть и ненадолго, что евреи были народом в изгнании и что они жили на чужой земле среди гоев. Придерживаться этой мысли было вполне удобно, особенно в местечках и небольших городках Польши-Литвы, население которых преимущественно составляли евреи. Лорды-христиане жили в своих поместьях, а крестьяне-христиане работали в полях, но в городе, среди еврейских пивоваров, сапожников, портных, владельцев гостиниц и таверн, стекольщиков, студентов, нищих и часовщиков, можно было прищуриться и представить, что нееврейского мира вообще не существует.


