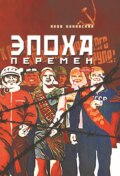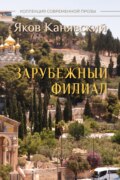Яков Канявский
Трагический эксперимент. Книга 6.
Первая любовь, как показывает практика, не бывает долгой, но запоминается на всю жизнь. Впрочем, Дзержинский очень быстро забыл Николаеву. Перед побегом Феликса они виделись. А когда ФД вернулся в Россию, то и думать забыл о Маргарите. Та же, кажется, помнила Дзержинского всю свою жизнь.
К концу своей жизни Николаева уехала в Пятигорск, где готовила книгу про поэта Лермонтова. Некоторые находят большое сходство между молодым Феликсом Эдмундовичем и Михаилом Юрьевичем в ранние годы…
В июле 1903 года в Берлине на 4‐м съезде Социал-демократии Королевства Польского и Литвы Дзержинский был избран членом Главного правления. Активно участвовал в Первой русской революции, в 1905 году возглавлял первомайскую демонстрацию в Варшаве, работал в Варшавской военно-революционной организации РСДРП.
В июле 1905 года на Варшавской партийной конференции Дзержинский был арестован и заключён в Варшавскую цитадель, в октябре освобождён по амнистии.
В 1906 году он был делегатом 4‐го съезда РСДРП, на котором впервые встретился с Владимиром Лениным и был введён в состав ЦК РСДРП как представитель СДКП и Л.
В 1906–1917 годах Дзержинский неоднократно арестовывался, заболел туберкулёзом. Был три раза в ссылке. С того момента, как в 17 лет он пришёл в революционную деятельность, на свободе почти не был. Шесть лет провёл на каторге и пять в ссылке. Иногда в кандалах. Иногда в одиночке. Иногда в лазарете. Жандармы предлагали свободу в обмен на сотрудничество – отказывался. Готов был к худшему. Явно не отрёкся бы от своей веры и перед эшафотом.
Он полагал, что нет оснований быть снисходительным к тем, кто держал его и его единомышленников на каторге. В борьбе не на жизнь, а на смерть он не считал себя связанным какими-то нормами морали.
Он сидел бы в тюрьмах вечно, но его, как и других политических заключённых, освободила Февральская революция. Он вошёл в состав Московского комитета РСДРП (б).
Летом 1917 года Дзержинский, находясь на лечении, заочно был избран во ВЦИК.
Член президиума ВЦИК. С декабря 1917 года по февраль 1922 года был председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), ГПУ и ОГПУ. Один из организаторов «красного террора». За твёрдость характера, доходящую до жестокости, его называли «Железный Феликс».
Его считали аскетом, поражались его целеустремлённости и принципиальности. Был у него очевидный интерес к следственной работе и испепеляющая ненависть к предателям.
Дзержинский считается непрофессионалом, но это он ввёл внутрикамерную «разработку» заключённых. К ним подсаживали агентов, которые выведывали то, о чём на допросах арестованные не говорили. Этому он научился у царских жандармов. Когда он сидел в тюрьме, провокаторы его возмущали. Когда сам стал сажать, мнение изменилось.
Настоящего расследования не проводили – для этого не было ни времени, ни умения, поэтому от следователя требовалось одно – добиться признания. Доносчиков, осведомителей, секретных агентов ценили как главный инструмент следствия.
ВЧК большевики создавали для того, чтобы расправиться с армией чиновников, которые бойкотировали новую власть и саботировали распоряжения Совета народных комиссаров. Но руководители партии быстро поняли цену органам госбезопасности как важнейшему инструменту контроля над страной.
Дзержинский потребовал права самостоятельно уничтожать врагов: «Право расстрела для ЧК чрезвычайно важно». 21 февраля 1918 года Совнарком утвердил декрет «Социалистическое Отечество в опасности!». Он грозил расстрелом как внесудебной мерой наказания «неприятельским агентам, германским шпионам, контрреволюционным агитаторам, спекулянтам, громилам, хулиганам».
Важно отметить эту формулировку: внесудебная мера наказания! Принцип: политическая целесообразность важнее норм права. И чекисты по всей стране без суда ставили к стенке тех, кого считали «врагами народа и революции». Попутно массово уничтожали и заложников, на которых никакой вины и вовсе не было.
Дзержинский заложил основы кадровой политики в ведомстве госбезопасности, назвав главным критерием преданность власти. Объяснял управляющему делами ВЧК Генриху Ягоде: «Если приходится выбирать между, безусловно, нашим человеком, но не особенно способным, и не совсем нашим, но очень способным, у нас, в ЧК, необходимо оставить первого…»
В учётной карточке председателя петроградской ЧК Семёна Лобова в графе «Образование» было написано: «Не учился, но пишет и читает». Неграмотность не мешала его успешной карьере. Лобов пошёл в гору после того, как в одну ночь арестовал в Петрограде 3 тысячи человек.
Дзержинский не был патологическим садистом, каким его часто изображают, кровопийцей, который наслаждался мучениями своих узников. Но уж очень быстро он привык к тому, что вправе лишать людей жизни. 2 августа 1921 года, уже после окончания Гражданской войны, приказал начальнику Всеукраинской ЧК Василию Манцеву:
«Ввиду интервенционистских подготовлений Антанты необходимо арестованных петлюровцев-заговорщиков возможно скорее и больше уничтожить. Надо их расстрелять. Процессами не стоит увлекаться. Время уйдёт, и они будут для контрреволюции спасены. Поднимутся разговоры об амнистии и так далее. Прошу Вас вопрос этот решить до Вашего отпуска…»
Иначе говоря, Дзержинский приказал казнить людей без суда и следствия, понимая, что этих людей вообще могут амнистировать! Феликс Эдмундович твёрдо был уверен, что уж он-то справедлив и зря никого не накажет. Наверное, не думал о том, что, присвоив себе право казнить и миловать и позволив другим чекистам выносить смертные приговоры, он создал систему полной несправедливости.
Во главе «карательного аппарата» ВЧК Дзержинский стал не только борцом с «белым террором», но и «спасителем» Республики Советов от разрухи. Благодаря его неистовой деятельности во главе ВЧК было восстановлено более 2000 мостов, почти 2,5 тыс. паровозов и 10 тысяч километров железной дороги.
Также Дзержинский лично отправился в Сибирь, которая на момент 1919 года была самым урожайным хлебным регионом, и проконтролировал заготовку продуктов, что позволило поставить в голодающие районы страны порядка 40 млн тонн хлеба и 3,5 млн тонн мяса.
Глава ВЧК также взялся за спасение молодого поколения России – он возглавил «детскую комиссию», которая помогла основать на местах сотни трудовых коммун и детских домов, которые были преобразованы из отобранных у богачей загородных домов и особняков.
Во время советско-польской войны 1920 года Дзержинский был членом Временного революционного комитета (ВРК) Польши в Белостоке.
Некоторые руководители партии и государства полагали, что после Гражданской войны чрезвычайщина не нужна, от услуг чекистов можно отказаться, а преступниками займутся милиция и прокуратура. Дзержинский нервничал, опасался, что созданное им ведомство распустят. Писал своему заместителю Вячеславу Менжинскому:
«Нам необходимо пересмотреть нашу практику, наши методы и устранить всё то, что может питать такие настроения. Это значит, мы должны, может быть, стать потише, скромнее, прибегать к обыскам и арестам более осторожно, с более доказательными данными; некоторые категории арестов (нэпманство, преступления по должностям) ограничить… Необходимо обратить внимание на борьбу за популярность среди крестьян, организуя им помощь в борьбе с хулиганством и другими преступлениями».
Руководитель Наркомата юстиции Николай Крыленко обратился в политбюро: «ВЧК страшен беспощадностью своей репрессии и полной непроницаемостью для чьего бы то ни было взгляда». Он бил тревогу: чекисты не передают дела арестованных в суд, а выносят приговоры внесудебным путём – через особое совещание и «судебную тройку». Крыленко предлагал ограничить строго и жёстко права ГПУ на внесудебный разбор дел, следствие поставить под контроль прокуратуры.
Дзержинский отверг предложения Крыленко: ведомство госбезопасности не правосудие осуществляет, а уничтожает политических врагов. Главный чекист возмущался: «Практика и теория наркомата юстиции ничего общего с государством диктатуры пролетариата не имеют, а составляют либеральную жвачку буржуазного лицемерия. Во главе прокуратуры должны быть борцы за победу революции, а не люди статей и параграфов. Я уверен, что наркомат юстиции растлевает революцию».
Если бы не Дзержинский, ведомство госбезопасности, возможно, вовсе бы исчезло после Гражданской войны и судьба России сложилась иначе. Феликс Эдмундович превратил своё ведомство в инструмент тотального контроля и подавления. Конечно, указания о репрессиях шли сверху, но чекисты не только прилежно исполняли приказы, но и, доказывая свою полезность, сами проявляли инициативу, придумывали врагов и фальсифицировали дела. Жестокость и беспощадность оправдывались и поощрялись. За либерализм могли сурово наказать, за излишнее рвение слегка пожурить.
Беззаконие, массовый террор не могли не сказаться на психике людей и представлениях о жизни. Вот почему гражданская война продолжилась в мирное время.
В апреле 1921 года назначен наркомом путей сообщения, одновременно занимал посты председателя ВЧК и наркома внутренних дел. С 1921 года Дзержинский был председателем Комиссии по улучшению жизни детей при ВЦИК.
С 1920 года поддерживал Иосифа Сталина в его борьбе с Львом Троцким за власть. После лишения ГПУ права выносить смертные приговоры в 1922 году добился создания при НКВД Особого совещания, где он являлся председателем, с правом ссылать «контрреволюционеров». Был одним из вдохновителей высылки в 1922 году за рубеж многих известных деятелей науки и культуры.
В 1922 году Дзержинский возглавил Высший совет народного хозяйства – ВСНХ СССР. С 1924 года – член Оргбюро и кандидат в члены Политбюро ЦК РКП (б).
В 1924 году Феликс Дзержинский стал главой Высшего народного хозяйства СССР. На этом посту революционер с полной самоотдачей принялся бороться за социалистическое переустройство страны. Он выступал за развитие частной торговли, для которой требовал создать благоприятные условия. Также «железный» Феликс активно занимался вопросами развития металлургической отрасли в стране.
При этом он боролся с левой оппозицией, так как она угрожала единству партии и проведению Новой экономической политики. Дзержинский выступал за полное преобразование системы управления страной, опасаясь того, что во главе СССР встанет диктатор, который «похоронит» все результаты революции.
Он был очень скромен и достаточно бескорыстен, никогда не пьянствовал и не воровал. Кроме этого, глава ВЧК завоевал себе репутацию абсолютно неподкупного, непоколебимого и настойчивого человека, который хладнокровно достигал своих целей ценой жизни «неверных».
В большой политике Феликс Эдмундович не преуспел. Он так и не стал членом Политбюро, остался кандидатом. Менее авторитетные в партии люди легко обошли его на карьерной лестнице. Ленин не особо его жаловал и не выдвигал в первый ряд. «Это был фанатик, – вспоминал Дзержинского философ Николай Бердяев. – Он производил впечатление человека одержимого. В нём было что-то жуткое. В прошлом он хотел стать католическим монахом, и свою фанатическую веру он перенёс на коммунизм».
Феликс Дзержинский продолжает бороться с высокопоставленными коррупционерами. 1 января 1926 года Ф. Э. Дзержинский на Пленуме ЦК ВКП (б) выступает с речью, в которой разоблачает лидеров «новой оппозиции». 9 июля 1926 года Дзержинский на совещании ответственных работников ВСНХ СССР произносит речь «На борьбу с болезнями управленческого аппарата». 14–20 июля 1926 года Дзержинский участвует в работе объединённого Пленума ЦК и ЦКК ВКП (б), где прямо говорит о вопиющих злоупотреблениях высших должностных лиц.
Чудес в жизни Феликса Эдмундовича Дзержинского было много. Он чудом выжил в автомобильной катастрофе, которая унесла жизнь его шофёра, чудом не умер от туберкулёза за 11 лет тюрем и каторги, на которые его раз за разом приводила его революционная деятельность. Чудом не был застрелен врагами в ходе Гражданской войны. И чудом спасся, когда в окно его кабинета на Лубянке кто-то бросил гранату. Но даже в жизни человека, которого родители назвали счастливым, чудеса рано или поздно кончаются. Дзержинскому их хватило только до 49 лет.
20 июля 1926 года Феликс Дзержинский резко выступал в Москве на пленуме ЦК.
По свидетельству Анастаса Микояна, на пленуме «Дзержинский почувствовал себя плохо и, не дождавшись конца заседания, вынужден был с нашей помощью перебраться в соседнюю комнату, где лежал некоторое время. Вызвали врачей. Часа через полтора ему стало получше, и он пошёл домой. А через час после этого его не стало…»
По заключению врачей, причиной смерти революционера стал сердечный приступ, который случился с ним во время двухчасового эмоционального доклада, посвящённого состоянию экономики СССР. Но возникает ощущение, что вскрытие производилось кое-как, наспех, – и уж точно никто не искал в теле Дзержинского следов яда, о таких поисках в описании вскрытия речи не идёт.
Известно, что проблемы с сердцем у главы ВЧК были обнаружены ещё в 1922 году. Тогда врачи предупреждали революционера о необходимости сократить рабочий день, так как чрезмерная нагрузка убьёт его. Несмотря на это, 48‐летний Дзержинский продолжал полностью отдаваться работе, в результате чего его сердце остановилось.
Похоронен в Москве на Красной площади. С тех пор прошло уже без малого 100 лет, но ответа на вопрос, что же стало истинной причиной смерти «первого чекиста» страны Советов, до сих пор нет.
Феликс Дзержинский был женат на Софье Мушкат (1882–1968), участнице революционного движения в Польше и России. В Советской России она работала в Наркомпросе, в Польском бюро при ЦК РКП (б). Была научным сотрудником и ответственным редактором в институте Маркса ‒ Энгельса ‒ Ленина, работала в аппарате исполкома Коминтерна.
Их сын Ян родился в 1911 году в Варшавской женской тюрьме во время заключения матери. Окончил военно-инженерную академию, с 1943 года работал в аппарате ЦК ВКП (б). До 1953 года жил с женой и сыновьями в Кремле, затем в Доме на набережной. Скончался в 1960 году в Москве.
Дзержинский был награждён орденом Красного Знамени (1920).
Его именем названы города в Московской и Нижегородской областях. Его имя носят почти 1,5 тысячи улиц, площадей и переулков России.
Среди многочисленных памятников Феликсу Дзержинскому наиболее известен памятник, установленный в 1958 году в Москве на Лубянской площади. В августе 1991 года памятник был свергнут с постамента и позднее помещён в парк искусств «Музеон».
Революционная деятельность «железного Феликса» в современном обществе оценивается неоднозначно – одни считают его героем и «грозой буржуазии», а другие вспоминают как безжалостного палача, ненавидевшего всё человечество. Данные свежего опроса ВЦИОМ у многих вызвали шок: оказывается, и сегодня почти половина россиян поддерживает возвращение Железного Феликса на Лубянскую площадь.
Алексей Алексеевич Брусилов родился в Тифлисе, сын генерала. Образование получил в пажеском корпусе, откуда был выпущен в 15‐й драгунский Тверской полк. В 1877–1878 гг. участвовал в русско-турецкой войне. В 1881 году поступил на учёбу в Петербургскую кавалерийскую школу. В последующие годы Брусилов занимал должности старшего учителя верховой езды и выездки лошадей, начальника отдела эскадронных и сотенных командиров, помощника начальника школы, вырос в чинах до генерал-майора (1900), был причислен к штату лейб-гвардии. Его знали и ценили руководители Военного министерства, главный инспектор кавалерии великий князь Николай Николаевич. Брусилов пишет статьи о кавалерийской науке, посещает Францию, Австро-Венгрию и Германию, где изучает опыт верховой езды и работы конных заводов. В 1902 году Брусилов по праву был выдвинут на должность начальника Петербургской кавалерийской школы. «Лошадиная академия», как её шутливо называли в армии, под его руководством сделалась признанным центром подготовки командного состава русской кавалерии.
Алексей Брусилов искренне ценил прямого, как он часто выражался: «толкового» «русского мужика» Александра III, на период правления которого пришёлся бурный рост его военный карьеры. Тем не менее с Николаем II отношения у Брусилова не складывались.
Его второй любовью стала Надежда Владимировна Желиховская, племянница знаменитой русской оккультистки и теософки Елены Петровны Блаватской.
В 1906 году Брусилов по протекции великого князя Николая Николаевича был назначен начальником 2‐й гвардейской кавалерийской дивизии, где заслужил большое уважение подчинённых своим командирским искусством и уважительным отношением к офицерам и солдатам. Но личная драма – смерть жены, а также гнетущая обстановка петербургской жизни после революции 1905–1906 гг. подтолкнули его к решению уйти из рядов столичной гвардии в армию: в 1908 году Брусилов получил назначение в Варшавский военный округ командиром 14‐го армейского корпуса с производством в генерал-лейтенанты. В 1912 году Алексей Алексеевич принял предложение занять пост помощника командующего Варшавским военным округом. Трения с генерал-губернатором Скалоном и другими «русскими немцами» в штабе округа вынудили его покинуть Варшаву и занять должность командира 12‐го армейского корпуса в соседнем Киевском военном округе.
С объявлением 17 июля 1914 года общей мобилизации российский Генеральный штаб развернул войска Северо-Западного и Юго-Западного фронтов, и в составе последнего Брусилову было поручено командовать 8‐й армией. С началом военных действий армия приняла участие в Галицийской битве. 2 августа Брусилов получил приказ о наступлении, и через три дня его войска двинулись от Проскурова к границе с Австро-Венгрией: началась Галич-Львовская операция, в которой 8‐я армия действовала совместно с 3‐й армией генерала Рузского.
Поначалу австро-венгерские войска оказывали слабое сопротивление, и части 8‐й армии за неделю продвинулись в глубь Галиции на 130–150 километров. В середине августа у рек Золотая Липа и Гнилая Липа противник попытался остановить наступление русских армий, но в ходе ожесточённых сражений был разгромлен. Брусилов докладывал командующему фронтом: «Вся картина отступления противника, большая потеря убитыми, ранеными и пленными ярко свидетельствуют о полном его расстройстве».
Австро-венгерские войска оставили Галич и Львов. Галиция была освобождена. За победы в Галицийской битве Алексей Алексеевич был удостоен орденов святого Георгия 4‐й и 3‐й степеней. Волею судеб соратниками Брусилова в рядах 8‐й армии являлись будущие вожди Белого движения: генерал-квартирмейстером штаба армии был А. И. Деникин, командиром 12‐й кавалерийской дивизии – А. М. Каледин, 48‐й пехотной дивизией командовал Л. Г. Корнилов.
Зимой – весной 1915 года Брусилов руководил 8‐й армией в Карпатской операции Юго-Западного фронта. На Венгерской равнине русские войска натолкнулись на встречное наступление австро-венгерских и германских корпусов. В зимнюю стужу и весеннюю слякоть 8‐я армия вела упорные встречные бои с противником; она обеспечила сохранение блокады крепости Перемышль и тем предопределила её падение, неоднократно вела удачные наступательные действия.
Брусилов часто появлялся в передовых частях, не заботясь о личной безопасности. В своих приказах «первейшей обязанностью» всех подчинённых ему командиров он ставил заботу о солдате, его пище и сухарях. При посещении Николаем II Галиции Брусилов был удостоен звания генерал-адъютанта, чему он не особенно радовался в предвидении скорых осложнений на фронте.
В результате Горлицкого прорыва германских войск к середине лета 1915 года русские армии оставили Галицию. Упорным сопротивлением 8‐й и других армий Юго-Западного фронта положение было выровнено. Потянулась длинная череда позиционных боёв, не приносившая ни одной из сторон ощутимых успехов и получившая название «позиционного тупика».
В марте 1916 года бездеятельного и осторожного командующего фронтом генерала Н. И. Иванова сменил пользовавшийся авторитетом Брусилов, прославившись своим знаменитым наступлением летом 1916 года (Брусиловский прорыв). Перед началом наступления Брусилову чинили неоднократные препятствия со стороны Ставки. Сам Брусилов характеризовал политику верховного командования следующим образом: «Шаг вперёд, шаг назад». План его наступления, который был стратегическим новшеством для того времени, заключался в том, чтобы произвести по одному прорыву на фронте в четырёх частях своей армии. До этого, как говорится, «били клином» – вели наступление всеми силами по одной линии. Такого варианта операции придерживался главнокомандующий Алексеев и сам Николай II.
Слабая поддержка других фронтов и недостаток резервов вынудили Брусилова прекратить наступление и перейти к оборонительным действиям. Но Брусиловский прорыв стал, по сути, переломным моментом в Первой мировой войне, чаша весов склонилась в пользу Антанты. За разгром австро-венгерской армии и взятие сильно укреплённых позиций на Волыни, в Галиции и на Буковине Алексей Алексеевич был награждён Георгиевским оружием, украшенным бриллиантами.
Во время событий Февральской революции он принял заметное участие в давлении на императора Николая II с целью подписать отречение. После увольнения генерала Алексеева 21 мая 1917 года был назначен Верховным главнокомандующим. Однако Брусилов оказался в сложнейшем положении: с одной стороны, полководец по-прежнему стоял за продолжение войны до победного конца, с другой – поддерживал проведение в армии демократизации, которая в условиях нараставшей революционной пропаганды вела к падению дисциплины и боеспособности войск. Именно поэтому 19 июля он был заменён на этом посту более «твёрдым» Корниловым и отозван в Петроград в качестве военного советника правительства.
Пережив Февральскую революцию и июньское наступление 1917 года, окончившееся для России трагедией, Брусилов со стоическим равнодушием перенёс Октябрьскую революцию. Он не поддерживал политику большевиков, ратуя за монархию под руководством, как сам он часто говорил, «нового Наполеона». Но Брусилов напрочь отказался возглавить московское антибольшевистское выступление юнкеров, произошедшее в конце октября – начале ноября 1917 года. По словам участников восстания, отказ Брусилова явился для них «страшным ударом».
Тем не менее личная трагедия заставила его изменить свои приоритеты и встать на сторону Красной армии. Тяжёлый период Гражданской войны затронул каждую русскую семью. В семье Брусиловых своё несчастье – не выдержав тягот Октябрьской революции и последующей проблемы безработицы для бывшего гвардейского офицера, сын четы Алексей убегает из дома. Долгое время до отца доходили лишь противоречивые слухи о его судьбе. Но однажды, уже в конце декабря 1919 года, на страницах газеты «Боевая правда» он прочёл короткую заметку: «Белые расстреляли б. корнета Брусилова». С ужасом читал отец: «В Киеве по приговору военно-полевого суда белыми расстрелян б. корнет Брусилов, сын известного царского генерала. Он командовал красной кавалерией и попал в плен к белым в боях под Орлом». Вот и вся заметка. Деяние это приписывали Деникину, с которым у Брусилова отношения не сложились ещё во времена Временного правительства.
Именно эта короткая запись определила последующие действия Брусилова, который быстро получил назначение на должность главного кавалерийского инспектора РККА. В 1919 году вступил в Красную армию. Осенью 1920 года Алексей Алексеевич в числе прочих военных и гражданских руководителей Советской России подписал «Воззвание к офицерам армии барона Врангеля», гарантировавшее прощение и безопасность всем, кто прекратит борьбу с советской властью. Многие поверили и поплатились жизнью за свою наивность: офицеры, отказавшиеся эвакуироваться из Крыма, были казнены практически поголовно…
С 1920 года служил в центральном аппарате Наркомвоена, в 1923–1924 гг. – инспектор кавалерии РККА, с 1924 года состоял для особых поручений при РВС. Службу свою на благо нового правительства Брусилов преданно исполнял, пока здоровье позволяло. Умер он в 1926 году в Москве от воспаления лёгких. Советская власть отнеслась к бывшему царскому полководцу уважительно: он был похоронен со всеми воинскими почестями на Новодевичьем кладбище.
А эмиграция навсегда заклеймила его «предателем».
15 (27) октября 1871 г. в обрусевшей польской дворянской семье в Москве родился Вацлав Вацлавович Воровский, российский политический деятель, публицист, литературный критик; один из первых советских дипломатов. Бунтовать начал ещё в лютеранской школе: писал вольнодумные стихи, выступал с речами на полулегальных собраниях учащихся. Свободно владел почти всеми значимыми европейскими языками, включая скандинавские. Воровский получил образование в средней школе при лютеранской церкви.
Обладая недюжинными математическими способностями, поступил сначала в 1890 году на физико-математический факультет Московского университета, потом, испытывая типичную для европейских учёных тех лет тягу к технике, перевёлся в Императорское московское техническое училище, уже тогда элитное и знаменитое – нынешнюю едва ли не лучшую в мире с точки зрения изучения инженерных дисциплин «бауманку».
Юношеское увлечение польскими национальными идеями довольно скоро прошло: семья была для этого чересчур «обрусевшей», а русский язык – бесспорно родным. Но вот левым интеллектуалом Вацлав Вацлавович оставался всегда, пожизненно.
В русском революционном движении – с 1894 года. Высылался в Вологду и Вятку. После ссылки перебрался в Женеву. Сотрудничал в газете «Искра». В 1903 году Воровский тайно прибыл в Одессу для подпольной работы. После II съезда РСДРП он примкнул к большевистской фракции: вёл активную партийную работу, принимал деятельное участие в редактировании журнала «Вперёд» и заменившего его впоследствии издания «Пролетарий». После революционных событий 1905 года был избран руководителем III съезда РСДРП, а в 1906 году участвовал в работе IV съезда РСДРП в Стокгольме.
В 1907–1912 гг. Воровский находился в Одессе, руководил партийной работой и одновременно сотрудничал в «Одесском обозрении», «Ясной заре» и «Одесских новостях». В 1912 году он был снова арестован и выслан в Вологду. После 2‐летней ссылки революционер вернулся в Петербург, продолжив партийную и литературную работу.
Как человек необычайной литературной одарённости, мгновенно стал одним из самых авторитетных авторов «Искры», сотрудничал в большевистских и не только газетах и журналах, занимался закупкой оружия для боевых дружин. И – очень много писал. Много и очень качественно.
И через какое-то время стал, как сейчас бы сказали, «одним из столпов» современного ему русского литературного процесса. Выступал против теории независимости искусства от окружающей действительности. Ругался с «веховцами». Поддерживал прозу Бунина и Куприна, причём Куприну, как сказали бы сейчас, вообще «сделал имя». Ненавидел деградацию и декаданс, но при этом его мнение очень высоко ценилось что «символистами» (такими как Бальмонт, Брюсов, Белый и Блок), что «акмеистами» из «Цеха поэтов» (Гумилёвым, Городецким, Ахматовой).
Не любил нигилизм и нигилистов, после его статьи 1909 года «Базаров и Санин. Два нигилизма» и была уничтожена литературная репутация писателя Арцыбашева – того самого, который потом вдогонку обзывал убитого «палачом».
Достаточно сказать, что литературоведческие и критические статьи Воровского переиздавались вплоть до 1971 года, а многие из них для специалистов и до сих пор более чем актуальны.
После Февральской революции Воровский вошёл в состав Заграничного бюро Центрального Комитета РСДРП (б) в Стокгольме, сформированного по предложению лидера партии В. И. Ленина. В октябре (ноябре) 1917 года Вацлав Вацлавович был назначен полномочным представителем нового российского правительства при скандинавских государствах; в 1919 году вернулся в Россию, заняв пост заведующего Государственным издательством.
С 1921 года Воровский был назначен полномочным и торговым представителем советского правительства в Италии. В следующем году он принял участие в Генуэзской конференции, в ещё через год назначен в состав советской делегации на Лозаннскую конференцию.
10 мая 1923 года Вацлав Вацлавович Воровский был убит в ресторане отеля «Сесиль» в Лозанне бывшим белогвардейцем Морисом Конради. Тело дипломата было перевезено в Москву и погребено в братской могиле на Красной площади. Дипломатические и торговые отношения между Советским Союзом и Швейцарией были разорваны до 1946 года.
Это был тот самый случай, когда смерть одного интеллектуала и не самого масштабного чиновника по дипломатическому ведомству действительно потрясла всю культурную Россию. Об этом даже стихи писали все – от маститого и великого Владимира Маяковского до молодого и прославленного в будущем далеко не стихами Леонида Ильича Брежнева.
Однако для «культурной России» важно было даже не это: Воровский был для неё не столько дипломатом, сколько одной из важнейших фигур русского литературного процесса начала ХХ века, одним из самых культовых публицистов и авторитетных литературных критиков той русской литературы.
Застрелив Воровского и ранив двух его помощников, Конради отдал револьвер метрдотелю со словами: «Я сделал доброе дело – русские большевики погубили всю Европу. Это пойдёт на пользу всему миру». Освещавший процесс уехавший в том же году в эмиграцию писатель Михаил Арцыбашев писал: «Воровский был убит не как идейный коммунист, а как палач. Убит как агент мировых поджигателей и отравителей, всему миру готовящих участь несчастной России».
Здесь писатель Арцыбашев просто постыдно врал, причём по сугубо личным мотивам: классический «левый интеллектуал» сугубо «профессорского типа» Вацлав Воровский никогда не был никаким «палачом», а Арцыбашев просто тешил давнюю обиду. Его, «ницшеанского героя светских гостиных» литературный критик Воровский в своё время приложил так, что сама фамилия Арцыбашева надолго стала синонимом слова «пошлость» и его просто перестали читать и приглашать в «приличные места».
Но эта фраза была охотно подхвачена как оправдавшими Конради швейцарскими присяжными и всем «свободным миром», так и многими современными, внезапно почувствовавшими себя «белыми» либеральными публицистами, которые ради такого случая радостно презрели как само понятие «терроризма» и «дипломатической неприкосновенности», так и обычную бытовую правду. Процесс удалось перевести из уголовного над убийцей и террористом в плоскость «осуждения большевизма»: ничего, в принципе, особенного, обычный «западный» двойной стандарт.